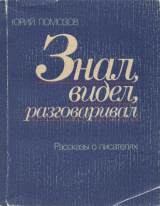
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Федин слушал внимательно – так, как только умеет слушать он: с прицельной сосредоточенностью всего существа в остром и твердом взгляде, при полной неподвижности на стуле, словно опасался, что каждое его, пусть нечаянное движение может, подобно выскочившему порожистому камню, нарушить плавное течение рассказа собеседника.
Когда я умолк, Константин Александрович не возразил мне, но и не выразил одобрения моим запальчивым словам. Какая-то кроткая размягченность пропитала острые черты его суховатого, с орлиным профилем, лица, а щеки тонко порозовели, тронутые жаром скрытого, где-то у сердца закипающего волнения.
– Знаете, летом двадцатого года мне, тогдашнему корреспонденту «Петроградской правды», посчастливилось присутствовать на открытии очередного конгресса Третьего, Коммунистического Интернационала…
В голосе Федина, уже незнакомом, глуховатом, чувствовалась медленная раздумчивость: он словно бы еще сгущал напряженным усилием памяти драгоценные россыпи воспоминаний. Но едва он произнес слово «Ленин», речь его убыстрилась, голос набрал звучную силу, все слова празднично засветились. И я как бы воочию увидел Владимира Ильича: вот он торопливо идет через весь зал, и его голова, наклоненная вперед, точно рассекает встречный поток воздуха и прибойный гул аплодисментов; а вот, стоя уже на кафедре, он долго перебирает бумажки – ждет, пока не угомонится бушующий зал, наконец не выдерживает – вскидывает руку, начинает трясти ею, но когда и это не помогает – принимается сердито постукивать по циферблату часов.
И, оживляясь, Федин порывисто выкинул левую руку, подержал ее на отлете, как бы показывая часы… и вдруг принялся крепко, ребристо приударять по твердой ладони двумя соединенными пальцами правой руки, причем приударял с веской артистической пластичностью (ведь он когда-то был актером) и все больше, казалось, воодушевлялся дорогими воспоминаниями молодости: играл в такт речи бровями и всеми мускулами разгоревшегося лица.
– Конечно же, я написал об этой встрече. Образ Ленина, несмотря на отпущенные мне два небольших столбца газетного набора, получился наглядным, да жаль, в композиции недоставало воздуха, пространства. Тогда-то у меня и возникла мысль написать рассказ. А случилось это так: перечитывал я как-то свой очерк и обратил внимание на одну фразу – про то, как художник пересаживался с места на место, чтобы получше зарисовать Владимира Ильича…
Я слушал Федина, невольно припоминал его, ставший уже хрестоматийным, рассказ «Рисунок с Ленина», и мне казалось, что Константин Александрович мягко и ненавязчиво, самим жизненным фактом, отстаивал право писателя и на внешнюю изобразительность вождя, но при одном решающем условии: если неподдельное волнение художника возвышает его до избранной ответственной темы и если дорогой образ, прежде чем утвердиться на бумаге, прошел сквозь твое сердце и стал л и ч н о дорогим тебе.
* * *
Удивительно прост Федин в обращении – чувствуешь, что разговариваешь с человеком чуть ли не равным тебе по годам, другом-единомышленником, поневоле забываешься и держишься сам естественно, без натянутости.
И все-таки… все-таки я постеснялся прочитать из новой своей книги главку, заранее припасенную на случай встречи, – вот эту самую главку:
Не могу представить Сызрань без молодого Федина!
Вот он, одержимый жаждой сотворения новой жизни, гордый сознанием причастности своей судьбы к судьбе народа, весь как бы раскованный после вынужденного замкнутого прозябания в немецком плену, приезжает зимой 1919 года в глухую уездную Сызрань. Он худ, угловат совсем по-юношески, но в его высокой, гибкой фигуре, в остро выпирающих при ходьбе коленях – напряженная готовность бойца к броску. Его чутко раздвинутые уши точно бы прислушиваются к дыханию притаившейся незнакомой жизни; в синем взгляде волгаря – пытливая и тревожная сосредоточенность разведчика, первооткрывателя…
Вскоре Федин пишет отцу в Саратов:
«Я издаю, вернее, буду издавать и редактировать литературный, научный и политический журнал (вероятно, еженедельник). За отсутствием литературных сил придется нести всю работу на своих плечах. В моем распоряжении типография и небольшой штат служащих литературно-издательского подотдела, которым я заведую».
Новорожденный журнал назывался «Отклики», он вышел только семь раз, но в горечи этой неудачи для молодого Федина таилась некая искупительная отрада: ничего, что этот рахитичный ребенок, рожденный, казалось, одной дерзостью горячей молодости, не оправдал скромных ожиданий уездного городка, зато какую жажду творчества он пробудил в рабочих, в крестьянах! «Ну а для меня, мечтающего о писательстве, – рассуждал Федин, – разве ж бесплодной была попытка издавать журнал? Я же тут прошел свой подготовительный класс необходимых работнику печати навыков, Я понял цену ответственности, смелости, самокритики, умению сотрудничать с товарищами и смотреть на любой труд в редакции одинаково уважительно».
Вихревая неугомонная молодость! Федин произносит речи на площадях, с балконов, в театре; он редактирует уездную газету и работает секретарем городского исполкома; он – лектор и учитель; он, наконец, собирает добровольцев в красную конницу…
Брожу по улицам Сызрани с думой о Федине: «Да, здесь он, мужающий, стремительный, жал с отсветом красных знамен в глазах! Здесь он, после долгих лет плена и душевного одиночества, припал по-сыновьи к груди матери-Родины, вдохновленный ее новой прекрасной судьбой!»
* * *
Разговаривая, Константин Александрович часто прикусывает заушник очков, забывчиво оставляет его во рту, как заветную трубку курительную – ту самую, которая прославлена на многих фотографиях и рисунках, а сейчас лежит, бездымная, подобно потухшему угольку, на краю стола, среди коробочек и склянок с лекарствами и, должно быть, чувствует на себе их давящую укоризну: дескать, сколько лет ты отравляла хозяина, и вот теперь нам приходится замаливать твои горькие грехи – подлечивать его расстроенное здоровье!..
Что могла ответить трубка, если бы опять вдохнули в нее огонь и опять закурчавился из нее душистый дымок?
Она, быть может, так ответила бы, с вкусным посапыванием и легким шипучим потреском сгорающего табака:
«Когда-то вместе с моим жаром пылало вдохновение хозяина, мой дымок увлекал вдаль его мысль, и жили мы дружно, друг другу в радость, и не чаяла я, что служба моя полезная обернется во вред. Но все-таки хозяин хоть и не курит больше, а не бросает меня: значит, дорога́ я ему доброй памятью, – дорога, как и каждая написанная страница. Так чего же вы меня корите, если он не корит и только ласково и грустно поглядывает на меня?»
* * *
Сутулится он круто, необоримо – подчас кажется, что его затылок вот-вот коснется взгорбка спины. И однако ж это не стариковская, а чисто профессиональная сутулость – она рождена порывистой устремленностью художника… к листу бумаги, подвижническим трудом взыскательного мастера, который может часами самозабвенно отделывать каждую страницу, часами не выпрямлять спины.
Вот уж поистине можно сказать: годы пригибают К. А. Федина не к земле, а все ниже и ниже – к письменному столу.
* * *
Полюбопытствовал я осторожно:
– А ваш «Костер», Константин Александрович, все разгорается?
В ответ горестный взмах длинной и гибкой фединской руки:
– Где там! Медленно идет дело! Ведь я не только «свободный художник», но и лицо должностное. Вот и приходится вникать во многие дела по нашему писательскому ведомству.
– А помощники?..
– Нет! – ответил Федин пылко, с молодой обидчивостью. – Нет, я уж сам, сам стараюсь во все вникать: привычка, привычка, ничего не поделаешь!
И только тут я вспомнил: ведь Константин Александрович – председатель правления Союза писателей СССР!
* * *
В нем, по-моему, нет сознания своей старости.
При разговоре он то и дело снимает очки – и тогда молодой яркой синью брызжут его глаза.
У него просторные, по-волжски размашистые и легкие жесты гибких артистических рук, но их как бы отяжеляют огромные ладони вечного труженика, привыкшего сжимать перо, как кузнец молот, – ухватисто, цепко, влюбленно. На этих ладонях морщин больше, чем на лице. Потому-то, наверно, и кажутся мне фединские руки – думающими. Да, да, думающими руками!
* * *
Недавно я читал начальные главы «Костра», а лучше сказать, пил медленными и неутоленными глотками родниковую свежесть фединской прозы.
Мне хочется выразить признательность мастеру, и я говорю, что роман его поражает эпическим спокойствием, прозрачностью тонов и оттенков при описании людей и природы, зрительной ощутимостью каждого человеческого жеста.
– Вот у вас, Константин Александрович, – замечаю я, – гостья к Веригиным приехала, так она все кофту этак вот – щипками – обдергивает, а я через эти «щипки» вижу весь ее драчливый, занозистый характер.
Федин смущенно откликается:
– Да ведь так и вы можете изображать.
– Нет, – продолжаю я, волнуясь, – это же целое откровение! Как бы иной написал? А просто: «Женщина обдергивала кофту». И фраза была бы необязательной, невещественной, что ли, и скользнула бы мимо сознания. Да и «скользят» такие фразы, когда читаешь иные книги: не на чем глазу остановиться!
Константин Александрович откинулся слегка, выставил щитком ладонь – будто бы отбивает горошины похвальных слов. Но я эгоистичен в своем стремлении – вот так прямо, в упор, выразить художнику радость приобщения к миру прекрасного искусства, й продолжаю упрямо:
– А сколько «вкусных» слов в вашем романе! «Обиход», «оборотье», «рассоха»… Действие в первых главах происходит на Смоленщине, значит, это тамошние, областные слова?
– Не всегда, – с застенчивой улыбкой отзывается Федин. – Я к смоленскому говору примешиваю речения из других областей: ведь все равно это русский язык.
Меня давно заботит «скудобедность» нынешнего литературного языка и то, что почти каждое яркое слово местной закваски предается анафеме в статьях даже и очень почтенных критиков. А между тем, по моему разумению, приток областных слов во многом может избавить наш язык от болезненного малокровия, усвоенной книжности, когда готовые слова и речевые обороты точно берутся на прокат.
Своими мыслями я делюсь с Фединым – он отвечает не спеша, веско:
– Писатель, конечно, должен пополнять свой словарь областными выражениями, но все дело тут в том, чтобы отбор слов для общенациональной русской литературы был одновременно и необходим и удачен. Слово, которое имеет хождение в ограниченном крае страны, способно приобрести всеобщность. Но в каком случае? А в том, если понятие, обозначенное этим словом, не располагает в языке более метким и определительным, если оно широко доступно для понимания и не противно слуху.
* * *
Не всегда выдерживаешь фединский взгляд…
Вот голубизна его глаз сгущается до синевы, сходится в некую прицельную точку – и вдруг как бы вырывается из-под бровей острой вспышкой внимания к человеку, в стремлении уяснить его суть. Почти физически, как если бы это была заноза, ощущаешь проникновение фединского взгляда в глубь твоего существа, а с ним – медленное и цепкое погружение чужой пытливой мысли в твои. И такая же физическая ощутимость взгляда возникает, когда он, извлекший из души собеседника что-то питательное для раздумий о нем, медленно втягивается назад, под брови, как бы задымливается ими, чтобы не рассредоточиться и не утратить цельность вынесенного впечатления о человеке.
* * *
Прямые гладкие волосы его, часто свисающие, отливают серебристой нежностью милых наших русских берез.
Да, он истинно русский писатель, взвеянный степным волжским простором на ту высоту национального искусства, которая, пожалуй, недосягаема для многих, даже крупных писателей современности. А критики и литературоведы как-то невнятно говорят о сыновьем сродстве Константина Федина с отчей землей; читаешь их книги, статьи – и порой недоумеваешь: неужто вот так сразу, без отталкивания от родного порога, он сделал первые шаги в литературу, к вершинам мировой славы?..
Своеобразие именно русского таланта Федина хорошо чувствовал А. Фадеев. В «юбилейном» письме Константину Александровичу он писал проницательно:
С того момента, как я прочел «Города и годы», первую из твоих книг, какую мне довелось прочесть, и с первых дней нашего личного знакомства я почувствовал в тебе ту предельную писательскую честность, которая является одной из главных черт именно русской литературы. Глубоко национальные истоки «Братьев» только укрепили во мне это чувство.
* * *
Поглаживая краешек дубового стола, говорю совестливо:
– Вот повидал вас, Константин Александрович, поговорил – пора и честь знать.
Он – уторопленно:
– Ничего, ничего, мы сейчас поужинаем, вы о себе расскажете… Да вон, кстати, и ужин дочка принесла! Идемте-ка в гостиную.
– Нет, – бормочу я раскаянно, упрямо, – отвлек вас от работы, помешал…
А Константин Александрович тут же весело и подхватил:
– Русский писатель любит, чтоб ему мешали. Это еще Чехов сказал, авторитетный, надобно заметить, литератор. Да-с.
* * *
Так же незаметно, как свет кабинета переливается в яркую гостиную, оказываешься в большой комнате.
Слева – выбеленный камин с тщательно прорисованным кирпичом, резко, энергично вылепленный бюст К. А. Федина, приземистый стул, на который пирамидой уложены роскошные издания столь могучих книг, что им ни на одной полке не уместиться; справа – длинный, во всю стену, стеклянный книжный шкаф, тут же, за стеклом, выставлены фотографии (среди них редкий портрет молодого Горького), пестрые коробочки, шкатулки, автограф Блока под спасительным целлофаном – кстати, любимого поэта Федина, и вообще тут много других, явно подарочных вещей; а прямо, перед широким клетчатым окном, в которое, кажется, увидишь самые далекие российские дали, не будь оно сейчас разузорено кудреватым проказником морозом, – кипень вечнозеленых, самых причудливых растений: от маленькой кокетливой пальмы до колюче-угрюмого кактуса…
В общем, от гостиной веет некоей музейностью, даже холодком неприкасаемости. Но это ощущение длится до тех пор, пока хозяин, мягко перетаптываясь, рядом в своих матерчатых тапочках, не просит гостя садиться за маленький, на два человека, круглый стол, снежно белеющий твердой, накрахмаленной скатертью, призывно мерцающий льдистыми гранями прозрачнейшего графина, и к тому же очень затейливого, ибо внутри его, среди подрагивающих искорок жгучей влаги, упрятан стеклянный петух с огненным гребнем…
Я уже сел на стул, но Константин Александрович, сияющий какой-то милой домашней уютностью, все еще хлопочет рядышком, разрезает надвое яичницу, придвигает маринованные грибочки, паюсную икру, и все это проделывает с неподдельным изяществом и с душевностью самого хлебосольного хозяина, каким всегда отличались волжане, вскормленные доброй Волгой-матушкой.
Наконец и он уселся; мы помолчали, точно бы приглашая к нам на минутку, ради торжественности, подсесть тишину. И вдруг мягкий фединский голос произнес:
– За успех вашей работы.
* * *
О чем мы говорили за столом?
Федин расспрашивал меня о житье-бытье в Ленинграде, о родителях, о блокадной поре, и глаза его широко распахнулись, словно и они слушали; но когда я поведал об одном мрачном эпизоде голодных военных лет, он сцепил щеточки бровей, помрачнел, выговорил с участьем:
– Ну, о блокаде вам тяжело вспоминать, – и перевел речь на другое: – А у вас редкостное по нынешним временам отчество!
Я рассказал, как родители моего отца, уроженца глухой смоленской деревеньки, повезли новорожденного крестить в Монастырщину, богатое и славное село, но дорогой запамятовали, какое мудреное имечко собирались ему дать, переругались, перессорились на виду у церкви и всего честного народа, да тут поп – будь он неладен! – проявил инициативу: посоветовал наречь младенца Фомой.
– А вы бывали на родине отца?
– Нет… вообще не бывал на Смоленщине.
– Жаль, жаль… Прекрасный край! Я там провел немало отрадных дней – ходил-бродил по лесам, по полям вместе со своим другом Соколовым-Микитовым. Там меня сама Россия поила ключевой водой, а народ – чистыми родниками своей поэзии… Да вот, погодите, поужинаем, я вам книжечку Расторгуева покажу – о смоленских говорах. Весьма питательная книга! И – вдохновляющая! Взглянете на нее – и, может быть, потянет вас на отцовскую родину.
* * *
Выпили за здоровье Константина Александровича.
Я шутливо сказал, что грешно болеть здесь, в холмистом сосновом Подмосковье, где воздух бодрящ и крепок, где можно поставить рекорд писательского долголетия.
Федин улыбнулся, потом посерьезнел и спросил озабоченно: каково мое здоровье?
– Пока не жалуюсь, – отвечал я. – Но вот какая метаморфоза происходит! Обостряется зрительная память, слабеет логическая.
Желая как бы утишить мое огорчение, Федин солидарно заметил, что и у него такое случается.
«Ах, милый Константин Александрович! – подумалось мне. – Да ведь вам же скоро восемьдесят».
Высокий интеллект, изящную простоту, умение слушать собеседника (а это тоже талант!) – все это ощущаешь в К. А. Федине при первой же встрече, и все это в каждом человеке, будь он даже стеснительный и замкнутый, вызывает желание высказать заветные думы.
– Не кажется ли вам, Константин Александрович, – говорю я, – что за последнее время в книгах многих литераторов усилился «критический запал»?
Я давно заметил в нем строгую дисциплину ума, как бы заранее исключающую поспешность временных суждений. И сейчас, свесив брови, давя на них набегающими морщинами, погасив голубизну глаз, все больше и больше самоуглубляясь, Федин словно бы отливал свою мысль в четкую форму. Наконец он медленно произнес низким и, казалось, тоже самоуглубленным голосом:
– По-моему, направление социалистического реализма вовсе не умеряет критику, только дает ей иную цель: устранять помехи на пути создания социалистического общества.
* * *
Памятлив, памятлив Константин Александрович!
О ком и о чем бы мы ни говорили – о Паустовском и Лидине, о Ясной Поляне, о статье критика Чалмаева, только что напечатанной, о гоголевской квартире в Ленинграде, о горе-беде Соколова-Микитова («Совсем плохо видит мой друг, давно диктует рассказы») – Федин помнил о книге Расторгуева.
Когда мы отужинали, он увлек меня в комнату-боковушку, к стеллажам, и принялся азартно разыскивать «смоленские говоры». Но книга все не давалась в руки, хозяин начал поругивать ее, с добродушной, впрочем, досадой: «Ведь вот тут же была, в этом углу, сама в глаза лезла, проказница, а как нужна, так и нет ее!..»
Поискам книги-любимицы Федин отдавался всем существом.
– Да вы не хлопочите, Константин Александрович, – уговаривал я, чувствуя себя неловко от чрезмерности его заботы. – Расторгуевскую книгу я непременно разыщу в Публичной библиотеке.
– Тогда я, знаете, набросаю по памяти ее титульные данные… – И Федин тут же присел на подножную скамеечку, положил прямо на широкую не стариковскую коленку бумажный листок, весь вдруг как-то пружинно съежился и стал писать.
Но как он писал, с какой страстью и самоотдачей! Его перо словно бы врезало своим острием в белизну бумаги каждое слово. И чувствовалось: для него, Федина, нет, видимо, «сословного», что ли, разделения между написанием обыкновенной записки и страницы художественной прозы – любому делу он отдается с равной уважительностью истинного трудолюбца.
– И все-таки я ее разыщу, – вручив листок, пообещал он. – Вдруг что-нибудь не так написал…
* * *
Вот и наступила последняя минута нашей встречи…
Стоя внизу, в прихожей, у самых дверей, обитых клеенкой, хотел я сказать Федину какие-то особенные слова благодарности за его доброту и участье в моей литературной судьбе, но разволновался и слов нужных не находил. Да и чувства мои были сильнее слов и, значит, невыразимы. Будто бы от внутреннего толчка я вдруг кинулся к Федину, глядящему на меня с прощальной улыбкой, прижался щекой к его плечу… и выбежал за порог – в метель, в холод…
* * *
Тут бы и поставить последнюю точку в моих записях, но жизнь продолжила их.
Утром мне принесли небольшой пакет и голубой конверт.
Я вынул из конверта сложенный листок и прочитал:
Дорогой Юрий Фомич,
только что Вы ушли, как музыка книги далась прослушать себя. Нашел! Вот точный титул издания:
Ак. наук СССР
институт русского языка
П. А. Расторгуев
«Говоры на территории Смоленщины»
Изд-ство Ак. наук СССР
Москва 1960
страниц 207
Цена 12 руб.
С 1/I 1961 – 1 руб. 20 к.
Приветствую Вас.К. Ф.
А в пакете оказалась книга «Города и годы», с портретом писателя и его дарственной надписью:
Юрию Помозову
на память
о переделкинской встрече —
дружески – Конст. Федин5 февраля 1969 г., дача
* * *
Я мог бы долго говорить о К. А. Федине; в заключение прибавлю лишь одно.
Если из книг любимого писателя я неизменно выносил О б р а з в р е м е н и, который он, по собственному признанию, «включал в повествование на равных и даже предпочтительных правах с героями повести», то из встречи с Фединым, пусть краткой, я вынес О б р а з ч е л о в е к а того революционного времени, мудрого и простого, живущего интенсивной душевной жизнью творца, истово служащего литературе – и заразительно, ибо каждый, наверно, кто хоть раз встретился с Константином Александровичем, уносил от него заряд творческой энергии и возвышенной веры в свои собственные силы, в то, что лучшая книга еще впереди, и, значит, прикипай всем существом к письменному столу и работай вдохновенно и мастеровито, р а б о т а й п о-ф е д и н с к и!
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Снова вмешалась жизнь… и раздвинула пределы моего очерка.
В 1975 году я закончил последнее произведение из цикла «волжских повествований» и на радостях послал К. А. Федину письмо, в коем перечислил все восемь книг, посвященных Волге.
В конце письма (до сих пор не могу простить себе докучливость) я посетовал на издателей, притормозивших выпуск моей новой книги.
83-летний Федин быстро откликнулся:
Ю. Ф. Помозову
Ленинград
6.IV.1975
Дорогой Юрий Фомич!
Итак ц и к л повествования о Волге закончен! Поздравляю Вас. Уверен, что работа Ваша будет оценена не раз, хотя, может быть, и не сразу… Вас не должны огорчать трудности по пути отыскания издателя. Очень возможно, что придется подумать о вариантах публикации всего эпоса. Надо только представить себе, какое множество областей, городов, народов охвачено живым глазом автора, чтобы вновь и вновь дать волю авторской фантазии, не боясь и отступить от ранних планов композиции и ринуться в новые широты созданных повестей и очерков под заново (или скорее – изнова) оживленными лучами света.
Помочь в Вашем и н о м деле, которое приторможено издателем и, как видно, сильно расстроило Вас, я – к большому своему сожалению – сейчас обещать не в состоянии. Виною тому – нездоровье. Я вот уже полгода не вылезаю из-под крыши.
Дело это муторное. И если на что жаловаться, то единственно – на возраст. Связаны суставы. Играют нервы. Вторят им сосуды. Вся сложность, которая еще на днях могла быть названа слаженностью, нынче расслабилась… Как эта история должна отозваться на способности человека подчинить свои силы труду – легко себе представить…
Что и как могу я на себя взять, будучи полуразвалиной, – решайте сами.
Если способен буду поправляться – тогда пообещаю служить друзьям, как самому себе.
Обнимаю Вас, желаю Вам здоровья и удачи во всех начинаниях – будь они новыми или постаревшими.
Благодарю за дружеские строки письма.
Ваш Конст. Федин
1969—1978








