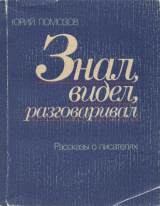
Текст книги "Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях"
Автор книги: Юрий Помозов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
ПИСЬМО ЛИТЕРАТУРОВЕДУ
Боюсь, не смогу Вам помочь в той мере, в какой хотелось бы. Мои розыски неутешительны: Александр Александрович Фадеев за послевоенные годы бывал в Ленинграде всего два раза, выступал на писательском собрании лишь однажды, да и то стенограмма его речи не сохранилась, а вернее, ее вовсе не вели, так как собрание было обычным, не отчетно-выборным.
Теперь – о дате выступления А. А. Фадеева. Насколько помню, это произошло в 1953 году, где-то в конце октября, ибо уже хлестали с Балтики ураганные ветры, Нева дыбилась, далеко забрасывала через гранитный парапет тяжелые брызги и мутные клочья пены…
Еще в гардеробе я повстречал знакомого литератора, одного из тех, кто все, решительно «все знает» и гордится своим знанием даже подводных течений многосложной литературной жизни, кто как бы в искупление собственной малой творческой активности мужественно взваливает на себя всякого рода «общественные нагрузки», возглавляет различные секции, составляет тематические сборники к определенной дате, ходит в записных ораторах и при этом очень обижается, если его, добровольного мученика, не избирают в президиумы собраний.
– А вы слышали новость? – обратился ко мне этот всезнающий литератор с таинственным видом, с плохо сдерживаемой улыбкой самодовольства. – В Ленинграде находится Александр Александрович Фадеев. Есть вероятность, что он выступит на нашем собрании.
Впрочем, весть о приезде А. А. Фадеева была уже многим известна. Едва я поднялся по мраморной лестнице в «белый» зал, как меня поразил на редкость возбужденный говор. Имя Фадеева, выдающегося советского писателя, можно сказать – живого классика, было у всех на устах; оно создавало атмосферу торжественной приподнятости и отчасти тревожного ожидания: о чем же поведет речь генеральный секретарь Союза писателей СССР? Хотя, прислушавшись, можно было уловить в общем говоре и настойчивые нотки недоброжелательства. Один литератор предположил: «Опять, наверно, генсек станет директивы читать». Другой тут же подхватил: «Ничего не поделаешь! Таков стиль волевого руководства». Третий посетовал: «Снова Александр Александрович не ответил на мое письмо». Четвертый вздохнул: «Неподступен, замкнут генсек, особенно когда глаза прищурит, губы тонкие сожмет». Пятый, всех других моложе, проронил: «Говорят, начинающие авторы у Фадеева не в чести…»
Предугадываю Ваше возражение: да ведь вокруг большого писателя всегда ходят разные кривотолки, переходящие в обывательские сплетни, так следует ли, мол, придавать им мало-мальски серьезное значение?! Но позвольте тогда и Вам, в свою очередь, возразить: все имеет свои причины.
А причины для такого рода высказываний имелись. Александр Фадеев редко наведывался в Ленинград вообще; книги ленинградских литераторов читал «избирательно», и отношение его к их творчеству было, на мой взгляд, весьма сдержанное.
Конечно, Вы, как литературовед, можете оспаривать мое мнение, находя его субъективным. Но давайте реально смотреть на вещи. Появляется роман Даниила Гранина «Искатели». Александр Фадеев дает ему в целом положительную оценку. Однако послушайте, что он говорит дальше в своих известных «Заметках о литературе»: вся история личных отношений героев «не имеет никакого отношения к главной теме романа, она совершенно произвольна». А возьмем роман Веры Кетлинской «Дни нашей жизни». Положительная в общем оценка Фадеевым этого произведения отнюдь не отменяет существенные, по его мнению, авторские просчеты: техника зачастую заслоняет человека, «технологические процессы… не всегда преломляются через «человеческое», много в романе скучных диалогов, иллюстративности…».
Сдержанно отнесся Фадеев к роману Всеволода Кочетова «Молодость с нами», вовсе не познакомился с таким талантливым произведением Сергея Воронина, как повесть «На своей земле», хотя обстоятельства, казалось бы, побуждали к этому. Не могу не привести отрывок из автобиографической книги Сергея Воронина «Время итогов»:
И как снег на голову среди ясного лета, приговор критика Ф. Левина на обсуждении в Москве на секретариате Союза писателей книг, выдвинутых на соискание Государственных премий: «Я бы не хотел жить и работать в таком колхозе, который показал Воронин». И так как, кроме него, никто не читал повесть, то Фадеев сказал: «Ну что ж, коли так, то снимем его с выдвижения. Сергей Воронин еще молодой, успеет получить».
Разумеется, были и другие причины разъединенности, но главная все-таки заключалась, по-моему, в недостаточном знании творческой жизни и творческих забот ленинградских литераторов. Быть может, сознание этого и побудило Фадеева к поездке в Ленинград: ведь человек он был совестливый, беспокойный, о чем убедительно свидетельствуют его письма.
Я отвлекся, хотя и убежден: нужно было правдиво воссоздать для Вас, молодого литературоведа, ту обстановку, которая предшествовала выступлению Фадеева. Да и не следует «воспоминателям» рисовать только «благостные лики» пусть даже и очень знаменитых писателей, иначе многое останется за пределами литературного портрета, – этот упрек я адресую и себе, и другим мемуаристам…
Итак, собрание началось. Но Фадеев не появлялся… Мой знакомый, добровольно несущий бремя общественных нагрузок, на сей раз был избран в президиум собрания. С величаво-покровительственным видом он слушал выступления писателей, да вдруг и оглядывался с каким-то уже чисто служебным беспокойством, кидал пытливые взгляды в глубь переполненного зала…
Вдруг председатель собрания (им был Всеволод Кочетов) объявил:
– Слово имеет Александр Александрович Фадеев, генеральный секретарь Союза писателей СССР.
В зале наступила та мгновенная, внятная тишина, когда можно было, пожалуй, расслышать хлесткие удары невских волн о гранитную набережную. Затем все задвигались, заскрипели стульями, стали поворачивать головы к проходу…
От входных дверей через весь зал шел, твердо, даже как-то по-армейски ступая, с четкими, в такт шагам, движениями рук, Александр Фадеев – высокий, ладный, без всякой профессиональной сутулости человек. Его грудь казалась выгнутой, седая, словно из чистого серебра, голова – слегка откинутой. Это лишь подчеркивало стремительность походки Фадеева. А когда одна седая прядь вдруг отвисла вдоль смуглой щеки, затрепетала, точно под напором встречного воздуха, и Фадеев очень красивым жестом плавно взмывшей руки закинул ее поверх головы – мне уже почудилось в его походке что-то летящее, хотя он, вероятно, всего-навсего ускорил шаги, как это обычно случается перед подъемом на трибуну.
При взгляде на крупную, натренированно прямую, сильную фигуру Фадеева мне, помнится, подумалось, что голос у него должен быть звучный, «ораторский», но я вскоре ощутил разочарование: Александр Александрович заговорил слабым и тонким, предельно натужным голосом.
Вот что он сказал – и не без юмористической нотки – в начале речи:
– Меня тут величали генеральным секретарем, и это звучит неоспоримо внушительно. А между тем я нахожусь в Ленинграде проездом. Я здесь скорее гость, чем официальное лицо со всеми степенями положенных мне служебных отличий. И к вам на собрание я пришел просто как товарищ, как единомышленник, такой же, как вы, рядовой служитель социалистического реализма.
Переход от этого вступления к разговору о волнующих проблемах литературной жизни был непринужденным и потому незаметным. Скоро я уже весь был захвачен волевой, напористой речью «гостя». Высокая идейная убежденность в каждой фразе, полнейшее отсутствие словесной трескучести отличали эту речь, благородно возвышенную, духоподъемную, несмотря на изрядную долю критики. Теперь я вовсе не замечал натужно-тонкого голоса, – он был звонок, местами пронзительно-резок и часто отдавал твердостью металла.
О чем говорил Фадеев? Какие тревожные думы занимали генерального секретаря?
Фадеева тревожило, что далеко еще не весь широкий, многонациональный творческий актив вовлечен в общественную и идейно-творческую жизнь Союза писателей, и говорил он об этом не только с сожалеющей грустью, но и самокритично: дескать, мы, руководители творческой организации, только мы в первую очередь несем тут полную ответственность!
Запомнились также его слова о воспитательной роли критики: вот, мол, мы часто осуждаем того или иного писателя за идейные просчеты в его книге, а как он дорабатывал свое произведение – не интересуемся, а значит, и не можем дать справедливой оценки новому варианту, допустим, романа Валентина Катаева «За власть Советов».
Известна пожизненная любовь Фадеева к Бальзаку. На собрании, ратуя за высокое художественное мастерство советских писателей, за освоение неизбывного творческого наследия классиков, он наизусть процитировал высказывание гениального французского реалиста: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт!.. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления! Впечатления! Да ведь они – только случайности жизни, а не сама жизнь!.. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатления от причины, так как они нераздельны – одно в другом».
Помню, как затем прищуренным взглядом Фадеев медленно обвел лица писателей в первых рядах и внезапно воскликнул:
– Я вижу перед собой литераторов старшего и младшего поколения! Такое их соседство естественно здесь, и оно должно быть естественным в литературе. Старшие должны помогать молодым терпеливо, по-горьковски. Но… – Из уголков губ Фадеева выжалась мудро-ироническая улыбка. – Но и писатели старшего поколения, несмотря на все их творческие успехи в прошлом, обязаны и к себе проявлять строгость. Подчас, обласканные «юбилейными» похвалами, они начинают работать торопливо, небрежно и, как говорится, с одышкой, а такой их, извините, «опыт» не на пользу молодым.
В своем выступлении Александр Фадеев ратовал за развитие всех жанров. И тут-то из зала подали ядовитую реплику:
– Что ж, и фарс нам нужен?
– Да, и фарс! – убежденно возразил оратор. – Иначе искусство социалистического реализма будет только беднее.
Речь А. А. Фадеева часто прерывалась аплодисментами, возгласами: «Верно!», «Правильно!». И я уже видел перед собой пламенного оратора, коммуниста-борца, который бесстрашно партизанил в годы гражданской войны, который и во время длительных идейных схваток во имя полного торжества принципов социалистического реализма предельно отточил слово, начинил его таким взрывчатым зарядом мыслей и эмоций, что оно вовсе не нуждалось в подкрепляющих жестах.
В самом деле, Александр Фадеев не «дергался», не жестикулировал на трибуне, не обхватывал ее полированные края с судорожной цепкостью; его руки лежали вытянутыми, лежали спокойно и веско, лишь сильнее оттеняя своей красноречивой неподвижностью полет каждой окрыленной фразы. И как же он был красив, несмотря на скулы, на выпирающие желваки! Он весь словно бы светился выстраданной любовью к литературе, к людям, творящим ее, и вся его тревога за общее дело тоже была от любви, от любви!
Недаром же глубоко в душу запали фадеевские слова:
– Время писателя надо беречь – это неоспоримо. Заседательская «суета сует» ни к чему. Даже творческие дискуссии имеют смысл лишь в том случае, если они способствуют созданию хороших художественных произведений.
Фадеев закончил свое выступление под аплодисменты. Председатель собрания пригласил его сесть за стол президиума. Но в ответ Фадеев шутливо выставил ладонь, тут же для вящей убедительности отрицательно мотнул головой, причем серебристая прядь, послушная во время выступления, выбилась. Однако он почему-то не поправил ее и быстро сошел с трибуны в зал – уже под бурные аплодисменты.
После собрания я возвращался со своим прежним знакомым. Он сказал раздумчиво:
– Признаться, я ожидал, что Фадеев все же сядет за стол президиума… Не было ли в его отказе желания поиграть в демократию?
Нет, я уже не верил всяким досужим измышлениям! К тому же самим фактом своего естественного, логичного поведения А. А. Фадеев как бы преподал «предметный» урок моему знакомому, явно не чуждому карьеристских замашек, склонному больше проявлять себя в заседательской суетне, чем за письменным столом, наедине с героями своих книг.
Вот о чем я хотел поведать Вам, мой дорогой литературовед. И если кое-какие штрихи в человеческом и писательском облике Александра Александровича Фадеева для Вас окажутся новыми, интересными, то я сочту свое письмо полезным.
1982
УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
I
Соколова-Микитова редко можно было встретить в Доме писателя имени Маяковского на собраниях литераторов, да это, пожалуй, и неудивительно: он считался вечным странником по родной земле, поистине лесковским «очарованным странником», и самым преданным певцом ее красоты. А в представлениях литературной молодежи Соколов-Микитов вообще являлся легендарной личностью, средоточием неуемной и заразительной страсти к путешествиям.
Эта страсть, по-видимому, была прирожденной; ее, кстати, отмечает и друг Соколова-Микитова Константин Федин в своей статье о нем. Но, думается, тут еще сказалась извечная тяга русского человека к познанию Родины, людей ее, та самая осознанная тяга, которая взволнованно передалась Соколову-Микитову через книги Максима Горького о его скитаниях по российским градам и весям («Где же я наконец живу? Что за народ окружает меня?..») и конечно же через произведения прославленных певцов родной природы С. Т. Аксакова и Михаила Пришвина.
Помню, как у меня, тогда еще начинающего прозаика, оказалась в руках книга И. С. Соколова-Микитова, только что выпущенная издательством «Молодая гвардия». Называлась она «По лесам и горам».
Правда, тогда же, при чтении, я был крайне удивлен излишне простой, вовсе даже простоватой манерой авторского повествования, однако мощный напор жизни, бьющей с каждой страницы, буквально потряс и захватил меня. Мне тоже вдруг захотелось увидеть доселе еще не виданное, познать еще не познанное, но, само собой, не на проторенных дорогах. И я (дело было в 1949 году) отправился на Тамбовщину, на маленькую, пересыхающую речушку Цну, которую степняки хотели оживить…
II
Фигура, лицо Ивана Сергеевича Соколова-Микитова при первом же взгляде резко, отчетливо отпечатались в моей памяти.
…Стоит он, высокий, сутуловатый и, пожалуй, даже застенчиво-неловкий, в сумрачной нише, неподалеку от двери в бильярдную, откуда доносится хлесткий стук костяных шаров. Голова его вжата в плечи, словно давит низкий лепной потолок, – и до чего же это великолепная голова! Она, казалось, хранит отблеск дальних странствий. По крайней мере, мне чудится и в ясной белизне короткой закругленной бородки, и в колком серебре распластанных усов, и в как бы заиндевелых волосах вокруг широкого голого темени стойкий холодок Арктики. В то же время само это бронзовеющее темя, этот утесистый лоб с поперечной морщиной, наконец, эти смуглые щеки – по-южному горячие, накаленные…
Иван Сергеевич стоит широко расставив ноги, носками вовнутрь, как моряк на палубе (кстати, он в молодые годы плавал на многих морях), и то вложит в рот, уже по-старчески усохший, втянутый под усы, коротенькую трубку-носогрейку, то отведет ее, потрескивающую, от лица, прищурится как бы от залетевшей в глаза дымной горечи, а на самом деле наверняка для того, чтобы подметить в человеке какую-нибудь особинку.
…Вот-вот должно начаться отчетно-выборное писательское собрание. Мимо плавно движется огневолосая Вера Панова в черной, с блестками, шали, небрежно накинутой на плечи, и какой-то литератор из молодых проворно кидается ей навстречу и целует ее руку. Размашисто ходит в распахнутом пиджаке, в тугой жилетке громогласный Илья Садофьев. Тяжело, веско переставляя ноги, идет коренастый Александр Прокофьев с кипучей ладожской синью в глазах, рядом с ним – Анатолий Чепуров, строгий, подтянутый, в очках. Гордо несет свою седеющую голову молчаливо-суровый Александр Решетов, да вдруг, при оклике, улыбнется простовато и открыто. Остановился неподалеку усталый, но с горячими глазами Сергей Воронин, в ту пору – главный редактор «Невы» (в одной руке – папка, в другой – портфель), и вслушивается в то, что говорят ему попеременно Елена Серебровская и Александр Хватов, члены редколлегии журнала…
А Соколов-Микитов по-прежнему неколебим в своей спокойно-раздумчивой наблюдательности, в некоей даже отстраненности. Кажется, он забрел под писательский кров случайно, как путник, сбившийся с дороги, и вот сейчас выкурит заветную трубочку да и уйдет в просторный мир природы, поселится на каком-нибудь лесном кордоне или же, наоборот, презрев годы, отправится по зову извечной бродяжей страсти на Таймыр, к геологам…
III
В 1957 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник моих повестей – результат поездок по Волго-Балту, по Закарпатью и белорусскому Полесью, и я, окрыленный этой удачей, пустился в новые странствия по родной земле – на этот раз в Закавказье, на Каспий.
Говорю это не ради саморекламы – во имя истины, хотя и горькой, но целительной. Ибо окрыленность эта вскоре обернулась самоуверенностью, при которой, как известно, литератор, тем более молодой литератор, утрачивает чувство самокритичности. А такая беда как раз и случилась со мной. Я вскоре написал повести обо всем увиденном и, более того, с излишней торопливостью представил на суд издательства.
В то время главным редактором в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» работал Илья Корнильевич Авраменко.
Однажды я зашел к нему в кабинет справиться о своей рукописи и увидел вздернутые к вискам резкие черные брови и приспущенные кончики запорожских усов, что, по общей замете, не предвещало ничего доброго.
Так оно и случилось. Резко, тычком, далеко выбросив прямую, без сгиба, руку, Илья Корнильевич протянул мне рецензию. Я начал читать и похолодел после первых же строк:
При чтении рукописи Юрия Полозова неприятно раздражают неряшливости языка, спутанность содержания, бесчисленные несообразности, которые находишь почти на каждой странице. Автор рассказывает о своих поездках в Армению, Грузию, Азербайджан. Вместо простого, связного и увлекательного рассказа получилось что-то надуманное, путаное и неудобоваримое. Автор путается в безвкусице надуманного «народного» сказа и напыщенной ложной литературщины. Старики и молодые говорят в его повестях неестественным, выдуманным языком, часто вставляя в речь полюбившиеся автору замысловатые словечки и поговорки, знанием которых автор как бы хочет щегольнуть.
Далее немилосердный рецензент приводил примеры литературной безвкусицы и языковой неряшливости. Я читал, а игольчатый холодок мелкого, почти болезненного озноба все глубже проникал в спину, тогда как все лицо мое смятенно пылало от прихлынувшей крови. Однако рецензент не давал наказуемому собрату по перу ни малейшей поблажки – и продолжал гневно:
Автор плохо знает природу и жизнь животных, уверяя, например, в повести «Сыны Севана», что лысухи (общеизвестные в Закавказье, живущие на озерах птицы, которые, по устройству своих ног, не могут ходить по земле, а только плавают и ныряют), «выходят щипать травку на берегу озера» и пр. и пр.
Впрочем, в конце отзыва рецензент несколько смягчался и отмечал, что в рукописи «есть просто и ясно написанные страницы», что «некоторые вставленные в рукопись словечки, фразы, сообщения о самом себе явно изобличают литературную опытность автора». Но едва ли я тогда нашел хотя бы даже слабое утешение в скупой похвале. Лавина грозных, карающих слов, право, была сродни горному обвалу… Уж и не помню, каким образом у меня под мышкой оказалась злосчастная рукопись, как я вообще выбрался из тесного и душного редакторского кабинета…
Самое же прискорбное для меня заключалось в том, что рецензия была написана не кем иным, как Соколовым-Микитовым – моим негласным вдохновителем в странствиях по родной «теплой земле»[3]3
«Теплая земля» – название одной из последних книг И. С. Соколова-Микитова.
[Закрыть]. Я был ошеломлен, подавлен. Но боль распаленного авторского самолюбия не затихала, молодая горячая кровь по-прежнему палила лицо – и я в порыве досады и обиды позвонил Ивану Сергеевичу. Я наговорил ему много злых, оскорбительных слов и старался не вслушиваться в тихий и кроткий увещевающий стариковский голос: «Поостыньте маленько… Не горячитесь, ради бога…»
Теперь я со стыдом вспоминаю свою бездумную горячность, тем более что все критические замечания Соколова-Микитова впоследствии были учтены мною и сослужили, как говорится, добрую службу в доработке рукописи и пополнении ее новыми повестями. Но тогда я не оценил всего блага отеческой порки, которую учинил мне старейший писатель России, охотник и натуралист, наконец, просто человек, обладающий бесценным жизненным опытом. Тогда-то мне было невдомек, что строгий к себе правдолюбец не терпел ни малейшей фальши в других, что ценность каждого прочитанного произведения он, прежде всего, рассматривал с позиции знания автором жизни, без чего, как известно, любое художество становится лишь назойливым украшательством.
IV
Январь 1963 года. Зимняя Ялта – воистину зимняя!
Выпал снег, напластался на крутобокий Дарсан, погасил румянец черепичных крыш, надел белые чехольчики на кипарисы – и вот уже целую неделю держится стойко, победителем, побратавшись с морозом.
Я живу в Доме творчества, но привычный ритм работы нарушен. Ведь снег для Ялты – нечаянный небесный подарок! Поэтому я с радостью брожу по заснеженным улочкам, глубоко вдыхаю бодряще-колкую свежесть и попутно делаю записи в неразлучном блокноте.
Вот некоторые:
Скучающие курортники играют в снежки с ребячьим задором.
Студеное море, окатывая пеной и брызгами набережную, навешивает на фонари, на кусты магнолий ледяные серьги.
Десятиградусный мороз, снежный покров в десять – пятнадцать сантиметров – сущее бедствие для птиц. Их стаи с голодным писком мечутся вдоль побережья. На пустынном пляже немало выброшенных окоченелых чирков.
В нагорном парке Дома творчества, среди сосен и лавровишен, бродит, прихрамывая, с суковатой палкой, Соколов-Микитов, разбрасывает на снегу хлебные крошки – подкармливает черных дроздов. А то вдруг палкой разворошит под снегом лиственный настил, где укрылись гусеницы: дескать, слетайтесь, други милые, питайтесь!..
Да, в Доме творчества живет Иван Сергеевич Соколов-Микитов.
С тех пор как я видел его, старик заметно сдал: в плечах усох, лицом посерел, отчего только пронзительней стала снежная белизна короткой бородки, усов. К тому же и сейчас ему недужится. Он частенько покашливает, в столовую приходит в мохнатом шарфе. Но все та же спокойно-раздумчивая пристальность в его взгляде – признак мудро пожившего и много повидавшего человека.
Я здороваюсь с Соколовым-Микитовым, а в душе замираю от совестливого страха, что он в конце концов признает в вежливом молодом человеке болезненно-самолюбивого автора и взглянет на него с гневным укором или осуждающе покачает своей великолепно лобастой головой, которая теперь, при усохших плечах, и вовсе кажется мощной, сократовской.
Правда, я надеюсь, что хворому Ивану Сергеевичу сейчас не до любопытства, да и утешительная мысль приободряет: ведь он же ни разу не видел меня и, поди-ка, напрочь успел позабыть о моем существовании. Однако все случилось иначе.
…Стоит хмурый, тепленький денек. С кипарисов ломтями отваливается снег. По каменистой лестнице, спускавшейся от столовой к главному корпусу, сбегает с прискоком, с пришлепываньем мутная талая вода. И оттуда же, сверху, как бы завороженный весенним потоком, сходит в галошах, пристукивая палкой, Соколов-Микитов в развевающемся шарфе, с непокрытой головой, очень бодрый с виду, кажущийся даже великаном снизу, от подножия лестницы, где я стою и замираю то ли от недоброго предчувствия, то ли от все того же неизбывного совестливого страха.
Но Соколов-Микитов, точно разгадав мое смятение, вдруг останавливается. Взгляд его, только что устремленный на меня, переносится вдаль, на серые, как и небо, туманно-зыбкие горы.
– А вы знаете, Юрий Фомич, – произносит он глуховатым, трудным голосом, – там буки гибнут…
Я вздрагиваю, краснею… и верю и не верю, что это именно ко мне обращается Иван Сергеевич дружески, доверительно, совсем как к старому знакомцу.
– Читал, читал вашу статью[4]4
Речь шла о моих заметках «Редеет Кобринская чаща» (Ленинградская правда, 1962, 28 февраля).
[Закрыть] в защиту природы, – между тем продолжает великодушный старик. – Да-а, там у нас, под Ленинградом, Кобринская роща редеет, здесь, в Крыму, лесные исполины один за другим выбывают из ратного строя…
Мы разговорились. Я рассказываю Ивану Сергеевичу о своей давней поездке в Крымские горы, об Алуштинском заповеднике, где, слава богу, вековые буки находятся под надежной охраной, о том, как спускался с Никитского плоскогорья неподалеку от холмистой вершины Роман-Кош, к побережью, да потерял тропку и в отчаянии ринулся вниз по крутосклону в предательски-скользкой слежавшейся хвое, хватаясь за корявые стволы сосен, чтобы притормозить невольный бег, пока вдруг не повис над скалистым обрывом, ощущая подмывающее веянье гибельной пустоты под собой…
– Э-э, да вы бывалый человек, погляжу я, – удовлетворенно замечает Иван Сергеевич. – Нечто подобное и со мной приключилось в Закавказье…
От гор тянет сырым ущельным ветром, потом начинает сеяться дождик, а мы продолжаем свой разговор, как два равноправных завзятых путешественника, и он чудесно сближает нас и, не в пример ветру, развеивает давний сгустившийся туман, какой нередко наслаивается в человеческих отношениях.
– А вы того… заходите вечерком на чашечку чая, – приглашает Иван Сергеевич. – Милейшие детгизовцы прислали только что изданную книжку «Звуки весны», так я вам и надпишу ее на память…
Не знаю, мучился ли старик излишней резкостью своего приговора моей рукописи, или же просто тут проявился незлобивый характер русского человека, но он первым протянул мне, во сто крат неправому, руку примирения и дружбы.
V
Конечно же я схватил только некоторые черточки в облике Соколова-Микитова, но если бы, предположим, воедино собрать все устные рассказы многочисленных друзей Ивана Сергеевича – его спутников на охотничьих тропах или во время рыбалок, то, видимо, тогда обрисуется многогранный и очень цельный характер.
В житейском обиходе, как, например, рассказывал мне один литератор, Соколов-Микитов был мягким, деликатным человеком («Слова бранного от него не услышишь»). Но однажды мальчишки прямо на глазах его разоряли птичье гнездо. И гнев преобразил Ивана Сергеевича. Его аккуратная бородка вздыбилась, усы растопорщились («Этакие иглы-пики!»), а кончики бровей задергались. Больше того, старик, словно ему воздуха не хватало, широко открыл рот… и вдруг окатил маленьких вихрастых разбойников крепчайшей, отборной руганью.
Да, Соколов-Микитов не терпел ни малейшего надругательства над природой, был не только ее певцом, но и верным стражем.
VI
В 1966 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга «Хождение за три моря», продолжающая в географическом плане предыдущее повествование о Волге – «Верхневолжье».
Отважившись, я послал новую книгу на суд Константина Федина. Вскоре он отозвался письмом, где, между прочим, были и такие строки:
Я недавно пожил в Карачарове, и было приятно встретиться с упомянутыми в «Хождениях…» Свердловом, Плосками, Конаковом, Корчевой. Посередке между ними – хата Ивана Сергеевича. Вы, судя по книге, бывали у него. Нынче впритык к его усадебке вырос дворец-люкс в самом модернистом духе. Неизвестно, долго ли еще продержится Ив. Сер. на правах одно-дворца-единоличника – не съедят ли его многозначительные соседи? Впрочем, не в этом теперь горе-беда Соколова-Микитова: болен он – ослеп, и не стало больше надежды на прозрение. Тяжко видеть его беспомощность.
Тут необходимо некоторое уточнение: в «хате» Ивана Сергеевича я так и не побывал, несмотря на его приглашение перед отъездом из Крыма. О чем сожалею и по сей день. Но этот старейший писатель России, продолжатель аксаковских и пришвинских традиций в отечественной литературе, творец простых и ясных, воистину хрестоматийных произведений о русской природе и русском человеке, постоянно возбуждал во мне острое, тревожно-пристрастное внимание, как любимый мастер в прилежном ученике. Я внимательно следил за появлением каждого его нового произведения – будь то короткие рассказы-миниатюры о дореволюционной смоленской деревне, напечатанные в «Новом мире», или же пространный очерк о болотистом верхневолжском крае в журнале «Звезда».
Зимой 1969 года мне посчастливилось побывать в Переделкине у Константина Александровича Федина и стать свидетелем выражения его трогательного товарищеского чувства к Соколову-Микитову.
– Вот-с, взгляните, – сказал Федин и протянул мне газету «Вечерняя Москва». – Иван Сергеевич, будучи слепым, творит, пишет!.. Слагает гимны милым пичужкам России, и в этом он, поверьте, прозорливее многих, для кого родная природа – лишь место праздного отдыха, кто душой слеп, но кому все-таки рано или поздно придется встать на ее защиту.
За ужином Константин Александрович, со свойственной ему неутоленной и, я бы сказал, горьковской пытливостью к человеку, расспрашивал о моем житье-бытье, о родителях и, узнав, что отец мой – уроженец смоленского края, но что я так и не побывал на его родине, в Монастырщине, воскликнул:
– Сейчас я покажу вам «юбилейное» письмо друга!
Удивительное это письмо. В нем беспредельная искренность сочетается с волнующей поэтичностью, оно все дышит любовью к человеку и отчему краю.
Как забыть наши душевные долгие разговоры? – пишет Соколов-Микитов. – Случалось, мы проводили ночи в лесу у охотничьего костра, с восторгом слушая симфонию наступавшего утра. Охотились на волков в глухом непролазном Бездоне. Охотничья наука тебе давалась не сразу, и ты подчас удивлялся моему «уменью» метко стрелять, разбираться в лесных путаных стежках, отчетливо различать голоса птиц и зверей. Тебя изумляли наши смоленские мужики, удивляла деревня, переживавшая крутые переходные времена. Ты навсегда запомнил лесную речку Невестницу и речку Гордоту (как хорошо, как трогательно звучали их имена!), тихий Кисловский пруд, в котором мы ловили в «норота» золотистых жирных линей, очень похожих на откормленных поросят.
…Тебе, наверно, памятны имена и клички кочановских мужиков и баб, забавные, порой как бы с усмешкой звучавшие названия смоленских сел и деревень: Кочаны, Кислово, Теплянка, Вититнево, Желтоухи, Подопхаи. Ты запомнил «дядю Ремонта», нашего деревенского бессребреника пастуха Прокопа, его приемную дочку Проску с трагической судьбой шекспировской героини. И уж, наверное, помнишь деревенскую красавицу Таню, на которую мы любовались.
Для тебя и для меня это была подлинная, не показная, не выдуманная Россия, Россия полей и лесов, народных песен и сказок, живых пословиц и поговорок, родина Глинок и Мусоргских, вечный и чистый источник ярких слов, из которого черпали ключевую воду великие писатели и поэты, а терпеливые ученые составляли бесценные словари.
…Там, на речке Невестнице, где я некогда писал мои шуточные «Былицы», в лесной деревеньке Кочаны, в моей скромной «келье», обитой еловой корою, ты дописывал свой первый роман «Города и годы», там же зачиналась твоя книга «Трансвааль».
* * *
Той памятной зимой у меня была возможность повидать и Соколова-Микитова: он жил уже в Москве, на проспекте Мира, и К. А. Федин написал мне наиподробнейший адрес своего друга. Но то ли я постеснялся беспокоить старейшего писателя, то ли приспела пора отъезда, но Ивана Сергеевича я тогда не проведал.








