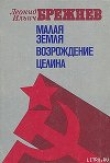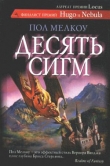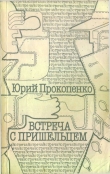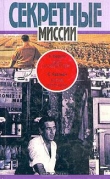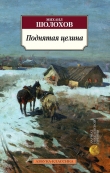Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц)
У Степана Петровича понимаешь, что организация промысла – одна из сельскохозяйственных наук, не менее сложная, чем агрономия, селекция, зоотехния. Информация о спросе и предложении, определение выгоднейшего в данных условиях ассортимента, техническое обслуживание простейших мастерских, увязка подсобных колхозных и совхозных предприятий с работой промышленности – все это исключает кустарный подход, требует четкой специализации и кооперации, требует грамотных, свободно мыслящих людей. И задолго до того, как о промысле заговорили вслух, Степан Гинин послал в облисполком проект о создании «колхозно-совхозного совета производственных предприятий».
Колхоз Гинина – это переходная, так сказать, ступень от рядового мещерского хозяйства к «Большевику». Сам переход происходит в значительной степени благодаря деловитости, смелости, коммерческой струнке председателя.
А сельхозартель «Советская Армия» – рядовую, то есть крайне слабую экономически, – недавно взяла на свои плечи маленькая, хрупкая женщина, работница райплана Александра Ильинична Копейкина. Пятьдесят тысяч на картотеке № 2, даже дояркам не плачено по два года, все прохудилось, поля не кормлены лет двадцать, почерневшая избенка конторы от ветра качается – хозяйство пугало и матерых «районщиков».
Ильинична пришла с желанием вложить в дело всю душу, костьми лечь, а колхоз поднять. Вместе с тем она принесла весь комплекс воспитанных районной средой предрассудков: что залог успеха в правильно доведенном задании, в разъяснительной работе и т. д. Она знала, что Гинин поднимается на промысле, даже леса своего не имея. Но сама она, имея лес, к подобным занятиям относилась с брезгливостью: все же «барышничество», негоже посланцу райкома браться за опасные дела. Ильинична умела разбросать задание по хозяйствам, подготовить вопрос на бюро, бывала уполномоченным, постигла и квадратно-гнездовой сев, но сделать из копейки две не умела. И это неумение считала как бы признаком политической зрелости. Эта черта отмечает многих «районщиков». Людям десятилетия внушали, что обмен колхоза с государством и не может быть эквивалентным, что прибыль, выручка – категория для спекулянтов, а честный хозяйственник знает один план. Избавление от предприимчивости служило психологической опорой неэквивалентного обмена.
Аким Васильевич Горшков согласился помочь Ильиничне советами по ассортименту и сбыту, обещал своих людей подослать в «Советскую Армию», мне же подсказал ход: незло покритиковать Копейкину в газете за то, что в отход мужиков отпускает, а промысла не заводит, хоть вся в долгах. Газетное слово будет вроде бы указанием, подтолкнет к действию.
Статью напечатали. Александра Ильинична не обиделась, стала, как говорится, принимать меры – и пошли тут мытарства, начались хождения по мукам, о каких мы и не подозревали.
Аким Васильевич сказал, что надо прежде всего уговорить отходников остаться на зиму, обещая твердый заработок. Затем строить мастерскую, пускать пилораму и делать снеговые лопаты, тарную дощечку, штакетник – о сбыте тревожиться нечего.
Отходники поверили, остались. Но в районе не нашлось проволоки такого-то сечения, чтобы подвести энергию. Ильинична прислала мне письмо с просьбой проволоку ту добыть. Способности газеты были явно переоценены. Потом обнаружилось, что в «Сельхозтехнике» никто не умеет отладить пилораму. Потом плотники стали денег просить – оставила дома, так помогай.
В отклик на газетную статью москвич, старый большевик С. И. Лоскутов, прислал в колхоз образцы изделий из бересты: кузовки, корзиночки, очень красивые, пахнущие лесом, летним днем. Обещал научить делать сувениры, звал к себе.
Ильинична отрядила в Москву Михаила Васильевича Куделькина, плотника, бывшего бригадира и вообще человека надежного. Постигнув берестяную науку, Михаил Васильевич стал искать каналы сбыта. Мы вместе, забрав образцы, отправились в ГУМ.
В сувенирном ряду, куда мы поначалу наведались, наш товар очень понравился. Не то что покупатели – сами продавщицы, модные девушки, тянули к себе кузовки! За штуку предлагали полтора рубля. (Мы перемигнулись: нас тревожило, дадут ли тридцать копеек, без этого прибыли не видать.) Но образцы были нужны для заключения договора.
После долгих хождений по кабинетам (сувенирный отдел отсылал в хозяйственный, тот выпытывал, а есть ли у нас утвержденные цены, а можем ли мы делать обечайки для сит) мы направились к коммерческому директору ГУМа А. П. Блинову. Положили на стол ему свою бересту и объяснили, что колхоз готов поставлять ее.
Блинов повертел кузовок в руках.
– А зачем это?
Куделькин объяснил: даме рукоделие держать, девочке за ягодой ходить (не тревожьтесь, он не протекает), просто – память о лесе. Чисто и духовито.
– Вид у него не товарный. Видите – некругло. И шершаво…
Заметно было, что Блинов тоскливо искал мотива, чтоб отказать нам, а мотив, как назло, не находился. И вдруг осенило:
– Да, а вы подумали, какой пример подаете молодежи? Ведь дерево без коры не может. А после вас все стиляги начнут что-то делать из бересты – и Подмосковье останется без березы!
Куделькин принял это за шутку. Но коммерческий директор не шутил, мотив ему понравился, он с подъемом заговорил об охране природы, о варварстве, о русском лесе.
– А почему ж вы лыжи не боитесь продавать?
Этот вопрос Куделькина испортил все дело. Ушли мы ни с чем. Михаил Васильевич и на вокзале все мотал головой: «Ну и ну…»
Зима не принесла «Советской Армии» ни рубля. Обнаружилось, что за промысел, пусть он и кустарный, кустарно браться нельзя.
Не вина – беда Копейкиной, что не воспитана в ней деловая струнка Гинина, что нет у нее за плечами громадного авторитета и опыта Горшкова. Но без помощника-промысла ни ее колхозу, ни пятнадцати другим артелям Гусь-Хрустального не обойтись никак! Теперь уж дело не в желании – оно появилось, не в косности сознания – она исчезла. Дело за живым, творческим органом («советом» он будет называться или как иначе), о котором писал Степан Петрович. За тем органом, который и деньгами на первое время помог бы, и инженера прислал, и обеспечил сбыт, и проволоку изыскал бы, – конечно, за известный процент от прибыли. Какую тьму забот могла бы снять с плеч председательницы и десятков ее коллег малая группа образованных, разворотливых специалистов!
Разрушалась система «второй тяги» долго, но так до конца и не была разрушена. Восстанавливать же ее – да по-новому, современно! – нужно как можно быстрее. Ведь доярки ждут, заработанное в позапрошлом году спрашивают.
IV
Развивать в колхозах и совхозах, а также в межколхозных организациях подсобные предприятия и промыслы по переработке сельскохозяйственных продуктов, производству строительных материалов, тары, товаров народного потребления главным образом из местного сырья и отходов промышленности. Предусмотреть там, где это целесообразно, создание в сельской местности сезонных филиалов соответствующих промышленных предприятий. Выделять из государственных ресурсов технологическое оборудование и механизмы, а при необходимости – сырье, упаковочные материалы и тару для колхозных, совхозных и межколхозных подсобных предприятий и промыслов.
(Из Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану)
Эксперимент с запрещением промыслов (благая цель – сосредоточить силы колхозов только на «основной деятельности» и тем решить наконец проблему производства продуктов питания) не удался. И не мог удаться даже теоретически. Потому что человеческую энергию нельзя накапливать и хранить. Можно сберечь до весны трактор, мешок селитры, семена. Нельзя использовать летом прожитый зимой день. Всякий неиспользованный рабочий час потерян безвозвратно. Это чисто экономическая потеря для общества. Потери для самого сельского хозяйства мы пытались показать на мещерском примере. Для общества в целом губительность бюрократического эксперимента проявлялась в трех главных направлениях: в ухудшении занятости рабочей силы, в снижении поступающей в оборот массы товаров, в углублении разрыва между уровнем жизни различных категорий работников.
Сельское население страны составляет 107,5 миллиона человек, из работающих в общественном секторе села 70 процентов – колхозники. Так что уровень занятости члена сельхозартели чрезвычайно важная экономическая категория. В среднем по стране трудоспособный колхозник занят в общественном хозяйстве 197–199 дней в году; это составляет лишь 73–74 процента годового фонда рабочего времени, так как за норму принимаются обычно 270 дней. Напомним, что «недотянутые» до нормы человеко-дни колхозников в сумме вдвое превышают прямые затраты труда на черную металлургию, добычу угля, нефти и на производство нефтепродуктов, взятые вместе. Хуже всего используются сельские ресурсы труда в колхозах югозапада Украины, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и Волго-Вятского районов России, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане. Если в 1963 году в РСФСР средний трудоспособный колхозник отработал 241 человеко-день, а колхозница – 182 дня, то в Армении эти показатели соответственно – 207 и 138, в Молдавии – 189 и 124, в Азербайджане – 187 и 121. Это превращается в правило: чем гуще население в районе, тем лучше его возрастной состав, тем хуже занятость.
Главная причина – в сезонности затрат труда. В июле 1964 года по Союзу работало 24 381 тысяча колхозников, ими выработано 498 миллионов человеко-дней. В декабре данные соответственно: 14 934 тысячи человек, 278 миллионов человекодней. В среднем за минувшее пятилетие зимние затраты колхозного труда были без малого вполовину меньше летних, 9,5 миллиона колхозников зимой оставались без работы. Не могли в меру сил трудиться и пенсионеры, а их четырнадцать миллионов.
Широко распространено представление, что в колхозах не хватает рабочих рук. Местами и временами – верно, не хватает, но в большинстве артелей (данные статистики это неопровержимо доказывают) есть значительные резервы труда. И если одни колхозы страдают от недостатка работников, то в еще большей степени отягчает другие хозяйства избыток людей. Проблема в том, чтобы «первая производительная сила всего человечества», как называл Ленин рабочего, трудящегося, использовалась разумно…
Человек, не обеспеченный в селе работой большую часть года, уходил в город, промышленность охотно принимала его, тем и регулировалась занятость. Процесс этот в какой-то степени еще длится: из областей отстающего сельского хозяйства молодежь еще уходит. Из сел Псковской области в четырнадцать ее городов за 1960–1963 годы ушли 26,5 тысячи человек. Удивительно точное совпадение: в этих четырнадцати городах теперь 26,8 тысячи человек нетрудоустроенного населения. По расчетам экономистов, «поглощающие» возможности промышленности на ближайшие 10–15 лет очень ограничены. Поточное автоматическое производство понизило среднегодовой темп прироста числа рабочих вдвое по сравнению с предвоенным временем. Никак нельзя забывать и про «демографическое эхо войны»: с 1963 начался и все нарастает приток рабочей молодежи послевоенных лет рождения, каждому из этих миллионов нужно рабочее место, жилье, место в кинотеатре.
Претворение в жизнь экономической реформы обязательно приведет к высвобождению части рабочих. Московский автокомбинат, где испытывалась новая система планирования и стимулирования, сразу же сократил число работников на семь процентов. Так поступают и на других предприятиях. Словом, город все больше способен сам покрывать свою потребность в рабочей силе. Это, понятно, не относится к быстро развивающимся восточным районам.
В самом уходе «на города» нет ничего ненормального, тем более – рокового (многие авторы – «деревенщики» освещают вопрос именно так). Процесс это естественный, всемирный, сокращение доли сельских работников характерно для всех стран, интенсивно ведущих добычу хлеба насущного. У нас по проценту занятых людей сельское производство до сих пор на первом месте среди отраслей народного хозяйства. В ГДР же в сельском хозяйстве занято семнадцать работников из ста, в Швеции – всего 8,7 процента. Вся задача в том, чтобы рост производительности труда в деревне нейтрализовал отток рабочей силы, чтобы село, сохраняя рабочую силу на уровне «пика» потребностей, обеспечивало вместе с тем достаточную занятость на протяжении всего года. Если же сезонность искусственно ограничивается административными мерами, то тем самым искусственно же вызывается отток рабочих рук из деревни в город.
Мы говорили, что зимою колхозные затраты труда почти вполовину меньше летних. Возможности же поглощать труд промыслом были сведены почти на нет: в пятилетие 1960–1964 годов удельный вес человеко-дней, отработанных на подсобных предприятиях, составил только 1,9 процента от общего числа. Между тем и эти мизерные трудовые затраты позволили колхозам произвести в 1964 году товаров на 703 миллиона рублей. Это очень много для условий, когда хозяйства были ограждены от рынка, когда всякое проявление деловой инициативы подавлялось. Это мизерно, огорчительно мало в сравнении с тем, что промысел давал до запрещения, не говоря уж – что способен дать промышленности, торговле, свободному рынку.
Достаточно сказать, что с шестидесятого по шестьдесят четвертый год добыча торфа в колхозах, совхозах и межколхозных организациях сократилась на 43 процента, заготовка бутового камня – на 65, производство пиломатериалов – на 40, изготовление черепицы – на 34 процента, сушка овощей прекращена вовсе, выпуск фруктовых консервов упал на 85 процентов, виноградного вина стало производиться меньше на треть. Практически прекращено в селе производство плетеной мебели и корзин, пуховых платков и ковров, даже веников. Колхозы были фактически лишены возможности перерабатывать продукты, даже не терпящие перевозки и хранения, от собранных овощей артелями перерабатывалось 2–3 процента, фруктов и ягод – 9 процентов, картофеля – 0,1 процента. Общеизвестно, что государственная промышленность, получившая монополию на переработку, с делом не справлялась, год за годом гибло много добра. В 1963 году, согласно годовым отчетам, колхозы скормили скоту 36,4 тысячи тонн плодов и ягод, потеряв на том 120 миллионов рублей. Это в стране, которая импортирует фрукты! Кроме того, скоту же стравливалось ежегодно 1,2 миллиона тонн овощей, то есть 22 процента от сдаваемого государству. Таким образом, сфера потребления недополучила громадную массу ценностей.
Вообще концентрация переработки сельскохозяйственного сырья в крупных предприятиях, в городах – дело противоестественное. Перевозка скоропортящегося сырья на большие расстояния заведомо снижает качество, убавляет его количество. Чем больше завод, тем дальше от полей и ферм уходят отходы, тем сильней нарушается закономерный обмен веществ между человеком и природой. Не случайно развитые сельскохозяйственные страны давно держат курс на рассредоточение консервной промышленности, считая идеальной организацию, при которой плод, ягода, белый гриб, груздь, овощ поступают в переработку через час-два после того, как сорваны.
По традиции, унаследованной от дореволюционной России, сферу действия промысла мы ограничиваем производством с наименее квалифицированным трудом. (Художественного ремесла мы тут не касаемся: коклюшки, резец, штихель – это чрезвычайно сложно, хоть и «первобытно».) А данные мировой экономики утверждают, что крестьянский надомный промысел отлично ладит и со сложнейшей индустрией века электроники. Академик С. Г. Колеснев рассказывает:
– Знакомый японский экономист шлет свои работы, он исследует применение труда крестьян-надомников на изготовлении транзисторных приемников «Сони» и «Панасоник». Они считаются лучшими в мире, постоянная модернизация… Крестьянин, конечно, делает только отдельные детали, развозчик собирает, монтаж – на конвейере. Фирме это выгодно тем, что мужику рабочего места не нужно. А крестьянская семья, не отрываясь от рисового поля, имеет верный приработок.
Я в ответ смог рассказать ученому, что во Мстёре даже вышивать совхозные работницы не могут: или иди в штат вышивальной фабрики, или сиди зиму без работы. Известно: легкая промышленность Владимирщины выросла из промысла. Ткацкие фабрики, стекольные заводы на время горячих сельских работ часто закрывались: предприниматели вынуждены были учитывать особенности быта. В сущности, и теперь, посылая летом десятки тысяч рабочих на помощь колхозам, областные организации повторяют тот же маневр. Но – односторонне, потому что крестьянину зимнего выхода в промышленность нет. А колхозник Владимирской области занят только 204 дня в году, ежегодный «простой» в артелях превышает три миллиона чело-веко-дней! Одними метлами, снеговыми лопатами и берестой такой громады труда не поглотить.
Сегодня неквалифицированность крестьянина, его непричастность, скажем, к металлу – миф. Резервы уже обученных людей колоссальны. В 1961–1963 годах было подготовлено 1044 тысячи трактористов и комбайнеров, на машины же село только 244 тысячи. А сельский механизатор – грамотный рабочий. Любопытный пример: в Георгиевске, городке Ставрополья, строится арматурный завод, руководители окрестных хозяйств пошли с просьбой – открыть филиалы завода в колхозах и в совхозе. Инженеры намекнули, что надо ведь работать уметь. Осмотрев изделия, хозяева уверяли, что в их мастерских механизатор по нужде выполняет не в пример более сложные работы… Это не значит, конечно, что филиалы открыли.
Умение – дело наживное. И нет такой отрасли промышленности, какая хоть в малой степени не способна была бы с пользой для себя применять труд крестьянина.
По кому сильней всего ударило запрещение промыслов? Не по административно-управленческому персоналу, не по «среднему звену» колхозов – они заняты круглый год. Не по животноводам, которые из-за особой тяжести труда оплачиваются сравнительно высоко и тоже заняты зиму и лето. Ударило оно по тому «полеводу», что на «конно-ручных» работах и прежде получал меньше других, а теперь стал к тому же меньше работать. Коснулось оно и механизатора – в половине колхозов он занят менее двухсот дней в году, но полевода всего сильнее. Удельный вес этой категории колхозников очень велик – около 50 процентов! В Российской Федерации человек «общекрестьянской» профессии в 1964 году в среднем работал 140 дней.
Известно, что оплата труда в колхозах Федерации за последние шесть лет возросла в полтора раза. Но средние данные скрывают большие различия в уровне заработка разных профессий. В российских колхозах председатель артели получил в 1964 году за человеко-день 7,22 рубля, агроном – 4,35 рубля, бригадир – 3,01 рубля, тракторист – 3,83 рубля, животновод – 2,28 рубля, а занятый в полеводстве – лишь 1,79 рубля. Если же учесть, что и самих-то человеко-дней у работника со штатной должностью намного больше, чем у «полевода», то понятна станет сильная разница в годовом заработке. Средняя годовая зарплата по перечисленным профессиям выглядела соответственно так: 2223 рубля, 1270 рублей, 933 рубля, 844 рубля, 733 рубля и 346 рублей. Ясно, что и эти средние цифры сглаживают резкие ступени: в зависимости от экономики колхозов зарплата председателя колебалась в пределах 1746–3064 рубля, тракториста – в границах 651 и 1116 рублей, а «полевода» – между 172 и 614 рублями. В экономически слабых колхозах, где особенно велика доля «общекрестьянского» труда, наиболее значительна и разница в заработке административного персонала и людей на «конно-ручных» работах. Аппарат управления в артелях пока многочисленный, его содержание в 1964 году по колхозам Федерации обошлось в 16 процентов фонда оплаты труда.
Речь не о примитивной уравниловке – она противопоказана нормально развивающемуся хозяйству, высокая квалификация и ответственность должны и вознаграждаться хорошо. Но резкие перепады в оплате противоречат самой демократичной сути артельного производства.
Вот почему трудно переоценить постановление о гарантированной оплате труда в колхозах, принятое вскоре после XXIII съезда партии. Оно благотворно скажется именно на экономике слабых хозяйств, поднимет до уровня совхозной заработную плату людей самой массовой колхозной профессии. Осуществляя новую программу планирования и экономического стимулирования, государство своими кредитами повышает нижний предел артельного заработка.
Но само собой разумеется, что гарантированная плата не снимает, а лишь усиливает необходимость развития подсобных предприятий. Ведь и совхозный-то уровень оплаты будет идти «полеводу» только за те дни, что он занят! Если не сгладить сезонность, не продлить до разумной нормы рабочий период у половины колхозников, действие правительственного решения ослабится, не даст нужных результатов.
Потому-то получивший широкую известность «пункт 17» Директив, говорящий о промыслах как о важной государственной проблеме, пункт-завоевание, свидетельство творческого подхода к экономике, справедливо соединяют в деревне с введением гарантированной оплаты. Это единая программа. Сочетание сельскохозяйственной и промышленной деятельности не только увеличивает фонд оплаты труда – оно создает и товарное покрытие его. По пересчетам серьезных экономистов, стоимость валовой продукции только колхозов можно поднять путем лучшего использования ресурсов труда минимум на 8 миллиардов рублей – и в ближайшее время! Это поток товаров, каких ждет рынок, потому что колхоз, в отличие от иных фабрик, не станет, не сможет производить то, что рынку не нужно. Сама необходимость реализовать товар, да подороже, не отдать выгодного покупателя соседу, само развитие прямых связей заставит колхоз высоко держать честь марки – только ведь на безрыбье рак рыба, только при товарном голоде можно сбыть брачок. Можно с уверенностью говорить, что вся плодоконсервная промышленность в скором времени встанет перед необходимостью резко улучшать и разнообразить продукцию, не то колхозы отобьют у нее потребителя. Если мещерский «Большевик» снова возьмется тереть белила, то его краска будет не хуже и уж наверняка дешевле той, что сейчас иногда появляется в магазинах, – иначе колхозу не пробиться на рынок. Если колхоз Копейкиной получит возможность поставлять сувениры прямо «Березке», то Алексей Петрович Блинов в глубоком раскаянье сам пришлет в Мещеру подписанный бланк договора.
Промысел в его обновленном виде будет детищем экономической реформы. Для миллионов он станет школой хозяйствования, опирающегося на объективные законы экономики. Он приносит с собой умение торговать – то умение, которого так настоятельно требовал Ленин. «Промысел» и «промышленность» в русском языке – слова одного корня, и оба восходят к «мысли», к здравому уму.
Время мыслить, время умно хозяйствовать, время жить богаче.
Июль 1966 г.