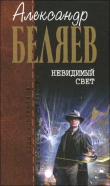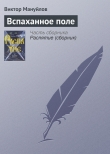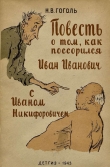Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Словом, и в Геническе не асфальтом полит путь к сильной пшенице. Пока и корма на поливе, и «дефицит» за белок – мечта, налицо лишь талант агронома. То, что при малых урожаях, при экстенсивном хозяйствовании давалось как бы само собой, при сегодняшней загрузке гектара под силу добыть только таланту.
Элемент знания, энтузиазма, увлеченности и при грядущих минеральных щедротах будет играть в пшеничном промысле кардинальную, незаместимую роль, пока же преодолеть всю череду препон под силу только незаурядному работнику. И то, что работа в высшем агрономическом классе не приносит ровно никаких лавров, что охота за клейковиной для пшеничного мастера бескорыстна, лишь подтверждает: дело в искре божьей. Кандидатским дипломом Обод, возможно, докажет серьезность и важность дела (ибо можно ли сомневаться, что за блажь, галиматью степеней не присуждают), но предисловие к диссертации – эшелоны сильной – признания ему не даст.
Как думать, что полки южных агрономов не имеют в своих рядах людей с исключительным пониманием природы благородного злака? Александр Константинович Мамонов на солонцах Керченского полуострова растит пшеницу с великолепной клейковиной – но видно ли его за богатырями вала? Агроном Геннадий Алексеевич Романенко в Тимашевском районе Кубани наладил производство сильных при рекордных урожаях – многим ли известен он, утверждающий совместимость большого вала с высоким белком? Видимо, безымянные пока мастера кладут основу школе интенсивного сильного хлеба.
Но талант – редкость. Редки и пятнышки сильной на карте пшеничного Юга. На одних исключительных качествах специалистов массовое производство держаться не может.
Перечитаем основной политический документ нашего времени – Директивы XXIII съезда КПСС. Главной задачей в области сельского хозяйства определено значительное увеличение производства продуктов земледелия и животноводства в целях лучшего удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания. За четкой, как закон, формулой – забота о человеке, о том, что он ест. Почему необходимо улучшать рацион среднестатистической «души населения»? Ведь, по данным бюджетных обследований, на одного человека у нас приходится 3000–3200 калорий в день, это в пределах нормы.
Вот книга, недавно выпущенная Политиздатом, – «Мы и планета», цифры и факты о пути, пройденном страной за полвека. Тут отражен и рост потребления, представлена качественная сторона нашего питания в сравнении с данными других государств. В потреблении хлеба мы на четвертом месте после ОАР, Югославии и Пакистана, наша доза – 150 килограммов в год, на три килограмма больше Индии. Выигрышное это место или нет? Скорее второе: в рационе француза хлеб составляет 91 килограмм, жителя США – 66. За последние 17 лет мы убавили хлебную дозу на 22 килограмма, по сравнению с тринадцатым годом – на 50 килограммов. И все же налицо известная «экстенсивность» рациона. Нельзя забывать о национальных традициях, привычках, вкусах. Но вот потребление мяса – здесь мы на восьмом месте (46 килограммов в год) и пока значительно уступаем Австралии, США – (108) и Аргентине (88 килограммов). Нормой потребления мяса у нас принят центнер в год. В картофеле мы следуем за Польшей и Бразилией, потребляя 131 килограмм. Это значительно меньше, чем было в 1950 году, но пока втрое больше, чем в США. В потреблении сахара и яиц мы на шестом месте, уступая США, Англии, Франции; наша доза молока (274 килограмма) пока составляет лишь половину или чуть больше половины научной нормы и держит нас на седьмом месте… Словом, структура питания, несомненно, нуждается в совершенствовании, нужно больше продуктов хороших и разных.
Как добиться этого? «Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства, для роста благосостояния народа имеет прежде всего производство зерна». Кажется, в столь сжатом документе не останется места для речи о качестве? Но нет.
Директивы специально отмечают: «Осуществить мероприятия по обеспечению значительного улучшения качества, технологических свойств и ассортимента сельскохозяйственного сырья, предназначенного для переработки в промышленности». Да, пшеничный белок – это частность, как и сахаристость винограда Армении и свеклы Кубани, выход волокна из смоленских льнов и чистой шерсти из руна Ставрополья. Но вот документ съезда перечисляет главные пути повышения урожайности – рациональное использование земельных угодий, правильные севообороты, внедрение лучших сортов, эффективное использование удобрений, борьба с эрозией почв, создание полезащитных лесонасаждений, – и всякий зерновик скажет: это программа борьбы за качество пшениц, ибо тут есть все для одновременного роста и сборов и белковой ценности. Если к агротехническим позициям Директив прибавить организационные (об укреплении договорных отношений хозяйств с заготовителями, о материальной ответственности сторон за выполнение обязательств по закупкам товарной продукции), то сложится комплекс.
Но в чем политэкономический ключ, где общественная гарантия успеха, чем выражен «гвоздь» момента? «Обеспечить правильное сочетание централизованного планового руководства сельским хозяйством с развитием хозяйственной инициативы и самостоятельности колхозов и совхозов». Сочетание плана, директивы, заказа «сверху» с интересом, толковостью, желанием быть рачительным «внизу» – вот слово реформы для социалистического села.
Почему, однако, сочетание, зачем два рычага, а не «или – или»? С высоты трех лет пятилетки это видно четче, чем даже в 1966 году. Не будем здесь касаться прошлого, заметим лишь, что черноземный Юг и в централизованных вложениях, и в размерах плановых заданий, оставлявших значительную долю продуктов для реализации на рынке, директивным руководством всегда ставился в преимущественные условия перед другими районами. Речь про день нынешний.
И сегодня план – это курс на «нужно», это материальное подкрепление государственных заказов, это те грузовики и дефицитный азот, что делают задание выполнимым. А план твердый, введенный мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК партии, – это стабильность, возможность специализировать хозяйства, отсюда истекает белгородский метод индустриализации животноводства, поддержанный многими областями. Централизованное планирование – настолько очевидное преимущество нашего строя, что и развитые страны Запада все шире применяют его в своей экономике.
Но план – возьмем самое близкое, элементарное – не предусмотрит, что на миллионах гектаров вдруг появится зерновой вредитель. Не допустить этого можно лишь «внизу» – если клоп вреден экономически. Административные меры не перекроют бесчисленных обходных непшеничных путей к прибыли в пшеничном краю – вспомним подсолнечный натиск в Синельникове. Совпадение «нужно» с «выгодно», подкрепление команды плановой командой экономической гарантируют разумность использования любой земли, какими бы особенностями она ни обладала.
Что важнее – плановый рычаг или рычаг инициативы?
Когда на плече коромысло с ведрами, какой край важней для баланса, для того, чтоб споро идти и не пролить воды?
Сами Директивы дают образец, как нужно развивать инициативу, добиваясь баланса. «Сверхплановые закупки зерна, осуществляемые по повышенным ценам, полностью отвечают интересам колхозов и совхозов и будут способствовать росту доходов тружеников сельского хозяйства». Полуторная цена на хлеб сверх плана – это соединение интересов государства, хозяйства и работника; следовательно, прирост урожая будет продан элеваторам.
И увеличение сборов Кубани, и восстановление озимого клина югом Украины, где в недавние годы кукуруза разрушила севооборот, и новый стандарт на сильные пшеницы, поставивший оплату в четкую зависимость от качества, – все это сочетание в действии. Но в той частности, о какой мы ведем речь (ибо клейковинная ценность озимых – все-таки частность зернового производства), совмещение «нужно» и «выгодно» не достигнуто, это-то, говоря в самом общем смысле, и порождает падение достоинств зерна.
Какой из двух рычагов вызывает перекос – вопрос несуразный, как и в случае с коромыслом. Оба! Госплан не считает нужным определить даже потребность в сильных – просчет плановый. Комитет цен не учел, что поврежденное клопом зерно покупается как здоровое – минус экономический. Министерство сельского хозяйства не специализировало районы, не определило баланс азота и объем удобрений, нужный для «накачки» пшениц белком, – тут сторона плана, хотя и науки тоже. Комитет хлебопродуктов не заинтересовал в заготовках лучшего сырья армию приемщиков – будто «край» инициативы, но ведь и плана тоже. Всех моментов не перечислить, ясно лишь то, что случайности нет: выводя равнодействующую из самых разных команд, условий и обстоятельств, хозяйства следуют ей и продают то, что продают. Раз результат оказывается огорчительным, раз из ведер выплескивается, то скоростью хода не удовлетворишься; надо ровнять коромысло, достичь иного итога воздействий.
Но зима 1969-го, суровым рубежом вошедшая в анналы нашего Юга, многое переоценила и, не сняв старых сложностей, поставила на первый план проблему, от которой зависят урожаи вообще, с качеством их и количеством. Насколько же правы были делегаты Двадцать третьего съезда партии, когда включали борьбу с эрозией в круг первостепенных задач! Таврии нужен азот? Но при таких темпах выдувания он впрямь может стать азотом, «безжизненным». На Кубани все упирается в туки? Данаиды когда-то не могли наполнить емкость потому, что у той не было дна. Превыше всего – сбережение чернозема, каким благословила нас природа. Прежде всего – охрана почв, за ней уже все остальное!
5
Первая пыльная буря на распаханной целине Кулундинской степи была 20 мая 1955 года. В тот день мы ехали из Благовещенки в Славгород. С казахстанской стороны двигалась какая-то рыжая стена. Вскоре небо помутнело, солнце исчезло, хотя туч не было; появилась холодная духота. Хлестнуло в стекло «газика» песком, брезент загудел, машину начало шатать, дорога исчезла, свет фар упирался в экран пыли. И вроде бы исчез воздух – стало нечем дышать.
Фронт бури сравнительно скоро прошел. Умываясь у придорожного колодца, мы с удивлением заметили, что краска с номера счищена, как наждаком. Нам сказали, что это был «кулундинский дождик». Чем он опасен, что последует за пробной коротенькой бурей, мы не знали, как не догадывались и о причастности целинников к эрозии. Первая в жизни пыльная буря запомнилась исчезновением воздуха.
А этой зимою в степи между Краснодаром и Тимашевской случилось увидеть нечто иное. Воздух был – исчезла земля.
Утихал второй январский ураган. Первый, особенно сильный, порывами достигавший скорости сорока метров в секунду, сломил сопротивление почвы. Бесснежная зима и морозы, иссушившие поверхностный слой, помогли беде, и во второй заход уже начало «качать».
Через асфальт, как снег при поземке, текли струи земли. Занесенным кюветом я прошел в поле. Листья озими были срезаны, корни пшеницы обнажились, на них держались пожухлые семена. С этого поля снесло минимум сантиметров семь почвы. Стоило мне остановиться – и ветер выметал вокруг моих башмаков ямки. Несло не пыль Кулунды, а крупные зерна кубанского чернозема. Все испытанное на целине в сравнение не шло.
Поражала крупность агрегатов сносимой почвы: комки размером с сечку гречневой крупы. Сразу пыли они не давали, ветер перемалывал их в движении, тяжелое оседало за прикрытиями лесополос, скирд, ферм, легкое же, поднятое ветром над Азовом, неслось пыльной толщей на Украину.
Но в январе были цветики, главная эрозия началась в третий, сравнительно тихий шторм конца февраля. Радио день за днем твердило: «На Северном Кавказе – пыльные бури». Как только открылся аэропорт, я снова отправился в Краснодар.
Уже с Воронежа потянулся внизу серый снег, лед Дона не блестел. Возле Ростова земля исчезла за мутной мглой: здесь еще мело.
Кубань – край свежий. То ли близость снежного Кавказа дает себя знать, то ли дыхание двух морей, то ли сама молодость земли, еще сто лет назад хранившей ковыль целины и золото сарматских курганов, но край узнаешь по первому вдоху в аэропорту. Когда бы ни прилетел, в августе или солнечном январе, бодрость и свежесть особого воздуха, яркость пейзажа молодит тебя.
А тут – серо, уныло, все будто состарилось, потеряло краски. Кусты самшита и роз в палисаднике занесены слоем земли. «Ой, да у нас как в Сахаре!» – поразились девушки-спутницы, прилетевшие домой, в пригород Пашковку.
Краснодар тоже изменился. Ну – пыль меж рамами окон, ну – иссеченная кора деревьев, сорванные буквы вывесок, грязь, общий серый тон, но откуда это скверное состояние тревоги, неустроенности, ощущение чего-то нарушенного в самой сердцевине сущего – и дрянная тяга туда, где земля прочна и воздух пахнет вишеньем? Шут его знает, вдруг в человеческом виде за тысячелетний опыт Месопотамии, Сахары, Средней Азии выработалась охранная боязнь эрозии, как у зверья – чутье к лесным пожарам? Конечно, будут и дожди, и сев яровых, нужно снова думать об удобрениях, об урожае, но внутренний «гомо сапиенс» при виде занесенных заборов на старых, еще станичных улицах чувствовал зябкость и беспокойство.
Город основан в конце екатерининской эпохи переселенными запорожцами. Кошевой атаман Чапега в 1793 году строгим ордером приказывал первому коменданту Екатеринодара: «Смотреть за жителями, дабы около града стоящих лесов отнюдь не рубили, также в лес и скотину не пускали, а учредили бы пастуха, который должен гонять на корм в степь». Первое почвозащитное мероприятие… Вокруг-то, оказывается, был лес!
В крайкоме партии рассказали, что от мороза и эрозии погибло больше миллиона гектаров озимых. Беда тем обиднее, что до января посевы всюду были великолепны, край уверенно шел за тридцать центнеров урожая, стихия подсекла на самом взлете… Громадным напряжением, созданием спасательных отрядов, подчас прямым героизмом станичников удалось не допустить серьезных потерь в скоте, постройках, коммуникациях. Сильно занесена сеть оросительных каналов, завалены лесополосы.
Но в каждом районе есть оазисы, будто обойденные бурями.
Это, как правило, старые, сложившиеся хозяйства. Их спасла настоящая полезащита, нужно такой образец брать за основу. Вообще буря заставляет осмыслить: можно ли держать столько пропашных, так перемалывать землю? Структуру, говорили в крайкоме, диктуют сахарные заводы и громадное стадо крупного рогатого скота, им-то и нужны такие площади свеклы и кукурузы… О чем думает Госплан, почему так планирует производство? Кубани дали в план хрен, это чуть ли не сотая культура. Ведь растет все, нужно определить, что можно брать…
Первым делом – конечно же в Усть-Лабу, на хутор Железный, к доброму приятелю Николаю Афанасьевичу Неудачному. Умница, человек фантастической оборотистости и сметки, этот бывший бригадир за двенадцать лет вывел-таки колхоз имени Крупской в первые по урожаю хозяйства страны. В прошлом году собрал уже по пятьдесят четыре центнера пшеницы! Одел асфальтом авеню хутора и армянским туфом – стены школы, Дома культуры, правления, понастроил пропасть ферм, навел культуру в полях, хоть, правда, в лесополосах ни одного корня не посадил. Это добытчик, у которого развязаны руки, знающий землю так, что утаить что-нибудь от него она не в состоянии.
Бульдозеры расчищали проселок от пыльных заносов, сталкивая то, что было черноземом, на жерделевые ряды полос. Не застав председателя, я отправился на хутор Свободный, всегда милый кубанской тишиной и сливовыми садами.
Вид поселка ошеломил. Оставив машину, которой делать тут было нечего, пошел курганами, грузно легшими во всю ширину улицы.
Занесены сады, заборы, занесены дома – до окон, кое-где до крыш. Будто небывалая северная метель погуляла неделю, но снег, как на негативе, черный. Встретил Ульяну Юхимовну – сапоги, фартук, несет четверть с молоком, смеется:
– Страшный суд! Бирюк больной лежит, а жена на работе, так его пылью засыпало. У Шуры Лозихи собаку занесло, в будке и умерла. Люди на тот край перебрались, а я в окошко прыгаю. Откуда такая гадость – ума не приложишь.
Подошел Абакумов, бывший счетовод, снятый за расположение к спиртному. Одержимый идеей переселиться на другой край хутора, поближе к теще, он и в буранах нашел подтверждение, что на этой улице жить нельзя, пускай Неудачный уступит.
– После первого рейса я с сыном сорок бричек земли вывез со двора, а оно еще больше надуло, теперь до окон. Несло вместе с удобрениями, а надышался – целый день рвало. А в том краю не тронуло, живы-здоровы.
Причиной было одно-единственное поле зяби с наветренной стороны. Зяблевые поля, как и на целине, были первыми запалами; пшеничные массивы сопротивляются сильнее, а с люцерны ветру вовсе взять нечего.
И все же колхоз имени Крупской устоял: из 1300 гектаров пшеницы около тысячи уцелело. Николай Афанасьевич досадовал, что пропало сорок пять гектаров элитной «Авроры»: ведь размножил с восьмисот полученных у Лукьяненко граммов! Расстраивался: внесли под свеклу по тонне удобрений, а вот улетели на Украину, теперь снова траться. (Усть-Лабинский район получает минеральные туки практически «по потребности», дело впрямь в рублях.) Придется посеять больше гибридной кукурузы, чтоб были «грошенята»… Словом, председателя, как и нестойкого экс-счетовода, заботили ближние реалии, на разговор о решительных мерах защиты навести его не удавалось, о каком-то переломе в стратегии думки не было. Эрозия – из тех же проклятых случайностей, что и град или, скажем, ящур, не иначе.
Кажется, я впал в грех нравоучительства: высыпал перед ним короб тех данных, что от частого употребления в предисловиях и вступительных речах совещаний потеряли устрашающий смысл, обточились и становятся общими местами.
Он, Неудачный, летал в Соединенные Штаты, верно? Так там в один только майский день тридцать четвертого года было снесено триста миллионов тонн почвы. Там высчитано, что от эрозии почва теряет в двадцать раз больше элементов питания, чем выносится с урожаем! Чтобы накопить три сантиметра почвы, природе в хороших условиях надо от трех до десяти веков. А с поля у Свободного в неделю снесен слой сантиметров в семь-восемь!
Николай Афанасьевич на это холодно возразил, что насчет страхов в США, должно быть, наврано, там на это способны. Ничего опасного он там не заметил, хотя проехали много. А сантиметры Свободного – бирюльки, у людей качало похуже. Чернозем толстенный, плантажный, плуг не достает дна.
(Этот же аргумент, кстати сказать, был употреблен в некоторых газетах. «Резонанс в России от пыльных бурь, поразивших Кубань, получился намного громче, чем сама буря и последствия ее, – можно было прочитать в одной, – Главное наше богатство – черноземы Кубани – целы-целехоньки. Снос верхнего слоя не превысил несколько сантиметров, и всякие разговоры о разрушении плодороднейших степей Юга лишены основания… В воздух ураган поднял самый верхний, распыленный слой почвы». Выходило, что разговоры обретут основание, когда ветер поднимет нижний слой, дойдет до подпочвы? Со сносом каждого сантиметра черноземного слоя гектар теряет 80 килограммов фосфора, 390 – азота, около шести тонн органических веществ – этого мало?)
Раз начавшись, процесс сам не прекращается. Маркс писал Энгельсу, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. И в том же письме им сказано, что вещи, лежащие под носом, не замечаются даже самыми выдающимися умами. А потом наступает время, когда всюду замечают следы тех самых явлений, которые раньше не привлекали внимания…
– Ну-у, теперь в науке пойдут кто во что горазд, – досадливо крякнул Николай Афанасьевич и отвернулся. – Советы, запреты, греха не оберешься…
Он выдал себя, мой старый приятель. Его гнетет опасность надзора!
Из всех ведомств наименьшей его симпатией пользуется котлонадзор. Может, еще пожарники, глухие и резкие люди, но котлонадзор с его каменным «нельзя» – особенно. Не объехать, не умаслить – как Чека. А если введут такой догляд за почвой?
Хозяин, вышедший на оперативный простор, после стольких лет скудости получивший и технику, и большущие «грошенята», он землю заставил возвращать не съеденное, не купленное в былые годы. Смахнул тракторами линию старых акаций, укорачивавшую гоны, но ни метра земли не отдал под новые посадки. Он сторонник люцерны, ибо на семенах берет серьезные тысячи, но почвозащита без денег – баловство, дурость. Намек, что снос того поля у Свободного приравняют к взрыву котла, раздражает его. Только привыкли пахать и косить как хочешь, а уже маячат возможности других «указивок». Почва – единственное, чего он не принимал и никому не передает по акту, о чем никогда не спросит ревизор, контролер, инспектор. В почве государство – это он. Есть даже акт на вечное пользование землей.
Никакой он не временщик в том смысле, чтобы урвать и уйти. Просто в комплексе крестьянских представлений, который (вместе с тракторами, азотом, «безостой») вывел его на всесоюзный олимп, понятия эрозии не было и нет. Амброзия – да, это карантинный сорняк, его теперь нанесло ветром, а эрозия – выдумка, дурь, бирюльки. На хутор послали экскаваторы, отроют!
Но было ли когда-нибудь, чтоб Неудачного расстраивали пустяки? Если хозяйственное его естество так реагировало на саму возможность «котлонадзора» за черноземом, значит, дело серьезное. Сам, добровольно, охранником почв он не станет: если б и было желание – он не знает, что делать, как толком не знает системы мер и вся Кубань. А если поверит, убедится, что известные приемы не дают сдувать тонны удобрений, – будет делать как следует, без втирания очков. Убедить его, что в том акте главное слово – «вечное», что не превышать давления в «котлах» севооборотов даже выгодно, что брать у природы не больше «милостей», чем она способна давать, оставаясь здоровой, должен он сам, – тут целый этап воспитания, хозяйственного, научного и нравственного.
Гребнем Лабы, над пойменными лесами Адыгеи, вдоль цепи сарматских могил – к тополевому Курганинску, к предгорному прохладному Лабинску, оттуда – в глубь степи, к Новокубанке, на стрежень Армавирского коридора.
Прав был Николай Афанасьевич: в Свободном я видел «бирюльки».
С начальником Курганинского сельхозуправления П. Г. Пацаном взбирались на земляной вал на меже колхоза «Кубань» – высотой почти равный лесополосе, с десятиметровым основанием. Из наноса торчали верхние прутья абрикосов и кленов: приняв черный поток в себя, посадка погибла. Павел Григорьевич рассказывал: один московский представитель до поездки в поля спрашивал, не очистить ли полосы мощными вентиляторами, но увидел валы, вздохнул и пожал плечами. Растащить наносы по полям – сложная и долгая мелиоративная задача, но поселки, приусадебные участки выручать надо быстро. В ассирийском хуторе Урмия занесены клуб и ферма, в Красном Селе люди кормят кур, поросят через крыши сараев, улицу перегородили курганы высотой с дом.
Лабинский секретарь райкома Павел Касьянович Чайкин, кандидат наук, человек редкого обаяния, повез, ничего не тая, в самое пекло – к станице Чамлыкской. Председатель колхоза Сливин сказал: «Мы теперь уже смеемся – терять нечего». Поля здесь были усеяны голышами, торчащими на столбиках чернозема, как шляпки грибов: землю вокруг камней выдуло, снесло в долину, за хаты, сараи, скирды. Теперь уже председатель, склонный к лекционной пропаганде, рассказывал нам о законах американского конгресса в защиту почв. За пятнадцать лет управления хозяйством М. И. Сливин посадил всего шестьдесят гектаров лесополос – что делать, поддались течению, забросили лес и травы. Надо убрать из станицы полтора миллиона кубометров грунта, это влетит в копеечку, нужен кредит.
Но – свойство людской натуры – после прививки в Свободном все зримое не бросало в пот, стало почти привычным, вернулся сон, пошло обыкновенное газетное: сколько, почему, как? Тем более что и контрасты были разительные: рядом, буквально в соседстве с аренами «Страшного суда», стояли здоровые хозяйства с густым ковром живых и крепких озимей.
В колхозе «Лабинский» (Павел Касьянович свозил и туда) долину спасли не лесополосы в привычном, широченном и непролазном виде, а просто шеренги взрослых тополей, узкие ветроломные гребешки, расчесавшие потоки воздуха до безопасной скорости. В пору зарождения науки о борьбе с засухой российские ученые называли такую защиту живыми изгородями. Живые изгороди – живые поля. Директор Семен Евдокимович Кравченко рассказывал, почему, хоть и бури, хозяйство нынче выполнит пятилетку по зерну, я же выпытывал, откуда такие славные тополя, как стал совхоз крепостью.
Знаменитый племенной завод «Венцы-Заря» словно одновременно находился и в зоне затишья, и на самой стремнине: на одном отделении ветер засек почти тысячу гектаров пшеницы, не затронув ни поля на остальных. Оказалось, жестоко потрепанный участок недавно прирезан, перешел из колхоза, где строили полосы для отчета, не для дела. А старые бригады сильны системой: можно, не выходя из тени, обойти все поля.
Непродуваемая, шириной метров в двадцать, с опушкой из кустарника лесополоса, сквозь которую мышь не проберется, – хороша она или плоха? Такая конструкция двадцать лет назад считалась строго обязательной. Бури доказали, что она просто вредна. Если в снежную зиму полоса грабит поле, собирая в себя сугробы, то в пыльную природа просто выносит приговор нежизненной затее: земляной вал погребает крайние ряды деревьев. Это было бы технической деталью, если бы скверное состояние зеленой обороны так дорого не обошлось нынче, если бы валы на полях не подрывали в людях веры в способность живой изгороди.
Таким ли зеленый заслон изобретался в давние, докучаевские времена? Кубань, и прежде всего край манивший, позволяет ответить на это.
Один из акционеров строительства Владикавказской дороги барон Рудольф Штейнгель в 1881 году купил у генерал-адъютанта Святополк-Мирского в восемнадцати верстах от Армавира шесть тысяч десятин земли, где основал имение, назвав его Хуторок. Вскоре подкупил еще, взял и построил спиртовой завод и галетную фабрику, подвел ветку железной дороги. Создалось одно из культурнейших хозяйств России, медалист многих выставок. Наследник, Владимир Штейнгель, нанимал в лето до пяти тысяч временных и поденных рабочих, эксплуатация была не легче, чем в однотипной, тоже немецкой Аскании. Большевистская группа вела среди батраков действенную агитацию, доходило до вызова войск. «Имение мое Хуторок стало очагом самой ужасной революции в ее самых крайних проявлениях» – звал помощь хозяин. Любопытно, что зимой 1918 года над арестованным Штейнгелем батраки устроили на площади общественный суд, признали лично его в злодеяниях невиновным и отпустили за границу. В апреле восемнадцатого года здесь основан первый кубанский совхоз.
«Хуторяне» – завзятые историки, летописи их хозяйства в отличном состоянии, и не представляет труда проследить, как былое капиталистическое имение через разрушения двух войн, через беды неэкономического свойства поднялось к требованиям второй половины XX века, стало одним из культурнейших советских хозяйств. Средним многолетним урожаем пшеницы до революции были 15 центнеров с гектара, в 1964–1966 годах совхоз получил 31,2. Даже по сравнению с предвоенным временем производство мяса увеличилось в десять раз, молока – впятеро. Именно последовательное накопление культуры, надстройка этажей помогли достигнуть этих высот.
В 1886 году в Хуторке было посажено пятьдесят километров лесных пород. Избраны быстрорастущая гледичия (ее тут и теперь называют «баронской акацией») и ясень. Мы смотрели старейшие поля, и Константин Георгиевич Лепешкин, главный агроном совхоза, все обращал внимание на крайнюю экономность: полосы трех-четырехрядные, безо всякого кустарника, отличной продуваемости. Такая полоса дешева в уходе, ее легко чистить. Непродуваемые запускаются и дичают, кроме прочего, потому, что на очистку гектара требуется до пятисот рублей зарплаты – средства громадные, если учесть масштабы хозяйств. А промах первых лесоводов в том, что за межполосное расстояние они принимали версту, эрозию тогда сковывала целина. В половину бы теснее стояли живые изгороди – и на старых отделениях «Хуторка» не выдуло бы нынче ни гектара озимей! Продуваемый ряд деревьев гасит ветер на расстоянии 35 высот за собой, средняя высота взрослых полос – около пятнадцати метров. Следовательно, при сплошной распашке расстояние между поперечными барьерами не должно превышать полукилометра. Этого родоначальники степного лесоводства, видимо, не знали, но что главное не в ширине зеленой стены, а в ее высоте и продуваемости, они понимали прекрасно.
Коротенький акт, написанный на месте событий, – словно рецензия на многотомную, вековую историю лесоводства… Сразу после бурь специалисты исходили поля двух районов Донецкой области и определили работу полос. В колхозе имени XXII съезда КПСС Волновахского района площадь лесных насаждений составляет от пашни 3,7 процента, создана законченная система, гибель «безостой-1» от морозов небольшая, выдувания нет. В том же районе колхоза имени Жданова (доля леса – 1,2 процента, полосы единичны) выдуто и засыпано шестьдесят процентов озимых. Сходная картина в Володарском районе: поля колхоза имени Щорса понесли тяжелый урон, племзавод «Диктатура» шторм выдержал без потерь. Итак, отныне полезащита может оцениваться по трем позициям: система, продуваемость, высота.
За пятилетие массовых посадок после 1948 года на Кубани к 20 тысячам существовавших было прибавлено 106 тысяч гектаров насаждений, к нынешней беде уцелела 81 тысяча, преобладают акация, наползающая на поля, недолговечный абрикос, клен, лох. Дуба, что любит расти «в шубе, но без шапки», медленно набирающего высоту, но вечного, мало. Сейчас высказываются за сочетание дубовых линий с быстро растущим тополем, деревом краткого века. Для создания законченной системы Кубани и соседним районам Северного Кавказа нужно прибавить четверть миллиона гектаров посадок, в прошлом году степью всей зоны посажено менее десяти тысяч, завершение комплекса может затянуться на десятилетия.
Это о средствах обороны. А что же враг, ветер?
Те же летописи «Хуторка» способны неопровержимо доказать, что никакой внезапности нападения не было. За четырнадцать лет до 1953 года пыльные бури десять весен губили на новых отделениях посевы озимых. На северо-востоке края эрозия – противник старый, методический, а ветры и прежде достигали сорока, даже шестидесяти метров в секунду. Перед самыми ураганами «Советская Кубань» статьей «Земля просит защиты» напомнила урон всех районов края за недавние весны: 1960 год – охвачено эрозией 530 тысяч гектаров пшеницы и ячменя, 1965 год – погибло 300 тысяч гектаров. И если излюбленное докучаевское «природа не делает скачков» в смысле диалектическом неверно, то в данном случае, пожалуй, подтверждается: размах эрозии явился скорей количественным шагом, чем катастрофическим скачком. Что ветру злодействовать все легче, говорят пыльные бури, повторившиеся в нынешнем апреле при сравнительно низких скоростях: наносы готовы служить запалами. Враг неумолим и открыто демонстрирует силу.