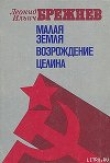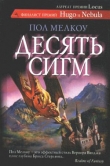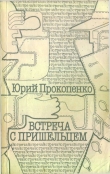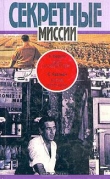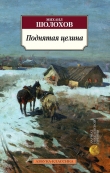Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
Но пора – о колосе, какого еще нет.
В июне 1971 года селекционеры всех пшеничных зон страны слетелись во Фрунзе – знакомиться с новой попыткой достичь сортового идеала.
На семи гектарах, орошаемых чуйской водой, им показали гибридные линии, чем-то напоминающие камыш, но ростом чуть выше колена. Необычаен был вид колосьев – в четверть длиной! Хозяева были откровенны: сортов пока нет, материал поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой, отчего зерно выходит щуплое. Семинар проходил довольно бурно, что объяснялось, может, сравнительной молодостью участвовавших, может, тем деликатным фактом, что Алтай, Таврия, Заволжье приехали смотреть пшеницу будущего в Киргизию, чей хлеб погоды в стране не делает, а может, просто неотложностью долгов селекции. Но все сошлись на том, что авторство создателя линий М. Г. Товстика должно быть признано до завершения работы над сортами, а завершать надо всем селекционным миром, и что нельзя терять времени, тотчас после уборки материал должен поступить во все селекцентры Союза.
У Вавилова, вспоминают знавшие его, было такое словцо – «вульгарье». Он употреблял его по отношению к зеленым материалам, какие не стоят внимания. Не брань, а просто оценка. Сколько этого «вульгарья», с завидным упрямством пестуемого, выдаваемого чуть ли не за новое слово, за открытие, произрастает на селекционных делянках от Москвы до самых до окраин, сколько авторских надежд оно питает! Если за три пятилетия передано в испытание 1911 сортов зерновых и крупяных и 1851 сорт с ходу забракован, если только два сорта – «безостая-1» и «мироновская-808» – занимают четыре пятых озимого пшеничного клина, авторство же оставшейся пятой делят меж собой целых девяносто институтов и станций, то можно только жалеть, что кто-то строгий и честный не произносил своевременно в разных местах: «вульгарье».
Линии Михаила Григорьевича Товстика селекционеры, был грех, похищали. Срывали колосок-другой – и во внутренний карман: пока еще получишь, а образец увезти надо. Материал уникален: крупноколосые короткостебельные формы, открывающие путь к урожаю уже за сто центнеров. Можно было иронизировать над ржавчиной, над шумом, когда еще нет сорта (и меж собой приезжие это делали), но не признать оригинальности направленного поиска было нельзя.
Работает здесь Товстик четверть века. Ровно на середине этого срока был, по его словам, «выгнан с делянок»: пришла «безостая-1», разметала все сорта и заделы. Продолжать можно было только на базе шедевра. У кубанского сорта колос не больше десяти сантиметров, число колосков на его стержне – 21. Каждый добавленный колосок увеличивает урожайность на два-три центнера. Для сбора в сто центнеров стержень должен нести 25–27 колосков. Чем удлинить? Есть злак с рекордной протяженностью колоса – в полметра, но это не хлеб. Это пырей, с ним долгие годы работает академик Н. В. Цицин. Двенадцать лет назад селекционер из Фрунзе скрестил сорт Лукьяненко с пыреем. Гибрид дал диковинный, с 39–30 колосками на стержне, несущий до семи граммов зерна колос.
От отца-пырея линии унаследовали полегаемость. Гигантский колос нуждался в необычной трубчатой опоре. Из коллекции ВИРа поступил некий «тибетец», карлик под именем «Том пус» – перевести это можно как «мальчик с пальчик». Он стлался, колос имел малый, единственный плюс – крохотный рост. В 1966 году – подчеркнем: в шестьдесят шестом, когда, как уверяют, «вопрос» о стебле «не стоял», а ведущие институты еще не поняли роль генов карликовости – безвестный агроном из Чуйской долины скрестил свой материал с «тибетцем». Гены оказались настолько мощными, что стебель опустился до полуметра, с полегаемостью было покончено. Главное преимущество линий перед мексиканскими сортами – колос длиннее на 5–8 сантиметров. Главные минусы – неустойчивость к болезням и то, что это озимая пшеница, яровым зонам нужно переделывать ее.
Михаил Григорьевич работал на самом современном – по мышлению – уровне: скрещивание экологически отдаленных форм соединено с межвидовой гибридизацией. Но работал в одиночку, без фитопатолога и генетика. В его находке много от интуиции и таланта, от той поры, когда селекция была еще искусством, не наукой – точной, поддающейся планированию и техническими способами обеспеченной от неудач. Искусство вдохновляется надеждой на удачу, наука гарантирует успех! Одаренность наших корифеев – П. П. Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. Н. Мамонтовой – признана миром, и разве случайно, что три наиболее результативных института – Краснодарский, Мироновский, Юго-Востока – это крупные и по нашим условиям щедро оснащенные научные центры?
Высеянные на полях сотен институтов и станций «мексиканцы» и сорта американской компании «Уолрд Сидз» стали семенами беспокойства. Почти каждый участник семинара говорил о плодах испытаний. Превышение урожайности над районированными сортами было внушительным – но только при очень хороших условиях. Новички не полегают, очень отзывчивы на удобрения и дополнительный азот честно перерабатывают в протеин: содержание белка у новоселов достигло в Крыму 19 процентов, клейковины – 39,5 процента. В Армении короткостебельные дали урожай в 70 центнеров. Но на богаре, при скудном пайке влаги и пищи, интенсивные иноземцы не выдерживали сравнения с нашими сортами, что и было отмечено рядом выступавших – с тем, надо сказать, выражением, с каким некогда произносилось утешающее: «Что русскому здорово, то немцу – карачун». В новых условиях те хлеба поражаются пыльной головней, восприимчивы к мучнистой росе. Редкие из купленных сортов годятся для немедленного использования, большинству нужна переделка. Но даже и при нотках скепсиса общий тон семинара был деловым, беспокойным, и сам этот слет был попыткой решать новые проблемы по-новому – централизованно, быстро, по-вавиловски.
– За Нарвой приходит Полтава, – сказал, закрывая семинар, академик ВАСХНИЛ Н. В. Турбин.
Приходит, но для этого колокола переливают в пушки.
Идет гонка со временем. Сегодня селекцию можно вести или быстро, или никак – госбюджет будет избавлен от пустых трат. Селекционер, дюжину лет или больше в одиночку корпящий над сортом, чтоб потом госсортсеть еще лет пять-шесть выясняла, что, собственно, он сделал, ныне полный анахронизм. Не говоря уже о технике, агрохимии, мелиорации, какие идут своим темпом и ждать никого не намерены, напомним, что сами болезни пшениц, расы гриба быстро приспосабливаются к новому сорту, и если даже он был рожден устойчивым к ржавчине, то в поля придет уязвимым: гриб обгонит. Тридцать лет выводит сорта старейший из институтов степи – Сибниисхоз, а колхозами не принят ни один. Спрос, известно, не грех, попытка получить авторство – тоже, но когда солидный коллектив методически является на вокзал со своими дарами после третьего звонка, то вместе с его сортами испытывается и терпение Госбанка.
Селекция больше не может делать ставку на штучную выделку шедевров – нужен поток, конвейер сортов. Агроном должен знать, пусть приблизительно, какую пшеницу он получит через пять лет и чем заменит ее через десять.
Вавиловское требование «надо спешить!» полностью относится и к испытателям. Растягивать экзамен новому сорту чуть ли не на такой же срок, какой пошел на его создание, – все равно что выпускника вуза экзаменовать пять или шесть семестров. Засуха, мороз, нашествие ржавчины, прочие нужные для проверки беды не могут ожидаться как «милости природы», – сложности нужно моделировать! И уж если сорт – открытие, то тем более нужна скорость, он должен сразу идти во все зоны возможного ареала.
Распыленность сил – всегда отставание. В тех двухстах учреждениях, что ведут селекцию зерновых, конструктор сортов в большинстве случаев – одинокий ловец удачи, индивидуалист поневоле: сам себе агроном, сам и генетик. Даже юридически, в вопросах авторства, затруднена возможность кооперации и разделения труда. М. Г. Товстик осенью семена разослал, но разговор о признании за ним авторства на линии остался без последствий. Нет, оказывается, прецедента, чтобы заготовки, пусть и уникальные, у нас признавались научной ценностью. Колос ты должен делать сам до конца. Временем тебя не ограничивают.
Чтобы лидировать, селекционер должен жить минимум вдвое быстрее полевода, то есть получать хотя бы два поколения гибридов в год. Способа два: теплицы или использование районов с теплой зимой (этим путем шел, мы знаем, Борлауг). Есть у нас теплицы? Теперь да, два года назад в Западной Европе закуплено двадцать таких устройств, ускорителей зернового прогресса. На ящиках с точным оборудованием стоит требование – «хранить в закрытом помещении». Сибниисхоз в Омске хранил то добро во дворе, под снегом и дождем. А почему, собственно, хранил, не собрал и не пустил сразу, как экстреннейший объект – ведь золото плачено? Почему вообще из двух десятков теплиц только две на сегодня в деле? Ну, тут объяснят подробно: проекты, привязки, некому строить, трудно с кирпичом… А вот почему теплые районы Грузии не используются как теплица под открытым небом, чтобы осенью тут посеять, а к весне материал успел, скажем, на Алтай, – этому и объяснений не услышишь.
Оно и спрашивать, если серьезно, незачем, потому что буквально всем, от рядового лаборанта до президента ВАСХНИЛ, первопричина ясна. Нет единого хозяина, нет полноправного и ответственного кормчего пшеничной селекции, каким в былые годы служил Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, он же, позднее, – ВИР. В разных зонах создано двадцать семь селекционных центров, но старая немочь – распыленность – проникла и сюда: подчинены эти центры пяти разным органам, приданы зональным институтам. Зональный же институт, известно, это ВАСХНИЛ в миниатюре, и внутри его средства и силы распыляются уже меж направлениями, а их не меньше, чем тварей в ковчеге у Ноя. В итоге те селекционеры, что у Минсельхоза Федерации, получают от семи до восьми процентов средств, ассигнованных комплексным институтам, и было б наивностью ждать, что при таком внимании с делянок быстро исчезнет убогое «вульгарье».
«Считать важнейшей задачей выведение неполегающих и устойчивых против болезней сортов и гибридов зерновых культур для возделывания их на орошаемых и осушенных землях, а также в условиях применения высоких доз минеральных удобрений», – гласят Директивы XXI съезда партии. Проблема прочной иммунной соломины поставлена в число важнейших задач государства!
Полтава должна прийти.
Апрель 1972 г.
VI
Жанр поздравительной открытки известен: «Доброго здоровья и успехов в труде»… Чаще же и это уже напечатано, довольно личной подписи. Но, как и всюду, бывают исключения.
«Уважаемый Ю. Д., Вы неоднократно и подчас квалифицированно выступали по вопросам степного земледелия…»
Так начиналась открытка Александра Ивановича Бараева, и по многозначительному «подчас» адресат легко понял, что очерк «Лес и чернозем» отнюдь не забыт. Но дальше.
Дальше на левой стороне двустворчатой карточки сообщалось, что «целинные урожаи последних трех лет подтвердили эффективность почвозащитной системы земледелия, внедренной ныне на площади более 20 млн. гектаров». Практически достигнуто удвоение сборов, и случайности в этом нет, налицо закономерность, ибо проявляется на значительной территории, а времени достаточно для выводов.
Правая сторона представляла таблицу динамики урожаев основных регионов целины за тринадцать лет.
Цифры великолепны, и счастлив агроном, могущий подписаться под такой сводкой.
Целиноградская область до внедрения почвозащитной системы собирала по 6 центнеров зерна с гектара (в среднем за пятилетие 1961–1965 гг.). В период освоения системы (1966–1970 гг.) она получила по семь, а освоив основные элементы, подняла урожай в среднем за трехлетие 1971–1973 годов до 11,9 центнера. Прибавка составила 5,9 центнера.
Для Кокчетавской области ряд цифр таков: 6–9,5—13,7. Подъем на 7,7 центнера.
По Алтаю соответственно: 7–9,9—16,1. Прирост 9,1 центнера.
Опытное хозяйство института: 11,2—13,9—18,6. Сбор возрос на 7,4 центнера.
Разумеющему довольно. Толковать, что сложный технически и психологически переход к плоскорезу, к сохранению стерни, узаконение паров и новых сроков сева смирили и пыльный пожар, и разгул сорняков, – толковать об этом незачем, да и негде: открытка мала.
Оборотная сторона – глянцевая, чернила держались плохо – утверждала, что «эффективность системы тотчас упадет, если исключить какое-то звено». А попытки сократить паровой клин и нарушить полевые севообороты с короткой ротацией не прекращаются. Широкая печать, помогавшая внедрению системы, ослабила внимание к целинным проблемам. А рост урожаев вызвал новые сложности: хозяйства плохо вооружены против осенней непогоды, техника не отвечает задачам. Близкое двадцатилетие целины нужно осветить по-деловому, способствуя развитию первых успехов и распространению принципов почвозащиты на европейскую часть страны. Следовали настоятельное приглашение в Целиноград и подпись.
Вот так, без юмора. Если не считать юмористичным сам факт, что итог трудов целой научной школы вместе с задачами на будущее умещен на поздравительной карточке к годовщине Октября.
Касательно памятливого «подчас»… Черные бури зимы 1969 года на Кубани и Украине ошеломили и потребовали немедленного ответа: что делать? Кубанские агрономы корень бед видели в том, что край плохо занимался лесозащитой. Полосы были посажены безграмотно, система не создана, вот ветер и разбойничает. Такой взгляд опирался на докучаевскую, облесительную тенденцию. Бараев объезжал бедствующие районы с одним категоричным требованием: поле должно само защищать себя! Если уж в историю, то этот взгляд восходит к работам А. А. Измаильского, друга и оппонента В. В. Докучаева. Кубанцам линия целинного академика была непонятна, с казацкой солью ситуацию определяли так: «Учил поп ксендза службу править…» Мой первый газетный подвал «Лес и чернозем» поддерживал близкую кубанцам лесозащиту. Он-то и дал мне возможность испытать на себе бараевский характер.
Прилетев спустя несколько месяцев в Целиноград, я узнал, что Александр Иванович в больнице – гипертонический криз. Докторша сказала: повлияли поездки по югу, там отчего-то сильно нервничал, но навестить, конечно, можно – «помня, что идете к больному».
Бараева я увидел в затененной первой зеленью беседке, он был в халате, читал. То-то обрадуется – я привез ему фолкнеровское «Безумие пахаря», эту книгу из его библиотеки не раз «уводили».
– Здравствуйте, Александр Иванович, с самолета – и к вам…
Молчание. Ни руки, ни кивка. Не узнает?! Но ведь столько лет…
– Напрасно спешили. Пишите дальше «Лес и чернозем», я вам не помощник. И не затрудняйтесь посещением института.
И ведь не академическое чудачество – злость стопроцентная, будто я сотворил ему личную пакость.
– Вы помогаете эрозии! Пятнадцать лет надо лесополосе, чтобы вырасти, а потом? Потом занесет до макушек, как под Армавиром! Вы ведь видели это сами, но криводушно внушаете: сажай лес! Четверть миллиона гектаров отдать под полосы, чтобы получить новые наносы чернозема? Вреднее ахинеи я не читал!
Меня дернула нелегкая возражать. Хорошо Бараеву насаждать канадский комплекс в казахских степях, но как с ним идти на юг? Да и сама целина за лес берется. Вон совхоз «Кулундинский» – в пух был разбит ветром, а прикрыл поля березой, тополем, ожил, сеет…
– Да он пропадет через три года, ваш кулундинский лес, не даст веника на баню! Вы ни шиша не поняли в южном земледелии: с озимями легче защитить почвы, чем тут, на целине! Ваши писания на руку рутинеру!
Из сада меня вытолкали взашей. Напуганная шумом докторша гарантировала, что такого склочника больше в больницу не пустят.
Охлаждался я после диспута в ближнем Ишиме. Дудки, оставлю Эдварда Фолкнера у себя. Брань на вороту не виснет, но явный же загиб у Бараева с лесом. У корреспондентов собственная гордость…
Впрочем, соразмерим величины: кто такой газетчик? Да сюда приезжали полновластные хозяева агробиологии, требовали сеять рано, до всходов сорняка, и даже им, полновластным, Бараев прилюдно заявил: эта ахинея погубит целинные урожаи!.. В Целиноград привезли Наливайко, олицетворявшего «пропашную систему», Хрущев сказал, что западный фермер взял бы наставником Наливайко и прогнал бы Бараева. Тут не критикой пахло, а – «быть или не быть». Ради сохранения института, ради зарождающейся школы, самой целины, наконец, можно бы вслух покаяться, а про себя твердить: «все-таки вертится». А Бараев? Он и тогда в полный голос твердил: «вертится», нужен пар, ранний сев вреден… В итоге «пыльный котел» моей Кулунды стал варить сильную пшеницу. Надо, выходит, хранить право ученого на резкость и прямоту. И если все дело в корреспондентском смирении – я возвращаюсь к больнице!..
«Безумие пахаря» я протянул через забор. Бараев сказал, чтобы я надписал. Я надписал: «Главному агроному целины…»
Агроном – «законодатель полей», это привычно. Точно ли только толкуем? Давать законы природе, будучи частью этой природы, – не мания ли величия? Давались законы отсутствия внутривидовой борьбы или биологического засорения (овес переходит в овсюг, рябина в осину и т. д.) – как подчинялась им природа? Наказывала законодателей такой мерой, какою измышленный закон отличался от истины. «В природе вся красота, – вдохновенно говорил на скате своих дней Василий Васильевич Докучаев, – все эти враги нашего сельского хозяйства: ветры, бури, засухи и суховеи, страшны нам лишь только потому, что мы не умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить и научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам на пользу». Нет, не законодатель, а законовед земледелия, скромный исследователь ненаписанных сводов, а по отношению к пашущему – законоучитель!
Сам он не сеет, не пашет, он наставляет других, такова общественная функция, а поскольку учит живого человека, с навыками, склонностями, да еще крестьянина, какого века научили оглядке и осторожности, то агроному надлежит знать человеческую натуру.
В начале двадцатых годов виднейший наш агроном Н. М. Тулайков написал брошюру о распространении сельскохозяйственных знаний среди населения США. Книжка находилась в библиотеке В. И. Ленина в Кремле, предисловие Н. К. Крупской оценивало работу как имеющую «громадный интерес». В труде было семь заповедей агроному. В чуть сокращенном пересказе они выглядят так:
Люби сельское хозяйство и деревенскую жизнь.
Знай задачи сельского хозяйства именно этой местности.
Понимай связь между отдельными приемами и хозяйством в целом.
Знай крестьянскую психологию, хорошие и плохие стороны склада ума, заслужи доверие людей, уважай их здравый смысл.
Говори ясно и доступно, для этого знай общие науки, на которых стоит агрономия.
Будь всегда с людьми, но делай то, что считаешь нужным.
Имей хорошее здоровье, трудолюбие и силу преодолевать препятствия на своем пути.
В чем-то каноны, может, устарели, но в общем научноэтический идеал может служить и ныне. Речь тут шла о практике, не о стратеге агрономии, но в науке добывания хлеба иерархия играет скромную роль.
Оздоровление целины есть крупнейший шаг научно-технической революции, достигнутый средствами агрономии.
Одним из знаков признания этого явились Ленинские премии А. И. Бараеву и его коллегам – Э. Ф. Госсену, А. А. Зайцевой, Г. Г. Берестовскому, А. А. Плишкину, И. И. Хорошилову.
Если сама распашка степей востока была намечена еще в ленинском плане ГОЭЛРО («если бы здесь земледелие поднять хотя бы до того уровня, который имеет место в аналогичных по климату и почве частях Европейской России, то возможно было бы обеспечить продовольствием от 40 млн. до 60 млн. людей», – читаем в Плане); если подъем в три начальных года 32 миллионов гектаров ковылей в междуречье Оби и Волги был великим организаторским деянием, то одоление эрозии, стабилизация урожаев, превращение целины в надежную житницу («вновь освоенные земли дают теперь 27 процентов зерна, которое заготавливается в стране», – сообщили недавно) есть победа научно-технической революции, ибо лидером была наука, а средством решения задачи – принциппиально новая техника.
Первоцелинник Иван Иванович Бысько, белорус из-под Бреста, рассказывал мне: «Прицепили за трактор какой-то резак, протянули, а стерня осталась, торчит чертом. Думаю – лущевка, скоро пахать начнем. А Бараев приехал, говорит: «Больше никакой пахоты, чем больше стерни, тем лучше». – «Так ведь глядеть срамно, будто крот нарыл», – «А вы потом поглядите на снег, на небо и на хлеб». – «Александр Иванович, не выйдет ничего!» – «От вас зависит, чтоб вышло. Другого выхода нет…»
Бысько работал в опытном хозяйстве, привык к диковинкам и предупреждал директора, что «не выйдет», просто из человечности. Колхозный бригадир, кормивший целый поселок, должен был опасаться, что за стерню на пашне его раздерут сначала свои, а потом начальство. Отказ от оборота переворачивал все, к чему были приучены поколения.
Для людей зарождающейся школы борьба с эрозией стала делом жизни в буквальном смысле: чтобы дышать, черпать из колодцев воду, выращивать в палисаднике, за камышовым тыном, капустную грядку или куст георгин, нужно было осадить клубящуюся пыль. Георгий Георгиевич Берестовский уже немолодым оставил сравнительно устроенный Павлодар с должностью в областном аппарате и перебрался на самое дно пыльного котла, основал опытную станцию в местах, где в июне не видели солнца, – подчас приходилось, гася очаги, разбрызгивать сланцевую смолу «нэрозин». Так встарь моряки, на момент утишая шторм, выливали за борт бочки с жиром. Поселившись в Шортандах, Бараев зимовал в саманном домике, где между рамами окна, в стуже, цвел полевой вьюнок, случайно попавший в глину, – цвел, напоминая, насколько прилипчиво худое. Александра Алексеевна Зайцева, в молодости сотрудница Вавилова, навсегда оставшись в Казахстане, сумев его полюбить, со страстью кадрового вировца внушала молодым аспирантам, что им будут завидовать… И умение ясно говорить, и уважение здравого смысла в пашущем, и смелость стоять на своем – все семь доблестей агронома понадобились людям новой школы. Любить такую деревенскую жизнь было еще не за что, как не за что зимовщикам любить пургу Диксона.
Откуда взялся плоскорез?
В 1957 году Бараев побывал в Канаде. Увидал набор орудий, каким спасли провинции прерий. Отсюда первая подножка оппонентов бараевской школы: «Эге, техника-то скопирована…» Многие специалисты наши и до и после Бараева благополучно отчитались в валютных тратах, а упрека такого не заслужили. На полях их вояжи не отразились никак. Ефим Дорош говаривал: «Главное – не куда едешь, а что везешь». Бараев вез идею, ехал за техническим решением. Мальцевская обработка уже приучила к работе без отвала, тут, говоря за Докучаевым, «народное сознание опередило науку», но машиностроение наше вовсе не было готово к задаче сохранить стерню. Земледелие не признает китайских стен. Русские переселенцы снабдили Канаду сортами зерновых и трав, ныне страна – антипод Сибири – могла помочь образцами орудий. Машины делаются долго: жатку ЖВ-15 «Ростсельмаш» доводит второй десяток лет. А пыльная буря, слизнув три сантиметра почвы, уносит с гектара около восьми центнеров азота, около двух центнеров фосфора и шесть тонн калия, восстановить этот слой природа может примерно к XXVI веку нашей эры. Изобретать велосипед было безумием. Импортные образцы были несовершенны, и сейчас еще почвозащитный комплекс не отвечает всем требованиям, но достигнуто главное: сохранена стерня.
Стерня дала чистоту снегу зимой и ясность летнему небу. Стерневая сеялка, за странный вид нареченная «стилягой», гарантирует дружные всходы и ребристую поверхность, где растение живет в крохотном овражке. Игольчатая борона (вроде лампового ежика) сохраняет на почве шубу былой растительности – и степь родит пшеницу, дает смысл здешней жизни, приносит осенние премии, и у Ивана Бысько на месяц обходится вкруговую по четыреста рублей.
Разумеется, все определила обстановка – вешняя обстановка мартовского (1965 г.) Пленума ЦК партии, назвавшего вещи своими именами и бросившего большие деньги, заводские мощности, металл, конструкторские силы на оздоровление целины. НТР без заводов – благое мечтание. Но разве заслоняет это личный фактор?
Почвозащитная система целины есть деяние научно-технической революции, ибо способна развиваться, вмещать в себя новое, то есть жить. Кулундинский лес не только не погиб, а обогатил систему алтайским ее вариантом, когда зеленая арматура лесополос служит опорой и стерне, и полосному пару, и посевам трав. Бараев по-прежнему убежден – поле должно само сохранять себя, как охраняла себя от эрозии некосимая степь, но в опытном хозяйстве он засадил лесом целых шестьдесят гектаров, создал дендрарий, а жена Ивана Ивановича Бысько летом в институтском саду собирает смородину.
Институт под Барнаулом впервые в Сибири начал борьбу с водной эрозией. «Терра инкогнита» для Докучаева, Измаильского, Костычева, целина соединила агротехнические средства исцеления земли с лесной и водохозяйственной программой и стала самым благополучным в почвозащитном отношении районом страны.
Новое слово школы Бараева – в том, что хранителем природного баланса она делает самого добытчика благ, земледельца. Хлебопашец – не пользователь, за каким должен идти восстановитель естественного равновесия (так за рыбаком идет рыбовод, за химиком – инженер очистных сооружений и т. д.). Сам земледелец, сам Иван Иванович Бысько сделан накопителем природных запасов!
По данным ВАСХНИЛ, ежегодно с полей и пастбищ страны смывается 1,8 миллиарда тонн почвы, страна недополучает от потерь талых вод до 30 миллионов тонн зерна, распыленная земля страдает от особой, эрозионной засухи, – не оттого, что осадков мало, а потому, что они уходят в овраги… прахом. А на полях Шортандинского института содержание гумуса выросло на три десятых процента, и не от внесенной органики, а натуральным путем – земля под стерневой шубой не знает трещин, напоминает черный творог. Троим своим детям Иван Бысько оставит степь богаче, чем принял ее зимой пятьдесят четвертого года. Вобрав достигнутое миром, система уже служит миру. Агрономы Монголии учатся здесь гасить пыльные бури, экологи Японии изучают методы охраны среды…
Система дает простор НТР, это проверено ростом производительности труда. В бригаде, где работает Иван Бысько, на работника приходится почти 900 гектаров пашни (точней, 5180 га на шестерых механизаторов). За каждым трактор «Кировец», комбайн, набор орудий, помощников зовут только на уборку. В среднем за трехлетие один человек тут произвел по 1116 тонн зерна в год – полную норму хлеба и сырья для молока – яиц – мяса на 1116 человек. Для сравнения: даже в знаменитой кубанской бригаде Михаила Клепикова с ее урожаем под семьдесят центнеров на человека производится 115 тонн зерна в год, в девять раз меньше. В выработке Бысько (шестнадцать минут – центнер пшеницы) – ответ бараевского института на все споры-разговоры о миграции, «осенних перелетах» и т. д. Трудно создать условия? А не надо создавать девятерым – дайте одному Ивану Ивановичу. Квартиру дайте с ванной, газом и горячей водой, детям его дайте школу просто и музыкальную, спортивную школы, кино, больницу, на одного средств хватит, а он в долгу не останется! В институте – дали.
Засухи в целинной степи будут и впредь, они здесь – природный закон. Но никакой ветер и зной уже не смогут принести в степь разорение – если применять контрмеры и никогда не усматривать в этих контрмерах «неиспользованных резервов»… Пятьдесят один день подряд летом 1974-го стояла сушь! А институт принимал в своих полях международный конгресс почвоведов, здесь прошла выездная сессия ВАСХНИЛ, и ни у кого не было чувства, что институт этот целинный – бедствует!
Школа Бараева – не словом, делом – дополнила старый кодекс агрономической чести восьмой заповедью: «Отвечай за землю, матерь всех благ».
…Прилетел я с той открыткой в кармане в разгар крещенских морозов. Александр Иванович, предвкушая эффект, сказал:
– Сначала посмотрим пшеницы, они выходят в трубку, потом поглядим, как пашут и сеют.
Это значило, что селекционная теплица уже пущена, а закрытый полигон для испытания орудий действует.
– Александр Иванович, а увидеть пыльную бурю?..
– Пока – увы. Завязли с аэродинамической трубой. Но сможем делать и нужный ветер.
Институт вступил в гонку со временем. Теперь есть возможность получать за долгую зиму два поколения пшеничных гибридов, можно весь год, не ожидая тепла, сухой земли и прочих милостей природы, испытывать орудия для будущих – скоростных и сверхмощных – тракторов. Выстроен лабораторный корпус, вытянулась череда жилых коттеджей, и любоваться вьюнками в окнах ученому составу института (62 кандидата и доктора наук) не приходится.
Заботит Бараева иное. Под обстрелом срок сева. Годы высоких урожаев, затяжные дожди и белые мухи в уборку воскресили давний аргумент: надо сеять раньше, чтобы по-теплому убирать. Это подкосит урожаи! А раньше убирать можно, но за это нужно заплатить. Чем?
Фосфором, ускоряющим созревание на целую декаду. Центнер фосфорных удобрений прибавляет на гектаре до трех центнеров зерна, и оно становится лучше, целина сможет поставлять гораздо больше сильных пшениц. Новому зерновому цеху нужно 2,8 миллиона тонн суперфосфата, чтобы решительно изменить осеннюю обстановку и поднять сборы на семь-восемь миллионов тонн.
Заплатить уборочной техникой… «Вы умеете косить? – спросил Александр Иванович. – А не пробовали привязывать к косе цеп? Да, тот цеп, каким молотили в деревне? Не пробуйте, это занятие Иванушки-дурачка. Но мы на сотни тысяч кос навешиваем молотильное устройство и удивляемся, что мало толку. Зачем для простой работы, косовицы в валки, гонять дорогую, тяжелую и сложную молотилку? Комбайном разумно косить только напрямую, когда сразу и обмолачиваешь. А за Уралом раздельная уборка, к сожалению, обязательна. Там нужна легкая самоходная жатка, действительно коса, такою и косят в валки США и Канада! Ее может гонять молодой парень, а кадровый комбайнер уже с августа должен подбирать валки…»
Комбайнов на целине мало. Если Швеция держит одну машину на 67 гектаров зерновых, Канада – на сто, то целина с ее всегда опасным шлагбаумом дождей и снега до сих пор не довела нагрузку и до двухсот гектаров. Крупной ошибкой плановых органов Бараев считает перекос в распределении техники между югом и востоком: Кубань, где после поспевания хлеба еще сто дней тепла, имеет комбайн на каждую сотню гектаров, Крым – около того, а сибирский агроном из-за скудного технического пайка до сих пор, чего таить, домолачивает подчас в мае, когда сойдет снег.