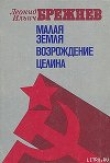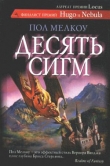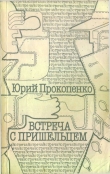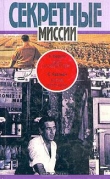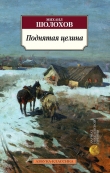Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
III
Цыган, лежа под шатром:
– Жинка, какие ж у нас с тобой дети грязные! Этих отмоем – или новых наробим?
Украинская хуторская байка
Юрия Александровича Пескова мы, киногруппа ЦТ, впервые увидели в большом ростовском ресторане. Гремели стереоколонки, немолодые пары танцевали – провожали на пенсию начальника литейного цеха. Что в литейке до пятидесяти пяти отслужить – ого-го надо здоровье, что тот, кого провожают, навел порядок будь-будь – это нам рассказал наш опекун Олег Игнатьевич, а в танцующем с женой юбиляра генеральном директоре тебе виделось одно: так и надо. Даже – только так и надо! И не потому, что разделенный праздник перечеркнет выговора десятилетий, не потому, что неминуемую горечь отчасти снимет, а – по-человечески, как надо. Сказано же: директора должны быть не сухими Чешковыми, а добрыми и доступными!
Песков и послужным списком никак не «человек со стороны»: вырос здесь от ученика на радиаторном до главного инженера «Ростсельмаша», и переход с СК-4 на «Ниву», и тысячи доделок на той «Ниве», и выпуск миллион шестисоттысячного комбайна, и перевыполнение последней пятилетки на целых 15 тысяч «Нив» – все при нем. От главного инженера уже одна ступенька до генерального.
Оно, конечно, с поветрием фирм-объединений титул этот резко упал в цене. И районный свиновод, вечно ждущий откуда-то вагончик концентратов, и управляющий производством чулок на базе трех бывших артелей без юмора обретают и носят тот золотящийся чин – как сорванцы-третьеклассники таскают на школьных куртках половинки старых лейтенантских погон… Но тут – полновесно! Больше половины мирового производства уборочных машин – какой же еще генеральности! Концентрация личной ответственности просто немыслимая для сельских мерок: восемьдесят процентов зерновых комбайнов страны, судьба урожая чуть ли не ста миллионов гектаров. И генерал не штабной – фронтовик: самому своих сорок тысяч людей кормить надо. Ладно, пусть не совсем кормить – подкармливать, но продовольственная ситуация уже такая, что, если только заработком захочешь обеспечить да жильем, недооценивая харчи, – пойдет перелив к соседям. Производство металлоемкое, ритм скаженный, а в гастрономах – китовое мясо по два рубля кило, на рынке ни к чему не подступиться.
– Добыл шесть тысяч тонн картошки, – позже услышал я от Юрия Александровича. – Сорок часов в самолете без сна, облетели семь областей, зато зимний вопрос решен. Считай, по полтора центнера на каждого работающего.
Один из цехов завода – подсобное хозяйство. Глотает миллионы этот внутренний совхоз не хуже литейки и инструментального, противоестественность всех этих инородных тел внутри индустрии как-то затерлась, – область уже около трети мяса производит в таких вот совхозах-цехах. Уж куда: «Атоммаш» развел огороды и подсвинков! И маятник пока идет в ту сторону, про счет, хозрасчет и специализацию еще разговоров не слышно.
В канун новогодья генеральный директор начинал день с содержимого съестных «заказов»: как там с финскими макаронами? Решено наконец насчет пятнадцати тысяч плиток шоколада?.. Еще непривычно и муторно при таких разговорах аграрию. Людям прямой бы работой заниматься, а кто на макароны стаскивает? Ты, голубчик, твоя сфера. И кого стаскивает? РСМ, локомотив прогресса в земледелии.
Кубанцы-друзья рассказывали, что Песков на испытаниях «Дона-1500» вел себя просто героически. Отравился где-то в дороге, заболел, но машин не оставил, жил на хуторе у Первицкого, конструкторы спали в соломе, обучая ходьбе наспех склепанные первые образцы. «Дону» дали фору, сразу, через ступень, – на государственные испытания, и все нескладухи-нелепицы одолевались перерасходом энергии. Собственной, ясное дело, нервной.
Показывая заводское училище – щегольское, в мраморе и полировке, Песков вместе с нами заметил, что разит аммиаком – неисправные туалеты дурно себя ведут. И при гостях, с непосредственностью Петра Первого, разнес по первое число директора училища – починить сортир, тра-та-та, иначе то-то и то-то!.. А что – лучше, когда воняет?
Его сын здесь же, на заводе, кончал втуз и теперь мастером на алюминиевом литье. Цех не из здоровых – не жалко ли своего? Но кто-то же должен! Ничего, выдержит.
Телевидение – штука опасная, шутит меж делом. Летом попал в Сочи на «Красную гвоздику», такой фестиваль, а оператор сними – и в эфир. Хорошо, что соседкой была жена, ее все знают, а ежели б просто соседка?
Ростов сказать умеет, считался родней Одессе. И в директорской речи нет-нет и почуешь южное его родство. «Он работает как примус: пока качают – шипит», – походя характеризует кого-то.
Впрямь сухи и черствы они у нас, что Чешков, что герой Ульянова в «Частной жизни». Человечного бы, простого и открытого лидера из сферы Кузнеца – в период, когда продовольственная ситуация, увы, диктует погоду! Не с неба же она упала, из чего-то собралась, сплюсовалась? Можно, наверное, объяснить, откуда взялся каждый мазок картины, но ведь не объяснять мир велят – пере-де-лы-вать. Нам дана камера, и есть официальный доступ в цеха. Есть пленка под телецикл «Хозяин и помощники». Неужто не под силу кинопортрет увлеченного, полного азарта генерала аграрно-промышленного комплекса? Конечно, до типов вроде Горлова и Огнева из «Фронта» Корнейчука нам не тянуться, всяк сверчок знай шесток, но стараться надо…
Собственное представление о генералах почерпнуто в мальчишестве из «Теркина». Прежде всего – редкость («генерал один на двадцать… а может статься, и на сорок верст вокруг»), затем – старшинство возрастное («ты, ожегшись кашей, плакал… – он полки водил в атаку»), И наконец, назначенность, основное занятие: «Города сдают солдаты – генералы их берут». Возрастное, ау, для меня улетело, но остальное вроде на месте.
Только не снимать на горе! Была уже передача, Пескова бездарно представили как начальника: мост над отстойником, стоящий директор, за ним, «колыхаясь и сверкая, движутся полки», то бишь комбайны. И он не для батальной живописи – вон картошку добывал, у Первицкого спал в соломе, на заводе 15 тысяч ударников коммунистического труда – и чуть ли не всех знает. А меня та отстойная площадка наградила комплексом, каким страдает сельская родня. Комплекс вот какой. Нюра Чепурнова, соседка по целине, приехала к нам в такой людный Омск и обомлела: «Ой-о-ей, это ж всех прокормить!» «Это ж всех прокормить», – почти непременная реакция председателей из Кулунды, Костромы или Заволжья, когда ты, в короткой московской щедрости, кажешь им людскую круговерть метро или разъезд с Лужников. (Что каждый из этой тьмы может и должен заработать себе на прокорм сам, у приятелей моих не укладывается.) Так вот и я: «Ой-о-ей, сколько дособрать!» А радости от лицезрения богатства, от прорвы наготовленного вроде и нету, робость. Нет, снимать – так в нетрадиционном месте!
Идеально – увлечь бы генерального в полевую бригаду, усадить лицом к деревне, за один стол с мужиками. Неравный уровень? Стратегия – и окопная правда? Ну так надо же с умом, не топя разговор в мелочевке. Притом старый комбайнер – вполне самостоятельная боевая единица, а комбайн – чистой воды общественная машина: ни шабашек на нем, как на тракторе или самосвале, ни себе домашних привилегий – только «хлеб Родине»! С этим людом и являть мужественную прямоту, стратегическую зоркость командиров АПК.
Да не хвалить за то, что человек должен делать по назначению своему! Комбайнер убрал за декаду – чему ж тут хлопать? Иронично, даже язвительно. Ученый вышел на уровень мировых стандартов – дивья-то! До мирового стандарта еще и не наука – школярство или ведьмовщина, вроде биологического засорения видов. Конструктор сделал машину, не хуже, чем делают и тысячами продают где-то, – так «гром победы»?
Не изобрел же он ни кабины с искусственным климатом, ни гидравлической передачи, что без рывков, плавно и быстро сообщает колесам силу мотора, и сигнализатора о потерях не измыслил – все уже десятилетия на службе у земледельцев, он только возьмет лучшее оттуда, отсюда и соединит в новой машине. Но и то должен держать он в уме, конструктор, что взять у одного замечательный нос, у другого губы, у третьего уши или брови – не значит достичь идеальной красоты, гоголевская невеста была образцово глупа! Ее методом вполне конструируется если не урод, так очень заурядная физиономия, а дело именно в подгонке, комбинации элементов, какие слились бы в органическое целое – допустим, в новый комбайн. Нужный именно данной технологии и данному земледелию комбайн, потому что по кораблю и плаванье, по плаванью корабль. Азову не нужны супертанкеры, а тут не укор Азову – с него хватит своих достоинств. Поэтому не играть пока туш «Дону», как бы блистательно ни завершились его испытания, – только сытный хлеб правды, реализм, а сегодня реализм – «Нива», и целинные мои дружки дослужат, увы, на этой «Ниве», и на пенсионных их балах будут механики с «Нивы», и хлеб восьмидесятых годов пребудет фактически хлебом реальной «Нивы». Перегруппировка сил, пересмотр стратегии – да, на то и Продовольственная программа. Остро недовольна зерновая экономика машиной? Об этом и на Пленуме ЦК… Но машина – она всегда и только то, как ее придумали, как изготовили и как на ней работают. Четвертого не дано. Значит?
Значит, самые общие, генеральные вопросы, вместе с ответами и рисующие деловой портрет. Предположительно:
Сколько будет длиться варварское обращение с комбайном и в рабочее, и, главное, в нерабочее его время, при так называемом хранении? Хозяин и борону не оставит в лопухах, смажет – и под крышу, а сотни тысяч сложных и дорогих комбайнов буквально открыты всем стихиям – их полощут дожди, точит коррозия, раздирают морозы, лень даже резину снять, приспустить шины… Разумно ли усложнять конструкцию, насыщать ее новыми системами, если сохранится массовое расточение парка из-за элементарного разгильдяйства и раскардаша?
Создатель техники не может не врезать примерно таким образом пользователям: накипело.
С другой стороны.
Зачем столько недоделанных комбайнов, может – лучше меньше, да лучше? Зачем, скажем, те пятнадцать тысяч «Нив» сверх пятилетнего плана, если в пять или семь раз больше машин не участвует в уборке, если серийный комбайн останавливается в пять – семь раз чаще, чем тот, что прошел государственные испытания?
«Комбайн е тэхника вичного рэмонту», – дал определение один бригадный сторож под Кустанаем. Почему «Ростсельмаш» не обслуживает свои машины сам? Когда у комбайнера будет столько запчастей, чтоб не мучиться? Когда конструкторы защитят здоровье человека?
Об этом заговорят наверняка, потому что об этом пишут методически! Все центральные газеты с «Правдой» во главе. Триумвират Минсельмаша, Минсельхоза и Госкомсельхозтехники публикациям не помогает, совсем наоборот. После статьи «Модель у конвейера», пересказавшей протест двенадцати виднейших ученых против волевых (болевых?) приемов в решении машиностроительных проблем, ученым ВИМа, ВИСХОМа, ГОСНИТИ и пр. было строго запрещено иметь дело с пишущим людом! «Извините, но на беседу мне нужно разрешение министра», – отвечает восьмидесятилетний патриарх комбайностроения И. С. Иванов, а полный сил и энергии В. К. Фрибус, начальник главка новой техники Госкомсельхозтехники, отказывает проще: «Я состою на службе, и без прямого указания свыше ничего вам говорить не буду!» Но есть ведь четыре с половиной миллиона механизаторов. А на них приходится около четырех миллионов в Сельхозтехнике и у других аккомпаниаторов села. Вот уж хорошо информированные круги, и здесь рекомендация держать язык за зубами никак не пройдет. Пригласили ростовского комбайнера А. Лилейченко, Героя Социалистического Труда, за «круглый стол» с генеральными директорами двух комбайновых заводов, а он и врезал:
– При таком отношении к своей продукции не выручит никакая, пускай и современная, конструкция.
Чего там – костяк драмы идей ясен, остается вдохнуть душу живу – живую и деятельную душу когда-то заводского паренька, а ныне руководителя самого крупного в мире завода зерноуборочных комбайнов.
М-да. Человек предполагает, а… Возник перекосяк. Как бы двойная бухгалтерия. Доброта-сердечность проходила по одной статье, взгляд на качество – по другой. После некоторого доверительного разговора нечего стало и думать о поездке в бригаду. Собиралось, правда, совещание по надежности в Сальске, но такие – с вылизанным сценарием – мероприятия к художеству не расположат.
«Свежительной трезвости уединения» нам не досталось: всюду при нас был Олег Игнатьевич, заместитель главного инженера «Ростсельмаша», компанейский и всем интересующийся человек. Разумеется, нельзя пускать на самотек целую киногруппу. К примеру, решета на комбайн делает колония строгого режима, люди перевоспитываются в труде – и лучше пока исключить те решета из обозрения. Верно. Есть минусы в смысле чистоты, элементы захламленности, завод ведь не молодой, но разве для этого нам выдана пленка? Еще верней. Да мы и не собираемся шарить по задним дворам. Опека шла, пожалуй, с большим перевыполнением. Мы в Таганрог, на завод вполне самостоятельный, с независимым КБ – Олег Игнатьевич с нами. Точней – вроде как бы мы при нем. Пригласили меня в обком, не успел вернуться – что да как, а зачем, а тот что сказал? Товарищи, да нам нравственный капитал людей АПК надо выражать, а вы – такую любознательность!..
Но это цветики. Собрались мы в дальнюю дорогу, в степь Северного Кавказа – на Кубань, в Ставрополье, а генеральный директор:
– С вами поедет Олег Игнатьевич. И еще начальник службы надежности Иван Георгиевич Войтов.
– Как, и в колхозы? Но ведь мы же надолго!
– Они предотвратят ошибочную информацию.
– Но, Юрий Александрович, у товарищей, очевидно, хватит дел на заводе? Я на Кубань ездил двадцать лет и вполне мог бы без провожатых.
– С вами поедут Олег Игнатьевич и Войтов, – отрезал директор.
Запись телебеседы мы сделали, но безо всяких изысков и «граней характера»: директорский кабинет, полированный стол, вопрос-ответ – и баста.
А теперь наш «рафик» жмет строго на ост, впереди Олег Игнатьевич, сзади Иван Георгиевич – фильтры от ненужной информации. Мы ли едем, нас ли везут? Вот тебе и хозяин и помощники. Соскучиться не дают, Иван Георгиевич буквально набит интересными сведениями, для занимательного журнала просто клад, что ни километр, то афоризм:
– Надежность – это свойство машины определенный срок работать по назначению.
– Гарантия – это юридический скол надежности.
– Моральная устарелость машины зависит от общего уровня общества.
А мне перед молодым режиссером Сережей совестно – жуть. Явная моральная устарелость, да не чья-то – моя, моя. После разглагольствований о черствых Чешковых да директорской простоте попасть как кур в ощип! Стыдитесь, автор.
А Сережа, молодо-зелено, толкает локтем – и краем рта:
– Повезло как, а? Теперь все от вас. Сворачивайте в бригаду.
Неймется же. Весь цикл наш накренился, того и гляди – оверкиль, а худрук хохочет анекдотам, мурлычет песенки, локтем пихается…
– Целых два кита. Есть знакомая бригада? Я сразу же ставлю свет…
Стоп, а что? Мы сворачиваем пообедать на полевой стан, комбайнеры в любом месте издавна подготовлены – хотите, ремонтники, встречу с самим «Ростсельмашем»? Вот вам надежность, а вот инженерия, выкладывайте. Ай да Сережа. Кто там врет, что молодежь инфантильна?
– Олег Игнатьич, как бы на часок в бригаду Клепикова? Старый знакомый, герой – и дело есть.
Нет проблем. Какой Клепиков, тот самый?
Да какой же еще – один на Кубань и на Союз, пожалуй, Клепиков, бригадир, депутат, член Центрального Комитета партии.
Только нету сейчас Михаила Ивановича, узнаём – на курорте по зимнему делу, но и коренники-механизаторы, и весь знаменитый колхоз «Кубань» – налицо. В Усть-Лабинском райкоме прошу: нельзя ли начальника сельхозуправления и шефов Сельхозтехники на часок – для полноты круга? Что ж, для доброго разговора… Секретарь райкома Морозов в далеком начале нашего знакомства был еще колхозным зоотехником, и тут уж никаких дипломатий:
– Ну скажите, чего они боятся?
– А вот в бригаде вам скажут! – смеется секретарь.
Этот «круглый стол» транслировался и по первой программе телевидения, и по второй. Народу было снято много. Отсутствовал по уважительной причине старый комбайнер Виктор Харин. Он рядом, за стеной красного уголка, третью неделю маялся с новеньким «Колосом» («машина – инвалид от рождения!») и служил как бы камертоном разговора.
Конечно, мы мечтали о простецкой, заурядной, а не лучшей в стране бригаде. Весь машинный двор в асфальте, техника хранится образцово, но уж если здесь… Врочем, запись уже идет.
– Эта бригада в прошлом году ячменя намолотила семьдесят три центнера, а центнеров двенадцать наверняка оставила на полосе. Только и исключительно по вине комбайнов! – говорит Георгий Иванович Лысых, начальник райсельхозуправления.—
Трижды перепахивали поле после такой уборки, чтобы скрыть качество, и все равно оно зеленое от падалицы! Какие еще аргументы нужны? Завариваем вторую скорость, чтобы механизатор не мог, если бы и хотел, гнать быстро, но разве это мера? В районе пятьсот пятьдесят три комбайна, стремимся убрать за семь – девять дней, но агрегат убирает по три-четыре гектара за световой день – куда дальше идти? Зачем мучить нашу кубанскую землю?
– Комбайн перегружен, – парировал И. Г. Войтов, – Он не рассчитан на такой урожай. Мы с вами не можем по сто мешков перенести? Так и машина.
– Коллектив завода «Ростсельмаш», – поддержал его Олег Игнатьевич, – прекрасно понимает, что урожаи непрестанно растут, об этом говорилось и на Пленуме ЦК, и коллектив сейчас усиленно работает над созданием новой машины повышенной производительности.
(Я сейчас переписываю прямо со стенограммы, твердо помню, что никакой бумажки у нашего опекуна не было, а – каков стиль!)
– Вот тут сидит товарищ по надежности, – гнет свое устьлабинец Георгий Иванович. – В прошлом году получили двенадцать «Колосов» и «Нив», из них сезона не выработало, вышло из строя – пять! Две «Нивы», три «Колоса». Ремонтировать? Да когда же их ремонтировать, если мы стараемся убрать за семь дней! Есть заводской представитель где-то в соседнем районе, так за семь дней дай бог его только найти. Вот автомобилестроители – у ВАЗа свой сервис, у КамАЗа – свой. А почему комбайновая промышленность свой сервис обрывает как раз на сельском хозяйстве? Если бы фирма отвечала за своих детей, имела бы на них запасные части – был бы совсем другой разговор. А то как кукушки – лишь бы яйцо закинуть.
Ю. А. Песков (стенограмма ответа о фирменном ремонте):
– Мы сегодня не готовы к этому вопросу. Чтобы создать станции техобслуживания, нужно затратить не одну сотню миллионов рублей. Комбайн – это не автомобиль «Жигули», он имеет не ту скорость, не те возможности перемещения по дорогам нашей большой страны. Поэтому опорных баз, станций технического обслуживания потребуется в несколько раз больше, чем, значит, для автомобиля. А с другой стороны – этот вопрос поручен сегодня Сельхозтехнике, так решили три министра. У нас есть организации при Сельхозтехнике, где производится стопроцентный ремонт. Харьковский завод «Серп и молот» дает запасные части, сто процентов дает на эти станции, а мы двигатели восстанавливаем.
Пояснения для Виктора Харина, который мучился с новеньким и никого не слыхал… Меня удивило, что Юрий Александрович Песков ни на одном из зарубежных комбайновых заводов, делающих погоду в этой отрасли, сам не был, с организацией фирменного ремонта не знакомился и мировой принцип «кто делает машину, тот за нее и отвечает» не имел возможности пощупать. Еще любопытнее, что генеральный директор «Ростсельмаша» не бывал на ВАЗе и КамАЗе, составивших, что спорить, этап в машиностроении страны. Что про аграриев ни говори, а в нашем секторе такие пробелы (или контакты с коллегами) немыслимы. Насчет первого (поездки за рубеж) дело несколько поправлено: Н. Н. Смеляков позже рассказывал мне, что Ю. А. Песков был-таки командирован в США и вернулся с массой ценных наблюдений. Про Волжский и Камский заводы еще не знаю, но знаю твердо, что ссылки на большие траты для сети фирменного ремонта годятся, как говорят, разве для съезда филологов или гинекологов: Сельхозтехникой уже растянута такая густая и дорогая ремонтная сеть, уже издержаны на заводы и мастерские такие гигантские суммы, что речь может идти лишь о том, как загрузить этот невод. Дело в принадлежности готовой сети – в решении то есть трех министров.
Комбайнер Александр Васильевич Сырцов, 1929 года рождения, стаж работы – тридцать пять лет:
– Я, когда на молотьбе, по три пятилитровых бачка воды в день выпиваю, такая в кабине жара. Ваше дело – требовать производительной молотилки, а я скажу, как человеку работается. Очищение воздуха не происходит, та ваша губка сразу забивается, остается только маленький вентилятор, он тебе дует пыль и остюки в глаза…
– Правы комбайнеры, условия в нашей кабине на «Ниве» очень тяжелые, – ответил Олег Игнатьевич. – Поэтому в новой машине особое внимание уделено кабине. Она разработана по ГОСТам, по всем требованиям эргономики. Предполагается поставить кондиционер для охлаждения воздуха.
– Кондиционер – он обещание или реальность? Когда его можно ожидать?
– Ну, он частично уже стоит на тракторе Т-150, но… (далее в стенограмме неразборчиво, да неясно оно было и в устах Олега Игнатьевича. Тот испаритель, что ставят на часть харьковских тракторов, есть создатель особо влажной атмосферы, и большой услугой механизатору его никак не сочтешь. А с настоящим фреоновым кондиционером – мне о нем впервые удалось написать уже десять лет тому – практически неясно, ясно же, что запечатывать человека на жаре в непроницаемую кабину без специального охладителя воздуха нельзя).
Пригласили Виктора Ивановича Харина. Вот живой человек, ему подкинули такой комбайн, на котором он семью не прокормит, он зиму с ним возится, а лето может стоять – кто виноват?
– Это «Колос», таганрогский, – цитирую Олега Игнатьевича, – а у нас с «Нивой» не бывает, чтоб были претензии. Почему он собирает? Есть два приказа министерств, Госкомсельхозтехники и сельского хозяйства, о предпродажном сервисе, они обязывают Сельхозтехнику проводить досборку, обкатку и под ключ отдавать комбайнеру готовую машину. За то она и получает двенадцать процентов наценки.
– Я чувствую, у вас неправильное представление об этих двенадцати процентах, – протестовал А. А. Василенко, главный инженер районной Сельхозтехники. – Двенадцать процентов – это не досборка, а содержание нашего аппарата, погрузка, доставка, а что касается сборки машины, то на это заключается с хозяйством отдельный договор. Захотели, чтоб вам отремонтировали и отдали – заключайте договор и перечисляйте.
Значит, это колхоз не захотел, чтобы ему дали работающий «Колос»?
– Первый раз слышу, – откровенно смеется главный агроном «Кубани» Ф. В. Красиев.
Виктор Харин мрачно добавляет, что инженеры Сельхозтехники уже были, пожали плечами, сказали, что дело дрянь, и уехали. Добавляет и еще кое-что, но это стенографистке отдавать нельзя. Ситуация – «плюй в глаза – божья роса», спор сползает на тему запчастей.
– Мы уже привыкли ремонтировать сами, – беру из стенограммы тираду Георгия Ивановича Лысых, – но вы хоть дайте то, из-за чего человек стоит!
– Система гарантийного обслуживания, – объясняет представитель Сельхозтехники, – помогла изъять все запасы запчастей, которые копились в хозяйствах многие годы.
– Я сам работал три года механиком, – смеется Олег Игнатьевич, – и знаю, что если у механика нет ничего в кладовке, то разве это механик, разве бригадир?
– Так плановые запчасти идут на заводы Сельхозтехники, – перебивает бригадир «Кубани» Василий Васильевич Орехов, – А для обслуживания не остается ничего, надеются на гарантийный комплект. Цепи, ремни, аккумуляторы, подшипники – это самая дорогая валюта для механизатора. А расходы на ремонт растут, как лавина.
Ю. А. Песков (на вопрос о лавинном нарастании ремонтов):
– Мы не можем согласиться с тем, что лавинно растет ремонт машин. Мы ведь следим за ремонтом и эксплуатацией наших машин через объемы расхода запчастей. В начале организации опорных баз мы засылали на базы Сельхозтехники сто шестьдесят наименований запасных частей, сегодня отправляем туда только шестьдесят, то есть от ста наименований сами отказались, так как по ним нет вопросов… Мы раньше расходовали на опорных базах порядка двух миллионов рублей, сегодня мы скатились до пятисот тысяч, что тоже говорит кое-что. Мы открыли ворота – катите на нас что угодно, мы выпускаем теперь запчасти сверх лимита. Лавина ремонта складывается из-за того, что не организовано хранение комбайнов, вот это главный вопрос. У нас есть масса снимков грубейшего нарушения технических условий, когда мы снимали комбайны с гарантии… Есть машины, которые стоят зимой под снегом, с натянутыми клиновыми ремнями, не приспущенными скатами, а когда приходит уборка урожая, уже никто ни с чем не считается, все забывают о нарушениях, и требуется колоссальное количество резинотехнических изделий, узлов гидравлики, подшипников, чтобы машина ушла в поле работоспособной.
…Передо мной лежала свежая «Правда» со статьей смоленского механизатора, где говорилось о партнерах хлебороба: «Казалось бы, общим делом заняты, но получается так, как в той басне про лебедя, рака и щуку. Каждый тянет в свою сторону».
– Олег Игнатьевич, – спрашиваю перед камерой нашего опекуна, – в этой крыловской троице что, по-вашему, символизирует машиностроение?
– Ничего. У нас содружество с Сельхозтехникой и контакт с селом.
Тот же вопрос представителю ремонтного ведомства – и тоже солидарное:
– У нас ничего похожего на эту басню. Мероприятия согласованные, снабжение плановое и гарантированное.
– А сельская сторона? – спрашиваю устьлабинцев.
– А село и остается тем возком, что и ныне там! – к общему веселью, отвечает Георгий Иванович Лысых.
Сережа сияет: какой откровенный вышел разговор! У всех душа нараспашку.
Ну, тут-то вы ошибаетесь, коллега. Потому что у автора вашего никакой распашки. Стоило мне здесь выложить одну позицию Ю. А. Пескова, и все полетело бы вверх тормашками, ор бы пошел и новгородское вече, черта бы лысого вы записали.
А позиция это такая: «Ростсельмаш» пробивает «Ниве» государственный Знак качества. Понимаете? Солдаты тут судят-рядят, как не сдавать, а генерал утверждает: город уже взят!
У Юрия Александровича целая книга на столе, Красная Книга Славословий. Куйбышев, Горький – «претензий не имеем, комбайн стоит на мировом уровне». Подмосковье – «аттестовать на знак». Узбекистан – «от имени всех трудящихся выражаем…», Могилев, Осетия… Истинный глас народа! Не тот глас, что у Ложкового, Сырцова, Орехова, Лысых, а тот, что у Сельхозтехники, получающей 12 процентов и прочее. Первый глас звучать может, но в зачет не идет, пускай твердят про лебедя и щуку, а контора плюсует нужные восторги!
Поэтому, Сережа, я и не шибко добивался встречи на простецком полевом стане. Аппетит пропал. Тысячекратно прав тот, кто не равняет бюрократизм с бумажной волокитой. Похоронить письмо, мурыжить дельную бумагу? Это неопрятность, канцелярская грязнота, при чем тут высокий бюрократизм? Да можно ответить на жалобу прежде ее поступления, навестить имярека не только в больнице, а за три дня до инфаркта. Иные главным проявлением бюрократизма считают тягу садить всех на ставки, крестьянина – и того на оклад. Отчасти – пожалуй… Но в чем, Сережа, главный знак узнавания, каков общий пароль у сильных столом (бюро – это ведь просто стол)?
Мне сдается, жест – большим пальцем за плечо. «Ищи там». Переброс ответственности. Отбой взыска. Указующие за спину в конце концов замыкаются в круг, в огромное кольцо, а у кольца нет конца, искать наивно. Знак этот – не укоризна, не выявление, скорей круговая оборона, знак поруки, как крик Маугли – «мы одной крови, ты и я!». Запчасти? Спрашивайте Сельхозтехнику. Мгновенный износ? А глядите, как хранят. Недогруз молотилок? Так жаток широких не дали. Фирменный ремонт? А куда же тогда Сельхозтехнику?..
А почетную эмблему – ее сюда, на чело, она нужна, необходима, как всесоюзное ручательство, что так и должно быть. Тогда уже раздражение Ложкового – Лилейченко – Сырцова будет направлено против государственного знака. Вы что, не верите, что Иванов, Петров и Сидоров справедливо удостоены звания Героя? Что завод внедряет АСУП, что введен коэффициент напряженности плана? Нет, отчего же, мы верим всему, Иванов заслужил – и наградили, но его именно, а Сидорова лично, при чем же тут комбайн?
Знак качества – вы можете понять? – поможет коллективу морально и материально подтянуть оставшиеся недостатки! Он для дела нужен! Но сколько еще у нас формализма! Один старый замминистра затвердил свое: «Дай большой бункер, дай ведущий мост, надежность, а до того ко мне ни с какими знаками не суйся!» Вот кого надо доставать, вот где пресса могла бы сыграть свою положительную роль.
Вы напоминаете мне, Сережа, наше условие: если журналисту не говорят правды – он тупица. И намекаете, будто правды-то нам и не сказали. Протестую! Свою правду глава кузницы как раз и выложил. Она поступает от опорных баз, из чистых вод Сельхозтехники, и надежные фильтры не дают проникнуть в нее глухим матеркам Харина. Взят ли город, нет – награда нужна! В ситуации, когда самолетом добывают картошку и надо делить макароны, виноват кто угодно, только не увенчанный государственным лавром Комбайн! Чем не правда? А уж цифири сколько под ней, брошюр, конференций!..
За время, отданное «Ниве», мне довелось слышать безоговорочное – «я виноват».
– Я виноват в том, что широкозахватные жатки не выпускались столько лет, комбайны использовались на косовице, а молотилки были недогружены, – прямо сказал Александр Александрович Пивоваров в Госплане СССР. – Не один я, разумеется, это было бы манией величия, наш подотдел – не министерство. Но где зависело лично от меня – нужного я не сделал.
Опять-таки – аплодировать, что ли, госплановцу? Был конструктором в Таганроге, на партийной работе был, отрасль знает насквозь. А мы сами – так уж ничего и не знаем? За двадцать лет пропускная способность комбайнов повысилась с 3 до 5–8 килограммов в секунду, а захват – каким ты был, таким остался: 4–6 метров. Поэтому средняя загрузка комбайнов составляет 40 процентов, в сухие годы – ниже. Основное в ускорении уборки – повысить среднюю загрузку сотен тысяч готовых комбайнов, наладить выпуск сравнительно дешевых широких жаток и хедеров, да сначала наладить этот выпуск, а потом наращивать пропускную способность молотилки. Что, мы с вами этого не знали? А ну-ка, целинники, не пятнадцать ли лет назад пошел по великой степи шум-гром о десяти-, даже пятнадцатиметровой жатке? А десятки выступлений – просительных, резких, яростных – главного агронома целины Александра Ивановича Бараева? Академик битых десять лет воевал и воюет с явной дурью: машинища весом в восемь тонн бегает долгими неделями ради стрекота ножа, а когда растреплет в лоскуты молотилку – перестраивается на подбор! Не-ет, тут не в знании, а в сознании, даже в осознании дело – осознании вины. В судьбе жатки? Не только. В продовольственной ситуации.