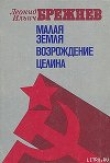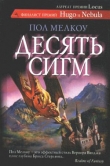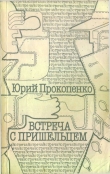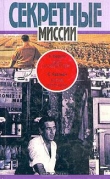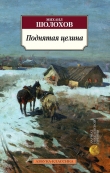Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц)
Среди этих условий особенно важно разумное планирование. Госплан Федерации в своих заданиях словно узаконивал всякого рода крены корабля: если контрольные цифры по молоку при таком стаде ориентировали на экстенсивное хозяйствование, то задания по закупкам зерна были неоправданно, не по животноводству здешнему, большими. Да и не только по зерну. Собирая даже по 280 центнеров сахарной свеклы с гектара, многие колхозы не могут выполнить план поставок корней – так велик он. Работникам сельского хозяйства отлично ведомо: план, который можно перевыполнить, помогает перевыполнению, ибо оставляет возможности материально заинтересовать людей; заведомо не досягаемый план становится сдерживающей силой, тормозит производство: как воевать за непосильное? Переход на твердое планирование, осуществленный мартовским (1965) Пленумом ЦК КПСС, – мера неоценимо важная, плодотворная, встречена она с радостью. Надо только разумно определить уровень единого задания до конца десятилетия.
Рассуждения об управлении кубанским хозяйством напоминали бы маханье кулаками после драки (многое уже получило должную оценку, многое уже поправлено), если не поговорить о том, почему рентабельность здесь была гарантирована даже при провалах в стратегии, почему Кубань, несмотря ни на что, так обогнала нечерноземные области.
«Нужно, чтобы уровень закупочных цен побуждал колхозы повышать производительность труда и снижать производственные затраты, так как основу повышения колхозных доходов составляет увеличение сельскохозяйственной продукции и снижение ее себестоимости», – говорится в Программе КПСС. Уровень цен, действовавший на Кубани, был и до мартовского Пленума ЦК КПСС относительно высоким. Колхоз получал за зерно, семена подсолнечника, клещевину, сахарную свеклу намного больше, чем стоило их производство. Если издержки на центнер пшеницы в крае составляли примерно 2 рубля, то закупочная цена колебалась от 6,3 до 7,1 рубля за центнер. Если производство центнера подсолнечника стоило примерно 2,4 рубля, то выручка за центнер достигала 15 рублей. Разница между ценами и себестоимостью продукции полеводства создавала такой чистый доход, который покрывал убытки от животноводства. Мы уже говорили, что в целом по краю производство важнейших продуктов – молока и мяса – не росло, но доходы колхозов и оплата труда, несмотря на это, повышались.
Уже география старых цен дает представление о привилегированном положении Кубани. В Российской Федерации было восемь ценовых зон по зерну. И если в шестую, скажем, зону входили 26 областей и автономных республик, то для Крснодарского края была выделена особая, первая зона. Более того, Краснодарский был единственным краем, где установили внутреннее разделение на три зоны. Цена учитывала разность условий Армавира и соседних с ним районов, но «не признавала» различий между владимирским Опольем и озерной Карелией, между Тулой и каменистым Валдаем.
Сразу же отметим: мы вовсе не хотим сказать, будто кубанские или, предположим, курские, курганские колхозы, работающие в относительно выигрышных условиях, когда бы то ни было жили за счет чьих-то трудов. Так говорить было б великой глупостью. Всюду плоды земли добываются в поте лица, и казачья станица, и курская деревня, и сибирское село хлеб едят свой. На колхозниках нет никакой вины за экономическую несправедливость. Но несправедливость-то существует многие годы.
«Земля без всякого… выкупа отныне переходит в пользование всего трудового народа», – торжественно заявила Советская власть через три месяца после революции в Основном законе о социализации земли. Декрет был подписан В. И. Лениным и Я. М. Свердловым.
Колхозы ведут хозяйство на полях, полученных бесплатно, каждая артель извлекает доходы из той земли, какая ей досталась, будь то чернозем толщиной в человеческий рост или подзол вперемежку с валунами. Затраты труда на единицу одинакового продукта будут, естественно, ниже у того колхоза, чьи земли лучше, чьи владения удобнее расположены по отношению к местам сбыта и снабжения. Значит, колхозы с лучшей и лучше расположенной землей могут получать дополнительный чистый доход. Он составляет, как известно, первую форму дифференциальной ренты.
В самой разнице между плодородием земель еще нет никакой беды, различия между подзолом и черноземом, между северным летом, «карикатурой южных зим», и летом юга всегда останутся. Что ж, общество в одном случае экономит труд, в другом – затрачивает лишний. Несправедливость возникает лишь тогда, когда дополнительный доход, полученный в одном колхозе, будет распределен между его членами. Тогда общество не сможет направить сбереженные за счет лучших условий средства на помощь «обиженным природой» хозяйствам. И артели с почвенно-климатическими условиями хуже известной нормы не смогут окупить затраты, производство здесь станет убыточным.
Экономисты ведут споры вокруг проблем, связанных с дифференциальной рентой. И здесь, как это бывает, энергия направлялась подчас не на выяснение истины, а на поиски «научного» оправдания существующего положения. Оправдания добывались иногда ценой потери логики и здравого смысла. Для определения избыточного дохода нужно произвести сравнительную оценку земель, ввести земельный кадастр. Но в девятнадцатом томе Большой Советской Энциклопедии мы читаем: «В Советском Союзе, где нет частной собственности на землю, нет оснований и для введения кадастра». Стоит продолжить такое рассуждение – и заключишь, что в СССР нет оснований оценивать качество руд, бонитет ангарского сосняка или пермского ельника, ибо частная собственность на недра и леса упразднена… Правда, сейчас положение изменилось: число сторонников введения кадастров среди экономистов растет. Кадастр нужен не для торговли землей. Этот генеральный документ поможет правильно хозяйствовать, дифференцировать налоги, совершенствовать закупочные цены. Даже для того, наконец, чтобы определить колхоз, победивший в соревновании, нужна сравнительная оценка земли. Нельзя же всерьез оценивать работу хозяйств по тому, достигли они рубежа «75 и 16» или нет! Да и всякий другой, с потолка взятый рубеж не даст представления об истинных достижениях колхоза, если не класть в основу оценки природноэкономические условия. Отрицать необходимость введения кадастра и правильного использования даровых излишков чистого дохода – значит защищать волюнтаризм в экономике.
Споры можно вести вокруг всяких проблем, но сама необходимость изъятия дифференциальной ренты I в распоряжение государства, на наш взгляд, бесспорна. Кстати, она была предусмотрена одним из первых законодательных актов нашего государства. Отменив частную собственность (и, естественно, всякую цену) на землю, Основной закон о социализации земли потребовал:
«Излишек дохода, получаемый от естественного плодородия лучших участков земли, а также от более выгодного их расположения в отношении рынков сбыта, поступает на общественные нужды в распоряжение органов Советской власти».
Механизм для улавливания дифференциальной ренты I есть, это система закупочных цен. Кубанскому колхозу выплачивалось за центнер пшеницы 6,3–7,1 рубля, вологодскому – 8,5 рубля (согласно решениям мартовского Пленума закупочные цены на зерно для Северо-Западного района повышены до 13 рублей, а на юге – до 8,6 рубля за центнер). Сама эта разница овеществляет идею о выравнивании условий хозяйствования, о равном вознаграждении за равный труд. Ведь Программа КПСС предусматривает «создание все более равных экономических условий повышения доходов для колхозов, находящихся в неравных природно-экономических условиях в различных зонах, а также внутри зон, с тем чтобы последовательнее осуществлять принцип равной оплаты за равный труд в масштабе всей колхозной системы».
Все дело в том, насколько четко, исправно действие экономического механизма.
Разница в себестоимости продукции между разными зонами достигает 180–600 процентов (по разным продуктам). Хозяйства ряда зон, располагая лучшими почвами, климатом, путями сообщения, и при прежнем, невысоком среднем уровне рентабельности находятся в выигрышном положении. По данным Института экономики Академии наук СССР, колхозы, производящие подсолнечник, получали в среднем по стране от реализации центнера семян 443 процента чистого дохода. В среднем за три года от продажи центнера зерна колхозами Западной Сибири получено 4,2 рубля чистого дохода. Дифференциальная рента большей частью осталась в хозяйствах. На сто рублей затрат (в среднем за 1959–1961 годы) колхозы Курской области получили по 13 рублей дифференциальной ренты, Краснодарского края – по 17 рублей, Алтайского края – по 24 рубля, Курганской области – по 29 рублей.
Относительно высокая рентабельность хозяйства позволяла вкладывать значительные средства в технику, в химизацию, присоединять к естественному плодородию искусственное, создавая уже тот излишек дохода, что от интенсификации, – дифференциальную ренту II. Чтобы обеспечить равную оплату за равный труд в пределах одной зоны и одновременно стимулировать колхозы к новым вложениям, государство может изымать лишь часть дифференциальной ренты II, оставляя большую ее долю в хозяйстве. Для этого служит система подоходного налога. Но дело в том, что облагался налогом не чистый, а валовой доход колхозов. Такой порядок был крайне обременителен для хозяйств отстающих зон, ибо взимался налог и с убыточных колхозов, не возмещающих своих затрат. Это усугубляло их финансовые трудности.
Можно было б поговорить о горестях псковской земли, можно много тревожного рассказать о Калининской области. Можно вести речь о Смоленщине и Новгородчине, о ярославской, владимирской, костромской земле, о любой из областей отстающего нечерноземного Центра и Северо-Запада. Но чаще всего мне приходилось бывать на Вологодчине. О ее сельскохозяйственной экономике я и хочу рассказать.
III
В середине декабря шестьдесят четвертого, теплого и пасмурного, измучившего всех гололедом, мы с Дмитрием Федоровичем поехали из Вологды в Белозерск. Дмитрию Федоровичу нужно было в леспромхозы (работает он в отделе лесной промышленности обкома), мне же выпала удобная оказия навестить знакомого председателя колхоза. Отправились через Кириллов, берегом длинного Кубенского озера, тем старинным богомольным путем, каким езживали в монастыри еще кроткие цари, включая Ивана Васильевича.
Шофер вел осторожно, боясь соскользнуть в кювет, «газик» не трясло, и Дмитрий Федорович, любитель вологодской истории, начитанный с периферийной основательностью, неторопливо объяснял, что мы видим окрест себя. Старые секретари райкомов (а Дмитрий Федорович – кадровый секретарь, в обкоме недавно) – мастера поездить, нужно только слушать и слушаться их.
Ну, Молочное позади, теперь пойдут старые масленые деревни, они тянутся вдоль тракта до самой Шексны. Церкви в них строились большие, со шпилями на колокольнях. В шпилях этих – солдатская вытянутость, напряженность, тотчас, как взглянешь, думается о Николае I. Но Палкин с его вкусом тут ни при чем: церкви выросли позднее, уже на масляном промысле. Просто провинция донашивала ту архитектурную моду, от которой и вторая столица давно отказалась.
Не любопытно ли? Знаменитое вологодское масло, экстракт трав русского севера, при рождении своем было названо «парижским»! Способ делать масло из топленых сливок открыл уроженец Череповца Н. В. Верещагин, ученый, брат известного живописца. Он же ради сбыта нового продукта пошел на рекламную хитрость. Но смех в том, что масло в самом деле стал потреблять Париж! Правда, под маркой «датского», перекупщики действовали.
Открытие нового способа почти совпало с переворотом, который совершил сепаратор. Он загудел под Вологдой уже через два года после изобретения. Быстрым развитием вологодского маслоделия интересовался, писал о нем Ленин. В канун революции губерния уже насчитывала больше тысячи маслозаводов, маленьких, примитивных, но составляющих вместе нешуточную промышленность.
Да зачем далеко забираться? В двадцать седьмом году Вологодчина выработала триста тысяч пудов масла. Теперь вологодского масла вырабатывают раза в три меньше, но это кажущееся уменьшение производства, потому что товарного молока область дает столько, что его хватило бы на семьсот с лишним тысяч пудов масла. Просто города потребляют цельное молоко, тут и вся разгадка…
А вот и Усть-Кубенское – кружевная столица. Здесь десятилетняя девочка – заправская плетея, а в пятнадцать она уже и накидку, и покрывало сплетет, сама себе заработает и на кино и на туфли. Видите, девушка с чемоданом «голосует»? Нет, это не студентка, и вовсе не к маме едет. То второй конкурент председателя колхоза, едет портить ему трудовую дисциплину, ясней говоря – везет нитки, заказы на кружева, ей же плетеи и готовое сдают.
Мы взяли «конкурента» с ее большим чемоданом. Девушка – звали ее Любой – и вправду ехала от кружевной фабрики собирать работу у надомниц. Она рассказала, что хорошая мастерица зарабатывает на выгодных образцах рублей пятьдесят – шестьдесят в месяц. В колхозе столько не получишь, и заказы от фабрики охотно брали бы все женщины, и старухи, и молодые, только председатели колхозов не разрешают. Правления дают Любе списки, кому можно давать нитки и образцы. Это или нетрудоспособные, или хорошо работающие, выполняющие минимум трудодней. Конечно, и у Любы, и у женщин есть свои хитрости, им часто удается обходить препоны, за то Любу и не терпят председатели и бригадиры. А что поделаешь – работа такая! Она и сама выросла в колхозе, после школы ушла на фабрику, теперь она довольна, живет в общежитии, народу много, весело.
Я не спрашивал у Дмитрия Федоровича, кто первый конкурент у вологодского председателя. Спутник руководил лесной промышленностью области. Средний дневной заработок в леспромхозах – больше четырех рублей, средняя оплата человекодня в вологодских колхозах – рубль тридцать семь копеек. И те из крепких, со специальностью, мужчин, что не ушли «на города», очень охотно меняют родную деревеньку на поселок леспромхоза. Недавний секретарь райкома сам натерпелся от этой конкуренции.
Ага, уже часовенки пошли, близится обитель преподобного Кирилла. Приходилось ли замечать, спросил Дмитрий Федорович, что северные русские святые – завзятые практики и реалисты? Не до умерщвления плоти, не до исступленных бдений – жизнь ставила задачи поважнее, превыше всего было дело. Приходил организатор на пустое место, раскручивал работу, развивал сельское хозяйство и товарообмен, копил деньгу, выколачивая ее откуда можно и откуда нельзя, обогащал монастырь, заставляя считаться с ним. Хлопоты по своей канонизации перепоручал потомкам, а они уже заботились об антураже святости для крепкого дельца. Впрочем, и причисление к лику святых было серьезным экономическим мероприятием… Разворотливости, организаторскому мастерству Сергия Радонежского могли завидовать первейшие государственные мужи его времени. А разве не того же поля ягодой был Кирилл Белозерский?
Человек с громадными связями, из рода Вельяминовых, он был прислан сюда через семнадцать лет после Куликовской битвы, в которой, кстати сказать, блестяще проявили себя белозерские ратники. Прибыл с объемистой кожаной сумой, вроде теперешней инкассаторской. В ней находилась сумма, избавившая его от трудностей первоначального накопления.
«Место же оно, иде же Кирилл вселися, бор бяше велий и чаща, и никому же от человек ту живущу. Место убо мало и кругло, но зело красно, всюду, яко стеною, окружено водами». Конечно, сочинитель преувеличил насчет безлюдности этих мест. Иначе как мог Кирилл так скоро окружить себя «братьицею»? Он пишет великому князю о своей «братьице», а себя тактично называет «чернищо»… Какая уж тут безлюдность, если годовой доход основанного Кириллом предприятия дойдет до полумиллиона рублей – цифры и по более поздним временам космической. Это ж все люди, работа… А место впрямь красно, ничего не скажешь.
Нужно проехать почти весь бревенчатый Кириллов, чтобы увидеть будто из воды восставшую белую крепость. Она на самом берегу Сиверского озера. Дмитрий Федорович верно заметил: и не побывав тут ни разу, этот вид словно узнаешь. Это потому, считает он, что с детства всем помнится одно из чудес «Сказки о царе Салтане»:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами…
Самое реальное чудо сказки… Впрочем, Дмитрий Федорович, развивая забавлявшую его мысль, постарался доказать, что и Кирилловы чудеса были столь же земными, носили экономический оттенок. Осмотрев граненую Сторожевую башню, чуть подточенную волнами Хлебную, Свиточную, монашеский комбинат бытового обслуживания, мы вошли в собор-музей. Пожилая женщина-гид, напирая в силу областного происхождения посетителей на антирелигиозную сторону вопроса, показала богатейшую экспозицию. Дмитрий Федорович, хитро подмигнув, подвел меня к фрескам о чудесах преподобного. Названия сюжетов, выведенные четким уставом, звучали как пункты повестки дня: «О умножении хлебы во время глада», «О погашении пожара в монастыре», «О умножении вина служебного». В последнем, очевидно, нехватки не было: Иван Грозный шлет сюда свирепонасмешливые циркуляры, чтоб сосланного Шереметева кормили похуже и не приносили ему в кельи вина.
Любопытен выставленный для обозрения монастырский документ – своего рода план поставок сельхозпродуктов: к какому дню сколько масла, меду, сколько и каких именно грибов, ягод, сколько четей ржи и ячменя должны сдать крестьяне. Твердое, так сказать, задание по каждому продукту: не продразверстка, а продналог.
В бывшем монастыре сейчас школа глухонемых. Старушка-гид похвалила их: ребята тихие, спокойные. Не чета тем, что иногда летом наезжают – с рюкзаками, гитарами, с маленькими такими приемниками. Теперь построен Волгобалт, обещают пустить пароходы со своими и даже заграничными туристами, вот будет колготы!
Переночевав в Кириллове, мы на позднем рассвете пешком по ненадежному льду перешли широченную после пуска канала Шексну и к полудню были уже в Белозерске.
Если Вологда – ровесница Москве, то Белозерск, пожалуй, – сверстник Киеву. Во всяком случае, свое 1100-летие город уже отметил, о чем свидетельствуют громадные белые цифры на скате земляного вала. Вал этот – сооружение удивительное: высокий, очень крутой, со сводами внутри, он, говорят, еще недавно, на памяти людей среднего поколения, скрывал от глаз горожан даже кресты собора, стоящего внутри. А в последние годы сильно осел. Сюда, в Белозерск, Иван Грозный сослал новгородский вечевой колокол, предварительно лишив его языка. Для белозерца нет никакого сомнения в том, что и легендарная библиотека царя Ивана Васильевича, которую искали под Кремлем, хранится здесь, а именно под сводами северной части насыпи. Летом поросший травою вал – любимое место прогулок. Июньские ночи здесь белы по-ленинградски, и бродить в светлых сумерках на уровне куполов, над домами, старым гостиным двором, над бульваром с белой сиренью, над простором Белого озера впрямь славно.
Есть тут и еще одно чудо. Когда я впервые попал сюда и под вечер пошел к озеру, меня ошеломило невероятное: по нижней улице шел пароход! Не по озеру – оно виднелось дальше, за буйными ветлами, – а прямо по улице. Матросы с мостика шутили с разряженными девицами. Мальчишки с велосипедами ждали, когда судно освободит дорогу… Это увидал я обводной канал.
Построенный в середине прошлого века для безопасности плаванья (штормы на Белом озере сильные), он и сейчас служит сплавщикам. Плоты длиной чуть ли не в километр тянутся за буксиром, и тогда уже не пароход идет по улице, а бревенчатая мостовая движется куда-то на восток. Обелиск у озера утверждает, что канал построен графом Клейнмихелем. Это тот самый граф, что помянут Некрасовым в эпиграфе к «Железной дороге». Канал пропах свежим деревом, в нем водятся некрупные темные окуни, и среди удильщиков увидишь подчас четырех-пятилетнего мальчонку: мать, должно быть, приглядывает за ним из окна.
Но в этот приезд Белозерск был сер, пасмурен. Недавно прошли дожди, снег почти стаял, на белой сирени, обманутые теплотой, набухли почки. Дмитрий Федорович бранил мягкую зиму: она мешала вывозке леса. Закусив в скверной здешней столовой, мы поехали в леспромхоз: он – чтоб прояснить обстановку с планом, я – повидать Иванова.
Николай Николаевич Иванов стал известен внезапно – седьмого марта 1964 года. На совещании в Москве Н. С. Хрущев зачитал письмо свинаря колхоза «Родина», где секретаря парткома Белозерского производственного управления упрекали в головотяпстве, администрировании: он будто принуждал косить на силос загрубевшую рожь.
Доклад на совещании еще не был напечатан, когда Иванова вызвали в обком и сказали, что работу придется сменить. Николай Николаевич вины за собой не чувствовал: в колхозе «Родина» скошено на силос только девять гектаров ржи, получен хороший силос. Посев озимых на кормовые цели обком поддерживал; при уборке на силос с гектара получишь больше кормовых единиц, а продажа зерна при вологодской его себестоимости приносила одни убытки. Вины не чувствовал, но по тону понял: спорить нечего. Согласился работать председателем райисполкома в соседнем районе. Вылетел в новый район, познакомился с людьми, готовился принимать дела. Но тут поступили газеты с текстом доклада.
«Иванов Николай Николаевич – секретарь парткома Белозерского производственного управления, – прочитал он о себе, – родился в 1920 году, член КПСС с 1942 года, образование – 7 классов и областная партшкола.
Вот его послужной список: счетовод колхоза, секретарь сельсовета, председатель сельсовета, инструктор райисполкома, бухгалтер отдела соцобеспечения, инструктор сельхозотдела райкома партии, секретарь райкома, а затем парткома производственного управления. Кто же выдвигал такого человека на ответственный пост секретаря парткома производственного управления? Человек не подготовлен, сельского хозяйства не знает. Таких людей нельзя выдвигать на руководящую работу. Нельзя!»
Иванов прочитал, посмотрел карикатуру на себя – и отказался покинуть Белозерск. Потому что за пределами его не многие знали, что на него возведена напраслина.
Пленум парткома, на котором снимали его с работы, протекал очень бурно. Прежде всего возмутила ошибка, на которой держалось обвинение. Иванов родился и всю жизнь, если не считать армии и учебы, прожил в этом районе, уж тут-то знали, что за плечами у него вовсе не семилетка с областной школой, а десятилетка и Высшая партийная школа Ленинграда, дающая законченное высшее образование. С трибуны говорилось, что не Иванов администратор, администрируют те, что заставляют у Белого озера распахивать клевер, сеять кукурузу, а когда дело не идет, ищут виноватого.
Словом, Белозерск вовсе не хотел признавать, что корень экономических бед – только в причинах субъективных, только в том, что не найден герой-руководитель, способный прийти, увидеть, победить. Не хотел партком взваливать на кого-то вину за бесплодность перестроек, за метанья в агростратегии, ибо при таком подходе не Иванов, так Петров или Сидоров непременно должны были подпасть под удар. Дело принимало крутой оборот. Привезенный на место Иванова человек, поняв что к чему, порывался встать и уйти.
Николай Николаевич попросил слова. Сельскохозяйственного образования у него в самом деле нет, это факт, спорить тут нечего, и будет больше пользы, если секретарем будет специалист.
Отчасти это соображение, а больше – предложение потребовать партийного расследования дела позволило приступить к голосованию. Иванова освободили, секретарем был избран С. В. Маряшин – председатель одного из лучших колхозов области. Особым пунктом записали в решении требование о партийном расследовании.
Правда, едва страсти поутихли, как пленум был собран заново и пункт о расследовании вынудили отменить.
Иванов пошел работать в леспромхоз, заместителем директора. Сильно сдал, на глазах постарел.
Крупного роста, черноволосый, сдержанный, Николай Николаевич встретил меня будто приветливо, но сразу дал понять, что старое вспоминать не к чему. Он теперь лесоруб, так тому и быть. И если ему эти полгода дались нелегко, то Маряшину, пожалуй, трудней было. И нужно отдать должное: новый секретарь завоевал уважение, расположил к себе председателей колхозов, он уж тут не варяг. Район передовым не стал, беды все те же, но не Маряшина винить: он всего себя отдает работе…
Человек, представленный всей стране как первопричина вологодских бед, превращенный в символ безграмотности, человек с фамилией, на которой вся Россия держится, сохранил гордость, беду перенес достойно. Убедиться в этом было отрадно.
Знакомого мне председателя колхоза зовут Борисом Кирилловичем Беляевым. Колхоз его – «Мир» – лежит километрах в семидесяти от Белозерска, рядом с лесопунктом Визьмой, поэтому лесопромышленники проложили туда бетонную колею: две нешироких полосы из плит, ездить по которым надо с умением. Следующим утром Дмитрий Федорович с Ивановым направились в лесопункт, мы с Сергеем Владимировичем Маряшиным – к Беляеву. Путь был один.
Ехали лесом. Когда вдали показывался лесовоз, наши «газики» торопливо съезжали в сторону, освобождая колею. МАЗ, несущийся с оберемком вековых сосен, могучий, оглушительно ревущий, не способный быстро затормозить, – зрелище впечатляющее. Казалось, колея прогибалась, когда прокатывалась по ней эта воплощенная сила индустрии, особенно разительная в краю мелких почернелых деревень…
– Хороша машинка, а? – говорил довольный Дмитрий Федорович Маряшину. – Промышленность, брат, его величество рабочий класс! Умеем же работать, когда захотим!
– В Визьме вашей семьсот человек, так? – возражал Маряшин. – И все, между прочим, из колхоза «Мир». А в колхозе двухсот не осталось, теперь вот подали сто семьдесят заявлений о пенсии.
– Понимаю. А машина-то хороша.
– Хороша… А кусать вашей Визьме трижды в день нужно.
– А ты не попрекай, свой кусок Визьма сама зарабатывает: «зеленое золото» дает. Хороша, говорю, машинка.
– Хороша, только правая рука должна знать, что делает левая. А то придется в твою Визьму сухое молоко завозить. На хорошей машине…
Видно, этот разговор на остановке заставил Дмитрия Федоровича после своих дел приехать в колхоз. Пока же они с Ивановым свернули к ладному новенькому поселку лесопункта, мы же по рытвинам и колдобинам лесной дороги тронули к деревне Климшин Бор, где центр колхоза «Мир», где живет и сам председатель.
Родом Борис Кириллович Беляев из деревни Аристово, она за Андозером, богатым рыбой. Повзрослев, он стал работать здесь секретарем сельсовета, пошел на выдвижение, вступил в партию, обзавелся семьей, потом был направлен на учебу в Вологду и наконец ранней весной шестьдесят четвертого года вернулся к родным пенатам, уже председателем колхоза, объединяющего и опустелое Аристово, и две дюжины других деревень.
Кириллович (зову его так, как и колхозники) многим поступился. Зарплата его теперь меньше, чем на былой должности. Жена Александра Матвеевна, прежде работавшая продавщицей, теперь дома: не с кем оставить младшего, трехлетнего сына. Средний, шестиклассник Сережа, учится в Визьменской школе, за шесть километров от дома, уходит и приходит затемно. Старшая дочь на квартире живет, при школе. Говорю к тому, что Кирилловича никак не упрекнешь в недостатке энтузиазма и самоотверженности.
Председатель разворотлив, практичен, условия здешние знает. Приняв колхоз, он должен был заплатить людям. Молоко не шло – не было кормов, к весне тринадцать коров пало. Кириллович вспомнил о лещах Андозера. Собрав со всего колхоза человек тридцать мало-мальски крепкого народу, он в три дня поймал пять тонн рыбы, сдал ее в потребсоюз и выдал зарплату.
Он старается работать с заглядом вперед. Купил у соседей тридцать телок и шестьдесят коров, выбраковал старых и всякую калечь из своего стада. Приобрел в долгосрочный кредит четыре трактора, комбайн, генератор, сушилку и две сеялки. Своими силами колхоз очистил от камней восемьдесят гектаров пашни.
Кириллович не хуже южного хозяина понимает преимущества специализации. Убыточную свиноферму из десяти маток он ликвидировал, зато рассчитывает на сорок голов увеличить молочный гурт, от которого можно получать чистый доход. Сам он пользуется доверием в районе. В пору сенокоса соседние председатели не отказали ему в займе, Кириллович добыл десять тысяч рублей и уплатил косарям. Работает тридцатисемилетний хозяин не щадя сил и здоровья. Маряшин рассказывал, что осенью, в распутицу Кириллович пригласил его пройтись по бригадам. Ходили по колено в грязи три дня, обошли же только шесть деревень.
Итог первого года работы Кирилловича – восемнадцать с половиной тысяч рублей убытка. Лен ожидаемого дохода не дал – сушь прихватила, а на него была вся надежда. От продажи зерна (урожайность – 5,9 центнера) колхоз понес убытки – по 7,5 рубля на каждом Центнере. Выручка за молоко (производится его по 120 центнеров на сотню гектаров угодий) только покрывает затраты. Председателю позарез нужно было десять тысяч рублей, чтоб рассчитаться по гарантийной оплате – выдать рубль сорок копеек за человеко-день в животноводстве и восемьдесят копеек в полеводстве. Кстати говоря, сумма подоходного налога, уплаченного убыточным колхозам, как раз и составила десять с небольшим тысяч рублей.
Кириллович шутя заметил, что он сейчас, как конник на распутье, должен выбрать из трех дорог: или не возвращать банку аванс за лен, или не отдавать долг колхозам, выручившим в сенокос, или просто не рассчитать колхозников. Последний путь – гибельный. Имея под боком точную и щедрую в расчетах Визьму, обманывать нельзя. И так с доярками сущая беда. Сейчас одну группу коров доит секретарь сельсовета Мария Викторовна – у нее декретный отпуск, сына родила. Но это выход временный, отпуск к концу, а других здоровых женщин в той бригаде нет. Теперь же обязательно надо поднимать оплату и в полеводстве. Главная доходная отрасль – льноводство. Держится ленок заботами и хлопотами старушек, сыновья и дочери которых или в Визьме, или в Череповце, на металлургическом комбинате. С января начинает действовать закон о колхозных пенсиях, он даст старушке примерно те же деньги, что она добывала на льне. И если не заинтересовать пенсионерок лучшими, чем прежде, заработками и не уговорить к тому же, ленок осиротеет.