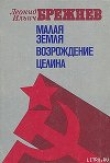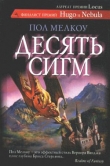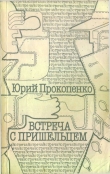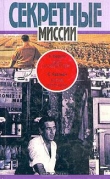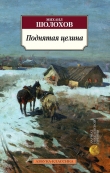Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
4
«Очерк о сегодняшнем дне? Так давайте положительного героя! Чтоб было кому подражать».
У нас в университете древнерусскую литературу вел старый преподаватель гимназии, добросовестный и насмешливый Леонид Иванович Панкратьев, сдать ему нашармака нечего было и думать. Этому обстоятельству я обязан ненужно прочным знанием агиографии – житий святых. Дело, признаться, скучное: штампы, стандарты, непременно соблазны, преодоления искушений, вмешательство ангела, серия чудес – и переход в святость. Но горек корень учения – сладкие плоды. Штудируя спустя много лет сельские очерки, я легко узнавал сборные детали, из которых монтировались жития веков пятнадцать подряд. Как эти изложницы достались атеистам – неведомо, но понятно, почему от председателя колхоза так разит елеем. Словно преподобный Антоний, он обходит блюдо с серебром, стоящее на пути. Как Григорий Печерский, любит тех, кто дочиста обирает яблони в его саду. Точно Макарий Александрийский, отгоняет новыми, добавочными тяготами соблазн бросить все и уйти в город. Будто Козма и Дамиан, помогает другим только бесплатно. Ровно Макарий Египетский, избегает прекрасного пола – при нем и имени женского не смеют произнести. А еще – никак не узнаешь, что ест он сам и чем поддерживают обмен веществ его ближние. Уцелей от прошлого только сельский очерк 30—50-х годов – и почти невозможно будет выяснить бюджет питания колхозного крестьянства! От Энгельгардта знаем и как «в кусочки» ходили, и как перестали ходить, из «Тихого Дона» видим и праздничный и будничный стол Области Войска Донского, от Неверова твердо храним число Мишкиных кусков, даже «устрицы» Щукаря на полевом стане памятны, а вот чем теплили жизнь миллионы звеньевых, бригадиров, участковых агрономов, вообще организаторов сельского производства – тайна.
В пору, когда «Отечественные записки» печатали письма Энгельгардта, выходила «Галерея замечательных людей России в портретах и биографиях». Рядом с очерковыми портретами Белинского, Толстого, Чайковского в ней можно увидеть жизнеописание бюрократа такой химической чистоты, что завидки берут. Действительно замечателен портрет московского генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова. «Вся жизнь его являет пример непоколебимой преданности долгу, – волнуется чиновный (очень грамотный, впрочем) портретист-аноним. – Всюду, куда только ни бросала его служба… везде он отличался высшею, ничем не подкупною честностью и строгим, точным, добросовестным исполнением возлагавшихся на него обязанностей и поручений. Несмотря на громкий титул и историческое имя, повышение его по службе шло не скачками, при помощи протекций, а добывалось шаг за шагом личными заслугами». Ну, последнее напрасно, слишком. Факты-то кричат о другом, послужной список – обличает. Едва выпущенный корнет устроен адъютантом при генерал-квартирмейстере, потом адъютантом же у самого Чернышева, лукавого холопа и военного министра (см. «Хаджи-Мурата»), Всегда на виду, при штабе, на подхвате, «для особых поручений», в чьих-то помощниках, пока стезя продовольствия, дорога закупок, миллионных сделок, благодарности поставщиков, заготовления и расхода провианта, занятия военным хозяйством вообще не выводит его самого к генерал-адъютантству и не ставит губернатором Москвы. Ордена он не получает, а словно со смаком и знанием коллекционирует: русские Станислав, Владимир, Анна, Георгий, даже Александр Невский, даже Андрей Первозванный – это еще куда ни шло, хотя бы понятно. Но ведь у этого провиантмейстера и прусский Красный Орел большого креста, и датский орден Слона, персидский – Льва и Солнца, какой-то австрийский Леопольд, черногорский Даниил, итальянский Святой Маврикий, саксонские, мекленбург-шверинские знаки, какие-то перстни с вензелями, табакерки – и даже портрет персидского шаха, осыпанный бриллиантами!..
Международная фигура на весь XIX век? Всеобщий герой Евразии? Ничтожество, манекен? Нет: идеализированный автопортрет и самого литератора, и той среды, которая в Долгорукове ликует! Вор? Это есть. Ворище колоссальный, пышный, долгорукий, прохиндей того высшего класса, когда законы только смущенно покашливают в полном бессилии, и клеймо поставить абсолютно некуда. Бюрократ, и провиантмейстер в предельном расцвете понятия. Интересно, что и от помещения в «Галерею…» он не отказался, а, вероятно, даже пробивал включение (пятидесятилетие беспорочной службы!): быть рядом с Карамзиным, Нахимовым, художником Ивановым – тоже орден, осыпанный бриллиантами.
Иное дело, что очерк аспидски и ехидно мстит. Торичеллиева пустота настолько явна и ненаполнима, что гимн читается сатирой, биография – ядовитым памфлетом, и ничего тут не поделают ни филателия орденов, ни пуды монарших благоволений. Простоват оказался губернатор! Которые поумнее, к услугам письменности не прибегали и от сопоставлений уклонились.
Сколько воды утекло, «все в мире по нескольку раз изменилось», а недавно в Душанбе вспоминал я ту самую «Галерею»:
– Этот товарищ у нас уже получил госпремию республики, награжден орденом, избирался туда-то и туда-то. А писатели до сих пор не создали очерков, отражающих его заслуги.
Награждение очерком. Осторожней надо, осмотрительней – как бы чего не вышло!
А другой пример вроде из наших дней, но из совершенно чуждой нам действительности.
Судьба однажды позволила наблюдать, как герои (вполне реальные – молоденькие и, кстати, хорошенькие как на подбор американки) изъясняются словами, для них тут же написанными литератором, и лицедействуют в очерках, написанных именно о них.
Средний Запад США, кукурузная глубинка. В городе Луисвилле на реке Огайо идет съезд фермеров-соеводов. Съехались тысяча четыреста соевых интересантов, и среди них – знакомят – литератор мистер Ким. Он поэт и лиру посвятил Американской соевой ассоциации. Познакомьтесь ближе, вы ведь тоже пишете об агрикультуре, не так ли?
Ловкий спортивный малый, происхождением кореец, одет лучше первых воротил, настоящих миллионщиков: те старомодны, пиджаки лет на семь опоздали, а у этого все продумано, в тон и неброско, и голой рукой не возьмешь. И бодр, сияет улыбочкой, оптимистичен – экой жизнелюб! Что же, однако, ему тут делать? Как посвящать эту самую лиру – рекламировать соевый жмых, что ли? «Нигде, кроме как…» Но тут же все свои, все производители, озабочены сбытом. Восславлять положительных? Так они вроде застенчивы, вон и на костюмы не тратятся, выдвигают вперед меньшую братию, деревенщину-засельщину из Кентукки, Айовы, Джорджии…
Выяснилось под конец. Каждый штат прислал «принцессу Сою» – живую эмблемку, красивую девушку из фермерской (это обязательно!) семьи. Все они претендентки на роль «принцессы Сои» всеамериканской – девчатки лет девятнадцатидвадцати, студентки, сияющие, крепкие, «з гориха зэрня», как говорится на языке моих дедов. Перед голосованием момент словесности – нужно в семь-восемь минут показать, что ты такое внутренне. Одна выучила назубок, другая знала, но частила, третья сбивалась и начинала сначала. Одной сон приснился – она соей спасает голодающий мир, другая встретила короля, он оказался соеводом-фермером, третья стишки читала про росяное утро на ферме, когда цветет «морнинг глори» (ипомея, по-украински кручени панычи), – мистер Ким издергался, пока все кончилось. Как композитор на первом исполнении, он улавливал любой сбой – и страдал.
И все-таки он был молодцом! Речи (этюды, монологи) в основе подходили исполнительницам, нигде не висело, не торчало горбом, словесность служила имиджу. Мастак. Большой мастер пера. Публицист! Его поздравляли, и он снова расцвел и сам опять стал образцом преуспеяния.
Мизантропия, брезгливость – пороки тяжкие. Но само по себе жизнелюбие, один гедонизм, способность «петь и смеяться, как дети», автоматически не приводят к положительному герою, над которым смеяться никто и никогда не станет. Вообще брызжущая радость бытия и социальное летописание не близнецы-братья. Человек, нацеленный на ликование, мало расположен к публицистике; не тот резус-фактор. Коренной россиянин Щедрин на примере современной ему Франции вообще вывел некую закономерность, обратную корреляцию между личным преуспеянием и страстью к прямой речи.
«Люди благополучные, невымученные, редко чувствуют потребность зажигать человеческие сердца и в деле ораторства предпочитают разводить канитель… – уверяет Щедрин в очерках «За рубежом». И подводит под этот взгляд исторический базис: – Я думаю насчет этого так: истинные ораторы (точно так же, как и истинные баснописцы), такие, которые зажигают сердца человеков, могут появляться только в таких странах, где долго существовал известного рода гнет, как, например, рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка в места не столь отдаленные (а отчего же, впрочем, и не в отдаленные?) и проч. Под давлением этого гнета в сердцах накапливается раздражение, горечь и страстное стремление прорвать плотину паскудства, опутывающего жизнь. В большинстве случаев, разумеется, победа остается на стороне гнета, и тогда ораторы или сгорают сами собой, или кончают карьеру в местах более или менее отдаленных. Но бывает и так, что гнет вдруг сам собою ослабнет и плотину с громом и треском разнесет. Вот тогда вылезают изо всех щелей ораторы».
Это, повторим, русский оратор Щедрин – про Францию, виденную им во времена Мак-Магона и Гамбетты.
Но сама «неблагополучливость» публициста вовсе не остается за шеломянем времен, если иметь в виду не имитацию самогорения, а действительное разжигание людских сердец. Это прямо коснется и сектора положительного персонажа. Если писание вообще есть стремление за кажущимся отыскать сущее, то и портретная живопись при полной симпатии художника к модели может оказаться совсем не безобидным занятием.
Аким Васильевич Горшков, патриарх колхозного строя, всю жизнь занимался промыслами (и строил на промыслы, и культбыт развивал, и гостей в колхозе принимал), а пропагандировал что? Смотря по времени. Яровизацию, торфоперегнойные горшочки, кукурузу, «елочку», сенаж – лишь бы не трогали экономику колхоза. Он привык за десятилетия, что пишут и будут писать о голубых его улицах, об агролаборатории и всегдашнем подхвате починов. Про метлы, стружку, черенки и древесный уголь рассказывать просто невежливо, как бестактно описывать пищеварение достойного лица!
Аким Васильевич был настолько крупным человеком, что простил выдачу его многолетних секретов в новомирском очерке «Помощник – промысел». Это потом, спустя срок прояснилось, что Горшков создал модель хозяйства для мещерских условий, и мой очерк был, следственно, пропагандой нового-передового. А один смоленский лидер – он ведь потащил меня к ответу за постулат «богатому и черт люльку качает», подкрепленный данными из его практики! Посмотрев наш фильм «Надежда и опора», другой очень ответственный работник признался мне: «Я сам строил комплексы, сам подсаживал свиней в кузов за цемент и кабель и никогда не соглашусь, чтобы про меня выложили правду. Никогда!»
Очерком я занимаюсь двадцать лет: первая новомирская работа «Целинная дорога» вышла в январском номере 1964 года. За это время родилась и выросла целая очерковая литература. Не моей специальности дело оценивать ее, но одно знаю твердо: положительный герой, плюсовой заряд наличествовал в любой заметной работе, какой бы критичной, даже разоблачительной она ни казалась. Герой (а часто это лирический герой, то есть персонаж-автор) что-то, наверно, потерял от туго скрученных фигур 50-х – начала 60-х годов, зато отличается широтой кругозора, дотошностью, диалектичностью. Как автор в «Тюкалинских тетрадях» Петра Ребрина, он из «верующего» («…старались верить, потому что верующему не только легче жить, но с него и спросу меньше») превращается в нормального, то есть думающего, понимающего жизнь и народ человека. Очерк В. Селюнина «Нерв экономики» в «Дружбе народов» напомнил, что и безличностное исследование может иметь свой положительный образ – образ мышления, чистый разум, так сказать. И плюсовой заряд при невеселом анализе транспорта страны, анализе «спутниковом», всеохватном и историческом одновременно, в том-то и состоит, что мы с вами никогда так крупно, масштабно не думали и так не ощущали груз «чувства хозяина», как при этом распутывании железнодорожных узлов.
Все так. Но вот что стал замечать: тревожно высока смертность среди положительных персонажей! Председателю колхоза Николаю Неудачному из книжки «Стрелка компаса» сейчас было бы пятьдесят четыре года, а вышла-то книжка девятнадцать лет назад! Скобелев с Верхней Волги, слепой биолог Лопырин из Ставрополья, пшеничные батьки Лукьяненко и Ремесло, гигант Гришаков и певун Богачев из Кулунды, философичный Гарст из Айовы, Нестор Шевченко, не давший распахать песчаную гриву и тем разжечь пыльные бури, – скольких нет, а какие все были люди!
Высоковольтность жизни. Напряжение, обороты, страсть – отсюда и краткость реального века.
5
– Пиши, что видишь. Что видишь, то и пиши, – сказал мне Георгий Радов. Осенью 1958-го он приехал в Кулундинскую степь от «Огонька».
Я и правда писал не то, что видел. Напечатал (в Москве) какую-то романтическую ерунду – «Кругосветное путешествие». Некто подарил молодому шоферу компас для дальних странствий, а тот прибыл на целину и тут намотал 40 тысяч километров – как раз земной экватор. Но в своей кругосветке он открыл землю, какой еще не было! Тут-то и находка автора: Колумб или Хабаров открывали незнаемые, но уже существовавшие земли, а шофер с компасом, строя в пустой степи элеваторы, поселки и прочее, сотворил себе и нам совсем новый край.
Но Благовещенка, Леньки, Шимолино – поселки у Кулундинского озера – стояли с незапамятных времен. Никто из здешних чалдонов на звание целинника не соглашался – это были коренники, у степи была своя история, и уверять, что все началось с тебя, что до нас вообще ничего не было, а раз не было, то и сравнивать не с чем, и оглядываться не на кого, уверять в этом себя и других было лестно, но – лживо,
– Ты ж тут столько видишь…
Осенью, в уборку, голосовать было легко, и дома я почти не ночевал. Ночью вся степь в огнях. Каждый комбайн подсвечивает свое облако пыли, светятся тока (тогда там бывало черно от народу), горят фары на большаках – не спать, скорее, график, сводка, хлеб-хлеб-хлеб. «Степь озаренная». Или – «Степь бессонная»? Во всяком случае, эта торопливость, бессонница, пыль («добрый дым хлебного фронта» – придумал я впрок), уполномоченные из края, «радиосовещания», когда районное звено и председателей мутузили без возможности ответить, очереди у элеваторов, нервы и брань шоферов – вся патетика кулундинских дорог требовала ответа и запечатления. «Бессонная» только или «озаренная»?
Уполномоченным нам из кампании в кампанию доставался пожилой горбун, он кричал:
– Я тебя с работы сниму! Я тебя на бюро вытащу!
За глаза его называли «спутник», тогда это слово только явилось. «Спутник» – значит, летает, круглый, и всюду сигналы: пип-пип-пип… Ночевал «спутник» в крайней комнатке райкома среди старых портретов. Здесь уполномоченный становился хворым и маленьким, снесенные отовсюду бюсты ему не мешали.
Приехал поэт Сергей Смирнов и написал:
Это золото зерна —
Для тебя, моя страна!
Патетика была всюду – только не в очередях у элеватора. Почему вообще очереди? Что, шоферу нужно скорее сдать! Ему бы ночью выспаться, а днем возить от комбайна. Колхозу? Тоже нет, ему очистить зерно надо, отходы нужны. Так району, что ли, это он и недели не протерпит? Нет, нужно было зерно элеватору. Почему не заготовители в очереди за обмолоченным зерном, а шоферы – «рыцари дальних трасс»?
Да уполномоченный носится и создает накал. А потом тоненько стонет ночами.
Сезон за сезоном уходил на драчливые заметки, фельетоны, «рейдовые бригады» – до настоящего, до «Бессонной дороги» или «Огненной степи» так и не дошло. Ждала заведующая кор-сетью Софья Петровна Крючкова, возлагавшая, что скрывать, надежды на собкора по Благовещенке; чего-то путного ждали ребята из «Советской Молдавии», в свой срок проводившие на целину; наставляли (и, следовательно, ожидали чего-то) частые на целине мэтры из Москвы…
Спустя десятилетия я прочитал то, что в идеале могло быть написано! Именно потому, что в идеале оно уже существовало (хотя и без публикаций), оно и могло висеть как невысказанное задание, как негласный соцзаказ… Прочитал «Бежин луг» Ржешевского. В написанном больше правды, чем поначалу кажется. Конечно, в начале 30-х этот накал был внове, в конце 50-х он шел на спад, но тональность, лихой азарт организаторов, неутолимый восторг пишущего и верно замеченное недоумение просто следующих дорогой – все так, все это я видел и должен был, следовательно, живописать.
Я вовсе не хочу вкладывать в постулат «пиши, что видишь» этакий кочевниковый смысл – что вижу, то и пою. Нет, оно и нужно писать именно то, что тобой увидено.
Но у меня – потом, после – получилось, что писал все больше о том, что видеть нельзя.
Эрозия? В том ее и опасность, что она не видна. Выдувание – да, оно хоть тем обнаружит себя, что солнце скроет, а смыв, овраги – это незаметные миллиарды тонн почвы в Азов, Понт и Каспий…
Чувство хозяина? наука в земледелии? ответственность перед будущим? экономические отношения вообще – как это видеть, чтобы писать? А в этом незримом – стержень: производственные отношения.
6
Сдавали худсовету телевизионный цикл «Хлеб семидесятых». Засухи, маятник намолотов, агрономы «бу сделано», изящный Ремесло, резкий Бараев, графики урожайности, как зубья пилы, доступные автору прогнозы и выводы.
Просмотрели. Молчание. Кто первый?
– Это намерены транслировать? – спросил Н. Н., приглашенный, от которого зависело многое, если не все. – У меня вопрос: кому? Кто адресат? Если те, кто несет ответственность, то они, смею уверить, обстановку знают и без очерков. А если показать тому, кто не знает… Из телевизора, признайтесь, он толком ничего не узнает. А главное – он и не решает, тот адресат! От него практически ничего не зависит. Нет, показать народу в Госплане, Минсельхозе, в ВАСХНИЛе, думаю, будет полезно, а на широкий экран – зачем? Кому? Для чего?
– Но автор может спросить: чего же он тогда не решает, тот, кто знает? – улыбнулся М. М, от которого тоже зависело, но не все.
– Так это что, способ жать на тех, кто знает, привлечением тех, кто ничего не знает? – спросил Н. Н.
– «Ничего» – таких сейчас и не найдешь, – держал оборону М. М. – Города наполовину состоят из деревенских. А всеобщее шефство – оно так поднимает осведомленность!..
– Эта всеобщая осведомленность! Она и завела кукурузу в Вологду, а клевера в могилу, – резко ответил Н. Н. – Нет, я все-таки хочу самого автора спросить: кто ваш адресат? Тут, сейчас скажите нам: к кому вы обращаетесь?
Я отвечал в строгом соответствии с жанром (есть ведь жанр – выступление на редсоветах), и «Хлеб семидесятых» в эфир попал. Правда, не в первородном виде, но появился.
Н. Н. был умным зрителем и давним софистом. Кому вы пишете – тому, кто знает? Тогда это разговор между знающими (придется для чистоты опыта и автора отнести к слою знающих), это внутрицеховой «междусобойчик» и означает моралите, некоторое устыжение. А какое право у одного знающего устыжать другого – разве то только, что устыжающий не отвечает?.. Или тому пишете, кто не знает что почём, но пассивно в сложностях участвует – как потребитель, допустим? Тогда это известного рода «научпоп», просветительство, а по научно-популярным канонам все обязано еще на наших глазах закончиться благополучно вмешательством науки, знания, организации – любым, но финально благополучным вмешательством! А где у вас такой финал?
Какой эффект от случая первого – от разговора между знающими! Допустим, что кем-то персонально сделан безрыбным Азов (личности такой, разумеется, нет), некто другой запретил подсобные промыслы, а кто-то еще перегородил дамбой Кара-Богаз. Что, разве сделано это было из-за нехватки той толики знания, какую может добавить очерк или телефильм? Нет, обстоятельства велели. А наука тогда доказала, что все будет в норме.
Разве описание или съемка на пленке соляных бурь над белым каспийским заливом, набитых медузами осетровых ям у Темрюка и Ейска, цветущей воды на каховских мелководьях воздействуют на сведущего сильнее, чем прямая статистика, акты и факты? Нет и нет.
Эффект от случая второго? Человек и без того не хотел ехать в колхоз на уборку, а ему еще демонстрируют экономический нонсенс шефства, теоретически подкрепляют его нежелание!.. Но если даже покажут ему все омские совхозы, где с шефством начисто покончили, – может ли он, несведущий, так все механизировать, отстроить жилье и т. д., чтобы человека не брали от станка или кульмана всю осень морковь дергать? Нет и нет. В итоге – одна досада, разрядка аккумулятора.
Хоть круть-верть, хоть верть-круть!
Я не желал беды телециклу и не мог, ясное дело, сказать Н. Н. правду об адресате. Я был бы просто осмеян и отшлепан, и не видать бы мне эфира как своих ушей.
Состояла же правда в том, что я пишу (снимаю) для самого себя и для Барсукова. Да-да, адресат двуедин, состоит из взаимовлияющих персон: из меня, только не какого-то условного меня, а собственно гражданина с паспортом № 589833, и из Барсукова. Мы составляем систему, хотя между нами пространственно часов семь самолетного пути. В моем городе уже нет агрикультуры (исключая ВДНХ), в его – практически и не будет: Барсуков живет в Усть-Илимске. Я пишу и снимаю, он лесоруб, грамотный русский человек сорока пяти лет от роду. Я его засадил за экономику. «Засадил ты меня за экономику!» – пишет он мне со своей улицы Мечтателей, дом 15, квартира 30. Если потеряется Барсуков (и собственно рабочий на лесоповале Борис Никитич Барсуков, 1938 года рождения, и как понятие), мне каюк: для Н. Н. писать или снимать нельзя. Сказать бы тут, что Барсуков засадил за экономику и меня самого, да выйдет неправда. Засадил меня Овечкин, он послал меня на целину – озоном правды и боязнью профукать, растранжирить жизнь, именно эти реалии я почерпнул из «Трудной весны». А то, что Барсуков достал в усть-илимской библиотеке «Экономику сельского хозяйства» и просит у меня «Биорегуляцию развития растений» донского ученого Потапенко, это уже отдаленный эффект лавины, хотя мне и жизненно важный и лестный.
А для самого себя я пишу потому, что боюсь – пропадет. Что пропадет? А происшедшее. Имевшее место. Что именно? Ну, хлеб 70-х годов XX века, например. Пропадет неосмысленный, неоспоренный, только съеденный – и баста.
Вы серьезно? Тогда вас надо к врачам. Сначала хотя б к невропатологу. Как же он может пропасть, если – ЦСУ, всесоюзные конференции, десятки докторских и сотни кандидатских, если сессии ВАСХНИЛ, если даже из космоса снимают площади зерновых?!
Да пропадет – и все. Вы что, не знаете постулата Александра Трифоновича Твардовского? Пока что-то не изображено в литературе, его как бы и не было в жизни.
Скажи-ите – литература! Очерочки нонпарельные, зеленая тоска, третий десяток лет все одна и та же вода толчется в ступе – пары да планы, планы да пары, хоть бы стыдились сами себя передирать… буйные витии!
Ну это вы напрасно так. Никакого особого тщеславия нет. Ведь не о качестве записи речь. К тому ж говорил я на худсовете правильно, почему телецикл три вечера подряд и отвлекал народ от хоккея, а гадать, размышлять могу и не совсем верно. Если даже заблужусь – велика ли беда? Товарищи поправят.
Но вот кто-то когда-то не написал для себя – и провалилось, изнетилось время! Вместо целого периода – лакуна, пустота. Откройте «Повесть временных лет»: «В лето 6506 (998). В лето 6512 (1004). В лето 6513 (1005). В лето 6514 (1006)…»
Видите, что делается? Год – бар, свершений – йок! Не счел Нестор-летописец достойными внимания и пера события и тенденции, какие имели (а ведь имели!) место в целой Руси, – и пожалуйста, дыра. А годы-то все какие, начало нашего с вами тысячелетия! Обидно тем, что тогда жили, власть имели, творили всякое-разное, со своей точки зрения – непременно значительное. Но и нам ведь обидно! Мы против тех-то людей суперзнающие – у нас и телевидение, и экология, – а вместе с тем и абсолютные невежды. За строчку не расчлененного на слова текста под годом 1002 (6510) готовы заплатить томами ученых записок, ан бессилен сам Лихачев!
Затем-то разные дела на память в книгу вносим.