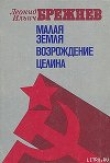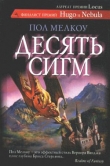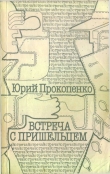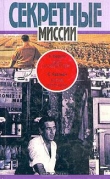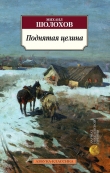Текст книги "Хлеб"
Автор книги: Юрий Черниченко
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
III
Начало июня, цветут травы. В Ставрополе – всесоюзный семинар: Минсельхоз Союза и ВАСХНИЛ подводят итоги сделанного наукой юга после «третьего звонка» 1969 года. В президиуме – Александр Иванович Бараев и Александра Алексеевна Зайцева из Целиноградского института, координатора борьбы с ветровой эрозией в стране. Целинным ученым недавно присуждена Ленинская премия – поддержка исключительная: никто из агрономов такой награды не получал. Собственно, и смысл семинара в том, чтобы столкнуть озимый клин с яровым в их подходе к защите почвы. Бараев весной семьдесят второго объездил несколько областей юга, написал острое письмо в Совмин Украины…
Заседания чинные, без сенсаций. Чуть ли не каждый выступающий поминает Докучаева, а заодно уж и Костычева, повторяет ленинское «берегите, храните, как зеницу ока, землю…» (хотя к эрозии тогда этот призыв вовсе не относился). Но идет негласный, обеим сторонам понятный счет: многолюдная наука юга дает отпор школе Бараева.
В целом принята тактика тертого председателя колхоза, которому нужно отвязаться от очередного «интересного начинания»: оно-то, конечно, и хорошо, и полезно, но – для вас, «а наши условия, шоб им лыха годына…» и т. д. Кубанский директор НИИ, уже положением Краснодара задающий тон, сам не приехал, прислал только тезисы, а в них туману, туману!
«Уточнено применительно к местным условиям значение отдельных элементов почвозащитной системы земледелия, разработанной для восточных районов страны…» Для восточных, уважаемые, для восточных, знайте свой шесток!
Впрочем, уже и до семинара первый раунд Бараев проиграл. Вы требуете ответственности? Так вот вам ответственный по штатному расписанию, с него и взыскуйте. Большинство НИИ и станций ввело особые секции, лаборатории по проблеме эрозии, обеспечив главным силам прежнее занятие внеземной агротехникой и агрохимией вне пыльных бурь. Иерархическая ступенька – новая, не известно куда ведущая, и кадры «на эрозию» направляются соответственные. Школе Бараева с ее почвозащитным стержнем, с ее оценкой любого работника по службе здоровью земли, с ее лозунгом-метафорой: «На корабле, где не вся команда, а один какой-то матрос думает о целости корпуса, плыть нельзя, потонешь», – методом штатного расписания преподан урок.
Я командирован освещать. Надо сделать телепередачу: дескать, агрономия юга творчески усвоила найденное на востоке и в дружественном соперничестве…
– Ну, как вам эта говорильня? – Бараев приглашает меня в свою машину, когда дело доходит до выезда в поля. Внешне он невозмутим, сверкает в улыбке золотом коронок – прямо преуспевающий профессор-медик. Потом, дома, в Шортандах, будет до света собирать сучья в лесополосах, чистить дорожки, пока давление не подправится, а «на войне – как на войне». Зато Александра Алексеевна Зайцева – недаром в молодости моталась в экспедициях с Вавиловым – режет с максимализмом:
– Бить надо, бить!
– Как, собственно, бить, Александра Алексеевна?
– Да пороть, как еще? Разложить и вкатить сотню горячих, чтоб месяц сесть не мог!
А если сдачи даст? Народ-то нещуплый. Бьют отстающих, а отставание может выявить только ход.
Успех Бараева обусловлен был многим. И личными факторами и общественными. А из Канады помогал Хорошилов, а в Целинограде нашлись такие организаторы, как Федор Моргун. А озонный дух мартовского Пленума, а народная обида, что с целиной ничего не выходит!
Почему агрономический юг в массе не поднимается на почвозащиту?
Отчасти, может, не видит, не сознает. Что ж, это человеческое свойство, Марксом отмеченное, – не видеть происходящего под носом и спустя срок дивиться, как оно так обернулось. Крымский сельхозинститут пригласил меня обсудить мою книгу. С лестной автору горячностью старшекурсники и преподаватели говорили, как это важно – писать про русскую пшеницу, защиту матери-земли, и все такое прочее. А за окном зала в тот апрельский день ветер разметал – яростно, до белых камушков! – поле иссушенной зяби. И никто словом не обмолвился: мол, и мы, братцы, горим. Только уборщица вошла и захлопнула форточки, чтоб на паркет не надувало пыли.
Но не видит, скорей всего, потому, что эрозия тут никого еще не оттесняла к краю, за которым – провал. Природа несравненно богаче целинной, набор культур оставляет уйму маневров: засекло озими – пересеешь подсолнечником, денег возьмешь больше раза в три. Потери натурального плодородия перекрываются удобрениями, поливом – интенсивность высокая. А поскольку все стоит на взыске «сверху» (вот и эти рассуждения – попытка спросить «сверху», как же иначе?), то предполагается начальный учет: ты получил такие-то жизненные силы природы, расписался – изволь передать по акту. Разговор о приеме-сдаче агрономом почвы уже вошел в стадию упоминаний в докладах (в разделе «надо бы», «хорошо бы»), но все остается пока колебанием воздуха, в залах переглядываются: как же, интересно, они мыслят себе это – мерные рейки ставить, что ли?
Память о «великом плане преобразования природы» по-прежнему служит признаком ортодоксальности, иногда полезно вздохнуть: досадили бы лесополосы, достроили бы пруды-водоемы – разве ж терпели бы такую страсть? Пруды-водоемы успели заилиться, лесополосы кое-где до макушек занесло, авторы диссертаций о гнездовой посадке дуба вошли в докторский, обычно пенсионный, возраст, а приятная печаль все греет: не досадили, всегда вот так…
Александр Иванович Бараев поддерживает прямых своих последователей: Продана из Запорожья, Щербака из Николаева… Естественно. Только есть закон: ученик опровергает учителя. Тут и сторона психологическая – копирование энергии не придает. Лишь чувство открытия, уверенность в первопроходстве могут годами держать в горении. Не копировщиком, а оппонентом, чуть ли не антиподом Докучаева считал себя Александр Алексеевич Измаильский, и не эта ли самостоятельная тропа сделала его спутником первого защитника черноземов? Иван Евлампиевич Щербак на своем сортоучастке в Новой Одессе возродил опробованный Измаильским «херсонский пар», сеет озимь в широких междурядьях еще не убранной кукурузы – и именно эту поправку к бараевской системе считает ключевой, «sine qua non». Да на самой целине… Найди сегодня в Кулунде, в омской степи, в Оренбуржье крупного агронома, который бы считал себя праведным последователем Бараева! Нет, все конечно же совсем другое, у каждого свой комплекс – хорошо, если не собственная система. И только десять лет наблюдений дают разглядеть, что все ветви, веточки, листья слагают одно дерево – и оно зеленеет.
Впрочем, «понять – значит простить». Слишком уж стараться понять, почему на юге с почвой происходит то, что происходит, – значит смириться с пыльными бурями.
Я могу представить, кто сейчас нужен для освещения. Непременно здешний, корнями из казачьего, таврического земледелия. Но с кругозором планеты, культурой века НТР. С известностью, иначе обличения его останутся воркотней районного чудака. К чинам-диссертациям искомому надлежит быть равнодушным, иначе видимая всем корысть обесценит глаголы. Требуется не флюсу подобный специалист, а в некоем роде пророк, философ, способный и «глаголом жечь», и увлекать примером. И пример тот должен быть материальным, чтоб можно было «пощупать». Да, это непременно – он должен уже сегодня показывать, что принесло сделанное им вчера!
Однако хватит патетики. За всю жизнь судьба свела меня с одним Бараевым, и то – не печать подняла его, а он поднимал пишущих до уровня делаемого им. Даже в шестьдесят шестом году «Сельская жизнь» вкатила мне по первое число за речь о бараевских парах – они, оказывается, канадские, на экспорт хлеба направленные, заведомо капиталистические, а я не раскусил, выказал «социальную неразборчивость».
Нет, не ходят, чая освещения, профессора Вихровы, крестьяне здоровой кровью и аристократы мыслью, с возвышенным строем души и презрением к грацианщине. Кадры подбираются, они выдвигаются, а пафос делается собкорами, пора бы и знать. За годы поездок мне выпало наблюдать и расспрашивать Лукьяненко и Пустовойта, знаю дорогу к Ремесло и Кириченко. Но великаны селекции – не лекари земли, использовать здесь их имена – спекуляция. Поля института Ремесло под Киевом порошит чернозем с делянок института Лукьяненко – теперь «имени Лукьяненко».
Я к одному: сыскать на юге профессора Вихрова в почвозащитном его варианте – задача просто веселая по неисполнимости своей.
…Везут нас, «семинаристов», на отроги Армавирского коридора, за Сенгилеевское водохранилище, где зимой шестьдесят девятого года пашню выдуло до хряща. Рельеф сильно пересечен – взлобья, скаты, овражки. Здесь применен целинный способ обработки: стали пахать плоскорезами, сеять стерневыми сеялками, и вот даже после такой зимы озимые уцелели. Для обзора выбран холм. Подготовленный колхозный агроном докладывает семинару, а мы снимаем синхронно (то есть изображение вместе со звуком) первый стоящий эпизод.
– Следствия, – раздается за спиной, – Лечат следствия, а не болезнь.
Будто негромко, но звукооператор зло оглядывается: попало на пленку.
– Устройство «с гор вода». Видите, вдоль склона и пашут, и сеют.
Разобрало же кого-то со своим мнением! Запись испорчена.
– А стерневая сеялка еще и бороздки оставила: катись, вода, в Сенгили. Высушим – тогда стерней прикроемся…
Помехи исходят от мужчины в почтенных годах, на отутюженном лацкане – блескучие лауреатские значки. Ревнива же южная натура! Снимаешь, так ты меня снимай.
Прошу о водворении порядка.
– Вы бы, Яков Иванович, подышали тут пылью… – не церемонится устроитель из ставропольских.
– Дышал! Когда вы еще проектировались – и в одиннадцатом, и в двадцать первом. Мы не называли тогда – эрозия, мы говорили – песчаная контрреволюция.
– Ну, хорошо, хорошо, выступите на заключительном.
Выступил. Полный титул его – директор Всероссийского института виноградарства и виноделия, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР. Потапенко Яков Иванович. Выступил без успеха… Все ждали уже оценочной речи вице-президента ВАСХНИЛ и продажи билетов на обратную дорогу. Разговор о морозе, влаге, о направлении обработки, о том, что водная и ветровая эрозия, дескать, не сестры, а мать и дочь, восприняли, кажется, тоже как укол Бараеву.
Я знал: усадьба этого института – под Новочеркасском, на буграх донского правобережья. Среди командированных, авточастников, разного курортного люда, валом валящего трассой Москва – Баку, притягательно место это придорожным рестораном «Сармат», где, во-первых, подаются донские вина да новые какие-то («Ермак», «Тихий Дон», «Букет Аксиньи», разве только Пантелей Прокофьевич Мелехов в ход не пошел), во-вторых же – кормят вас на кургане, где раскопан клад сарматской царицы. Эти-то домодельные этикетки (и сарматы изображены, и казак на бочке, и Ермак с сибирской короной, а еще почему-то корабль Тура Хейердала!), даже само название института – «Русский виноград» – и гасили интерес. Стоит моя родимая Массандра на тесаных камешках Удельного ведомства, хранит в винотеке херес 1775 года, гребет граблями «золото» на мировых конкурсах – и не тужит о бутафории.
…Со Ставрополья – на Дон. Все с той же необходимостью освещать. Ростовская область – шесть миллионов гектаров пашни, одной пшеницей занимают почти два миллиона, держава! Донской зональный НИИ испытал в Сальской степи плоскорезы. Стерневыми сеялками засевает чуть ли не двести тысяч гектаров. Значит – стронулось? Найти бы теперь хорошо говорящего и пригожего обличьем ученого, казака родом, – и, благословясь, крутить про ликвидацию пыльных бурь…
В основе же будет вранье. Уже сосчитано, опубликовано, оглашено: водная эрозия вредит области устойчивей и сильней, чем ветровая. Потери от стока приносят Дону ежегодный ущерб в сорок миллионов рублей, смыв почвы ежегодно убавляет донскую пашню на восемь тысяч гектаров, а потери от пыльных бурь только в критическую зиму шестьдесят девятого поднялись до тех сорока миллионов. Если тут регулярно гибнет пятая часть озимого клина, то гибнет в основном еще до черных бурь, от причин иных. Вранье всегда вылазит наружу – на листе ли, на пленке, в звукозаписи.
В опытном хозяйстве зонального НИИ мне показали и лункование, и щелевание, и что-то еще иное, обязанное задержать сток. Но газик, на котором обзирали, вдруг засел в глубоченном рву, пробуравленном талым потоком, и сразу прояснилось: плюет вода на эти щели-лунки.
Без охоты отправился я в «Русский виноград». Что ж, если негде искать, пойдешь хоть в институт табака и махорки.
Встретил меня не респектабельный лауреат, а страдающий кашлем, в больших годах человек: достал, понимаете, пневмонию, никак не погаснет.
Поняв, зачем я приехал, Яков Иванович пресек все уговоры домашних, собрался, поехали.
IV
– Смотрите так, будто вы издалека, ну, из Новой Зеландии, впервые видите эти места, – требует Яков Иванович.
Стараюсь. Вижу прямоугольные, просторные, гектаров под двести, поля, вижу всхолмья и балки справа и слева от трассы на Матвеев Курган (именно туда мы едем). Что же – широта, размах. Триумф крупного хозяйства с элементами преобразования природы, если иметь в виду лесополосы.
– Ну, поняли? Рельеф – волнистый. А разбивка полей? Плоскостная. Вот и раскол. Нет в натуре плоскостей, нет, любое поле с уклоном – хоть два градуса, а скат. Организация территории считает ландшафт ровным, насильничает. Покажите хоть клочок, где пахали бы поперек склона, удерживая воду! Всюду – вдоль, любая бороздка старается, чтобы и снегу, и ливню скорее в овраг. Насилие закреплено лесополосой. Кто б и захотел теперь пустить агрегат поперек – посадка не даст… Когда рота входит на мост, дают команду, чтоб не в ногу: «ать-два» разрушает мосты. А тут все в ногу, каждый проход трактора работает на сброс. Я и говорю – устройство «с гор вода»! Простое, безотказное, освобождает и от воды, и от земли.
Ах, вон он о чем… Ну да, обработка по горизонтам, есть такой прием, американец Хью Беннет о нем пишет. Они там, в Великих Равнинах, комбинировали уйму всякого… Яков Иванович продолжает:
– Поля нарезали заново в пору укрупнения колхозов, в начале пятидесятых. Ввели в пашню и склоновые земли, где колхозы овец пасли, роскошные клетки получились. Цель – простор для тракторов: длинные гоны дают высшую выработку. И вместо живых нивок получили полигоны для техники. Главное же – любое орудие стало соскабливать гумусный слой. Чем выше агротехника, тем сильней эрозия. Где нарезка ради гонов и прямоугольные лесополосы дали эффект? Да где воде течь некуда. В Приманычской впадине, допустим, в совхозе «Гигант». Но в природе идеальный плоский рельеф так же редок, как и горные пики…
Эх, Яков Иванович, каких только причин не находим для объяснения сельских хворей! Поднимаешь журнал десяти – двадцатилетней давности, так и смех и слезы: что только не винили! Теперь, значит, новый жупел достанем – организацию территории…
– Верно, как же без жупела, – вроде согласился Яков Иванович. – Вот мой отец – он на Ставрополье держал виноградник – решил перезаложить участок, померзли старые кусты. Вообще – какой самородный ампелограф был! По голому чубучку мог сорт определить, под старость состоял у нас в институте вроде как тайным советником, поражались все… Да, значит – новый сад. А я в те поры учился в Тимирязевке, комсомолист был – страх. Приезжаю помочь. «Как разбивать будете?» – «Как заведено – с горы до долу». Я ж уже подначитался, и к нему, как вы говорите, с жупелом: «С горы до долу – это в вас помещичья наука сидит. Классовый враг вас подучает, чтоб вода стекала, чтоб сносило землю». – «А как надо?» Я ему формулу: энергия пропорциональна массе и квадрату скорости. Чем круче склон, тем больше скорость потока. Больше выпало воды – выше будет разрушающая энергия, больше земли снесет. Хочется иметь виноград, так надо свести скорость тока к нулю, тогда и энергия пропадет. Моргает мой батько: «Ну, если не брешешь – разбивай сам». Разбил я поперек, валики поделали, связали сток. И что вы думаете – потянулась лоза! И зимует у моего Ивана Петровича хорошо, и родит богаче, чем у соседей. «Где ж ты раньше был? Прятали ж, паразиты, формулу от незаможного человека!»
Посмеялись. Я меж тем взглядом памяти бежал по виноградникам гордой моей Массандры и с холодком в душе убеждался, что все они посажены как раз «с горы до долу». Крутизна страшенная, трактор не поднимется, а шпалеры бегут с яйлы к морю – и в Алуште, и в Гурзуфе. Снос почвы, наверно, жуткий, в пору дождей море на полкилометра рыжее, на грунте одни камни остаются. Вечная жажда, такая нехватка воды – и в море ее, где ж у земляков глаза?
– А формулу эту, – в тоне дорожной байки продолжал хозяин, – я потом и Ивану Владимировичу Мичурину предъявлял. Меня он взял к себе в Козлов на отдел физиологии. Я уже, правда, москвичом заделался, в Наркомземе, потом в ВАСХНИЛе сидел, а тут такое предложение – решился. Николай Иванович Вавилов, наш президент, узнал – кивнул: правильно, вам же больше проку… Тоже закладываем виноградник – южный склон был у реки Лесной Воронеж. Настаиваю, чтоб только по горизонтали, – и формулу энергии! Иван Владимирович усмехается: «Ну, раз пропорционально массе – валяйте поперек». И стало правилом. Все десять лет, что я в Мичуринске работал, сажали только по контурам… Но вы вот что учтите: и у батьки моего, и у Ивана Владимировича был выбор. Я толкую одно, обычай говорит другое, а земля-то своя, решать хозяину. А у колхоза кто-нибудь спрашивал, когда кроили эти полигоны? Землеустроители спустили проект, МТС в натуру перенесла, лесомелиораторы полосками обнесли – баста. А думаете, не нашлось бы здравой головы, если б сами решали? Америка до тридцатых годов тоже все рубила по меридиану, одну знала нарезку – север-юг, а клюнул жареный петух, невзвидели солнца, сам сенат за голову схватился, и стали кроить не как хочется, а как можется. А вот где у наших преобразователей были глаза, когда с чужой свалки подобрали уже отброшенное и взяли за основу землеустройства, это уже не агрономам выяснять… Бараева Александра Ивановича один раз в Канаду послали, и он, зрячий человек, сразу углядел плоскорез. Но там-то прерии, равнина. По Штатам же сколько наших ездит, каким только штукам не дивятся, а слона – организацию территории – никак не приметят. Можно валить на пыльную бурю, но она же итог процесса! Ветру появляется пожива, когда пашня иссушена, измельчена. Первопричина – «с гор вода», отсюда и вымерзание озимей, и пересевы, все.
Хорошо, а в институтском их хозяйстве озимые померзли?
– С какой стати? Все убрали, все, помногу не берем, но из пятидесяти центнеров не выходим. И виноград не померз, хоть и на буграх сидим. Восемь тысяч гектаров лозы Дон потерял, мы – ни кустика. Да и не было его этой зимой, вымерзания, – досадливо махнул рукой мой лектор, – было вы-мо-раживание, гибель в холод от высыхания, так и называть надо. Влага ослабляет стужу, действует как водяное отопление. Ростовская область в год отправляет в овраги четыре миллиарда кубов воды – знаете, сколько нужно стараться зиме, чтобы заморозить такое море? А тут за нее постарались. Период идет влажный, что ни пятилетие – доза осадков вверх, а мы позволяем агрономам болтать: «Несмотря на неблагоприятные погодные условия…» А надо бы смотря, давайте оценивать себя по тому, как используются факторы жизни.
– Выпадать-то, Яков Иванович, оно может не тогда, когда нужно, важно ведь распределение по сезонам.
– Доверяйте глазам. Вон тополя при дороге. Желтеют, так?
Теряют лист. В середине июля! Что – жара, при чем жара, если неделю назад прошли ливни, каждый гектар получил по тысяче тонн воды? Многолетнику до осени должно бы питья хватить, он обязан тень давать, глаз радовать, а – выпрягается. Потому что воду из-под него выхватили. Кюветы, асфальт, трубы-мостики всю эту влагу – в Азов, ведь трасса – осушительное устройство. Там, где избыток воды, орошений не строят, верно? Почему же в засушливом климате все направлено на сброс воды – и трасса, и проселок, и лесополоса, любая деталь ландшафта? Ладно, у дерева век короткий, но река – она живет эпохи, она же должна подняться во влажный период? Давно не видели Миуса? Ну, тогда опоздали. Мир праху, кончился. Был в войну мощной водной преградой, а сейчас…
Крутой, величественный правый берег – его-то и брала с великой кровью наша морская пехота – говорил о древней силе течения.
Подъехали – мутная канава. Едва хватает хуторским утятам. Грязь, ил, пух… Это – Миус? Это по нему ходили галеры Петра, на эти берега переселяла Екатерина таврических греков? С этим сопоставлять грозные слова «Миус-фронт», какие я все слышал в сорок четвертом от солдат стоявшего у нас полка?
С судьбы реки начал и Николай Васильевич Тарасов, первый секретарь Матвеево-Курганского райкома, – вроде без повода с нашей стороны. Впрочем – как, ведь Яков Иванович в гостях, надо бы ушицу заделать…
– Скажете – сочиняет, теперь уже самому не верится, – горячо говорил секретарь, – но еще в пятьдесят шестом году за одну ночь вот этими руками пять мешков настоящего рыбца в Миусе наловил! Красная рыба водилась, сома в счет не брали… А теперь воробей без сапог перейдет. Вспомнят когда-нибудь секретаря – это, мол, Тарасов Миуску кончил, при нем накрылась. Ведь про проклятые клетки разговор не зайдет, их к делу не пришьешь…
Клетки, о которых шла речь, виднелись на стене за креслом секретаря. Это была схема землеустройства района. Прямоугольники полей в лесополосах тянулись с севера так казарменноровно, будто кто-то неукоснительный еще при живом Миусе, с ручьями и терном в балках, с крутыми выпасами и гнутыми пашнями, уже видел желанную ему плоскость.
– Не даю снимать, пусть всем глаза мозолит, – объяснил Тарасов. – Профессор Гаврилюк из Ростова в пятьдесят шестом проводил у нас в «России» почвенное картирование. Через пятнадцать лет вернулся, взял срезы на тех же полях – и приходит ко мне растерянный. Если б, говорит, людей и этих мест не знал, подумал бы, что не туда попал. По пятнадцать сантиметров почвы исчезло – во какой бульдозер отгрохали! И все же оно в Миусе, в Азове, – откуда ж тут рыбе быть? Нет, Яков Иванович, вы нас не оставляйте. Надеемся, верим и хоть медленно идем, но верно… На объекты с кем поедете?
Яков Иванович попросил послать с нами Манченко.
Главный агроном района Василий Иванович Манченко, селянского вида дядька, Якову Ивановичу обрадовался. Корреспонденту же… сказать бы ему то, что сам он хочет услышать, заправить бы поскорее обедом – и катил бы с богом. (Да-да, Василий Иванович, не отопретесь, виделось такое желание!) Дорогой в колхоз «Россия» выяснилось, что Манченко тут агрономом с самого сорок пятого года, всему свидетель… И, значит, участник?
В том, что почву смыло? Ну, конечно, разве ж без нас вода отсвятится. И поля нарезали, и лесополосы проложили. Последний десяток лет осенний сев стал пустым переводом семян: осенью спрячем в землю тысяч пятнадцать тонн лучшего зерна, а весной в пожарном порядке высеваем фураж. Обезвоженность! Замкнули круг: потеря плодородного слоя велит обрабатывать сильней и глубже, а усиленная обработка, с запрещенными приемами, доедает пахотный слой.
Значит, он сознательно применяет запрещенные приемы?
А как же, разве ж хуже других? Глыбу бьют, «чемоданы» проклятые сокрушают, вся мощь техники на это идет – растереть в порошок. Чтоб потом ветерком несло. Раньше только восточный ветер давал пыльную бурю, а теперь – откуда бы ни потянуло, лишь бы скорость метров в четырнадцать…
Ну, а как же с ответственностью агронома? В «России», рассказывают, почвовед своей карты не узнал?
– А мы ее Якову Ивановичу отвезли, ответственность. Пришли без шапок, положили ему под ноги: «Дохозяиновались, а теперь вы решайте».
– Не совсем так, – махнул рукой Потапенко. – Вместе одно искали, друг друга нашли.
– Нет, теперь вы наш атаман, с вас спрос…
Оставляем машину у украинской грани, за хутором Репяховатым. Манченко позвонил председателю «России», он нас ждет на высотке. Якову Ивановичу всходить тяжело, но идет – и не разрешает мне оглядываться. Смотреть только под ноги, а то все себе испорчу.
Близ вершины – следы окопов, немецких, наверное: вон рифленые банки противогазов. А осколков – гуще, чем камней. «Каких последов в этой почве нет…»
– Ну, теперь смотрите, – разрешает Яков Иванович.
Поля обвивали холм! Расширяясь или сужаясь, смотря по крутизне, они походили на годовые кольца невероятно здорового пня, в центре которого стояли мы. Не геометрия пластика. Одну из полос пахали – приятелем моим плоскорезом. Еще дальше женщины что-то делали с соломой – разносили вилами и зачем-то топтали.
Мне дали время понять и осмыслить.
– С водораздела начинать, с водораздела. – Потапенко был взбодрен этой картиной, его и кашель отпустил. – Овладей командными высотами, а контролируй себя внизу. Илларион Емельяныч, – это к председателю, – зачем пруды-водоемы?
– Чтоб караси водились! – весело ответил председатель.
– Молодец! А не для мелиораций, нет. Вор уже пограбил, пожег, его где-то поймали, что-то отняли – и хвалятся. Сгонять воду, потом назад качать – дурачья работа. У тебя, Василий Иваныч, на Петровой пристани долго пруд прожил? Глубоченная балка была, а за пять лет земли натащило – уже и гусь не поплывет. Вы ко мне в дождь приезжайте. Подгадайте под ливень – махнем в балки. Я хожу! Елена Ивановна плащи прячет, а все равно… Верите – не течет с пашни в пруд, полнится только родниками.
Конечно же я был уверен, что сразу схватил всю суть – то же ощущение было и осенью 1963-го, когда Бараев впервые провез меня по своим бригадам и показал плоскорезы, стерню, полосный пар. И, в подтверждение своего понимания, я, как всякий приезжий, счел нужным отметить минусы. Для тракториста при такой нарезке подъемы и спуски исчезнут, но зато «вправо-влево» только успевай поворачивать. Ведь снижается же выработка!
– Давала бы одна выработка хлеб – давно озолотились бы, – вступился привычный, видно, к посещениям Илларион Емельянович. – Конечно, рекордов тут не ставим, расценки пришлось изменить. Зато взяли хороший урожай ячменя. Главное же – овраг зарастать стал, уже рубцуется, значит – работают канавки.
– Валы и канавы, – поправил Яков Иванович, – Называй – водопоглощающие канавы с органическим заполнителем.
– Какие канавы, какой еще заполнитель?
– А вроде линий обороны. Пошли, увидите.
Первая траншея – ее я сперва принял за остаток военной – опоясывала самую вершинку холма, набита она была посеревшей соломой, пересохшей донизу. Но уже во второй, шедшей ниже по горизонтали, набивка оказалась влажной; в третьей, отделявшей край пашни, была на дне просто мокрой. Женщины, оказалось, и набивают свежую траншейку привезенной соломой. Ловушка для стока – понятно, но солома-то зачем?
– А чтоб зимой не промерзло, снег чтобы стаял – и сюда, – легко объяснил Илларион Емельянович.
Потапенко заговорил об Измаильском. «Как высохла наша степь» – спрашивает тот названием своей книги. Как высохла?
Да лишившись степного войлока! Растительные остатки в некосимой степи играли ту же роль, что лес в иных краях: сохраняли под собой влагу, были изоляцией от жары, почва под таким ковром меньше промерзала. Мы степной войлок полностью уничтожили, а функцию его возложили на искусственный лес. Но разве лесополосы заменят растительный ковер? Лесная подстилка под ними не образуется, почва глубоко промерзает и под деревьями, а если они еще посажены вдоль склона – толку вообще никакого. Никто не отказывается от лесомелиораций, но поручать древесным насаждениям можно только посильное. Бараев верно возродил в стерне одно из назначений степного войлока – прикрывать пашню от ветра. Но впустите влагу в почву весной, когда пахота еще мерзлая, а снег уже ревет в оврагах, откройте ворота воде! Не осталось природного былья – имитируйте его, набейте канаву соломой, навозом, стеблями, даже старой лозой. Дно канавы не промерзнет, что сюда попало – для эрозии пропало. Главная задача агронома на юге, по Измаильскому, – увести сток в землю. Мы ничего не открываем. Пахота перпендикулярно наклону местности, плужные борозды по горизонталям, кулисные пары – все Измаильский. Написано это и испытано им, когда в других странах, грубо сказать, и конь не валялся. Мы лишь приводим приемы Измаильского в соответствие с сегодняшними техническими параметрами – и разрушительными, и конструктивными.
Дорого, сказал все понявший экскурсант. Дорого, Яков Иванович. Вот почвозащитная система целины – она никаких трат, кроме как на орудия, не требует. А такое вот устройство – канавы, набивка, валы…
– И распылители стока у дорог, – добавил Манченко. – И еще топосъемка, проект работ требует точной съемки.
…Да, и съемка – это ж тянет на целую оросительную систему, только что на даровых осадках. А мелиорацию у нас берет на себя государство, вешать же на бюджет еще и эти линии укреплений…
– И лесополосы, – вставил Манченко. – Которые вдоль склонов, надо корчевать, а закладывать новые, по горизонталям.
Тем более!
– Никаких денег ни у кого «Россия» не просит, – посерьезнел Илларион Емельянович. – На гектар тут ушло по семьдесят рублей. Прибалтика вкладывает в гектар мелиораций тысячу казенных – и недорого! А семьдесят рублей за то, чтоб сберечь даровые пятьсот миллиметров осадков, – дорого?
– У меня опыты, головой отвечаю за точность, – сказал Манченко, – На участках с контурно-полосной организацией запас влаги на пятьдесят миллиметров больше, ячменя получили на семь центнеров выше, чем с контроля. Дело в два года окупилось. За эти два года контрольное поле потеряло пять сантиметров почвы – у меня там реперы стоят.
– Да, дорого, не возражайте, – прервал Яков Иванович, – Все денег стоит. Вот на километр трассы, по какой мы сюда и отсюда, потрачена тысяча рублей. Не на асфальт, нет, только на сброс воды – лотки, трубы, разный бетон. А сколько стоят двадцать семь миллионов тонн почвы, – ее правобережье Дона теряет каждый год, – это я не слыхал. Миллиарды кубов талой воды – тоже, наверно, денежка? Вот ты, Василий Иванович, главный агроном – отвечаешь за что-нибудь реально?
– А как же, – кивнул Манченко, – На мне сто сорок килограммов бумаг. Два шкафа папок и еще в столе. Переселялись – взвешивал.
Поехали смотреть размытые до обнажений камня-плитняка выпасы; рождения балок – и кончины их там, где контурной системой отключили водосбор; выходящие к Миусу потоки мелкозема, подмытые корни диких груш у овечьих пастбищ (все это потом я снимал, даже передавали по первой программе ЦТ). Манченко показывал место, где под наносами Миуса покоится танк: зимой сорок пятого трактористы ныряли к нему, снимая запчасти. Илларион Емельянович Лямцев открыл кое-что из хозяйства: прибыльный консервный цех позволяет финансам выдерживать эрозию. Женщина из тех, что были на соломе, говорила о смыве так: «Моя сваха оставила под дождем уголь на ночь – полмашины унесло. А что там пашня – зола!..»