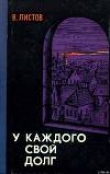Текст книги "Ради безопасности страны"
Автор книги: Юлиан Семенов
Соавторы: Вильям Козлов,Станислав Родионов,Борис Никольский,Павел Кренев,Юзеф Принцев
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
8
Итак, на чем строился расчет Антоневича, теперь было ясно. До Бернштейна следователю не дотянуться, Бернштейн теперь за рубежом, вне зоны досягаемости, и значит, всю вину можно переложить на него. Тем более что внешне такое предположение выглядело вполне логично и убедительно: человек, покинувший родину, и враждебная деятельность – одно смыкалось с другим.
И все-таки Серебряков убеждал себя не торопиться с выводами. Он знал, что нет ничего опаснее для следователя, как оказаться в плену предвзятости, в плену заранее выстроенной схемы. Не раз он убеждался в том, что в реальной жизни соответствующим действительности порой оказывается именно то, что поначалу представлялось наиболее, невероятным. Предвзятость, даже невольная, она сразу как бы сужает угол зрения, услужливо помогает не замечать, отбрасывать, считать несущественными те факты, которые противоречат твоей концепции.
Серебряков прочно хранил в своей памяти один давний, еще школьных времен, случай, который, несмотря на свою кажущуюся незначительность, впоследствии пусть подсознательно, но все-таки повлиял на выбор Серебряковым своей профессии. Тогда он был тринадцатилетним мальчишкой, семиклассником. И вот однажды из учительской пропал их классный журнал. Причем все подозрения падали на него, на Серебрякова. Все улики были против него. В тот день он заходил в учительскую, когда там никого не было, и его видели выходящим оттуда. Кроме того, по мнению завуча, у Серебрякова были все основания выкрасть журнал: как раз накануне математичка влепила ему двойку за то, что он пытался подсказать решение задачи своему соседу. И наконец, обрывок обложки журнала, клочок бумаги, в которую он был обернут, обнаружился под партой Серебрякова.
Серебрякова вызывали в учительскую, стыдили, уговаривали признаться. Но он молчал. От переживаний, от чувства творимой несправедливости он, казалось, и вовсе потерял голос. И вот именно это мучительное ощущение своего бессилия, невозможности доказать свою невиновность, ощущение безвыходности навсегда осталось в его душе. Потом в его жизни были, разумеется, события, куда более значительные и куда более драматичные, но ни одно из них он не переживал так глубоко, с такой остротой отчаяния, как то – школьное – происшествие. Неизвестно, чем бы закончилась тогда эта история, если бы не директор. Директор, Иван Христофорович, – фамилии его Серебряков, кажется, и не знал никогда, только имя-отчество – был человеком добрым и, судя по всему, проницательным. Он понял, почувствовал, поверил, что Серебряков журнала не брал, н е м о г взять. Сумел ли он переубедить завуча и математичку или те просто подчинились его директорской власти, его авторитету, только дело на том и закончилось без каких-либо последствий для Серебрякова. Подозрения с него были сняты. (Кстати, потом, много позже, обнаружился и истинный виновник пропажи журнала.) И хотя Серебряков обычно стеснялся высоких слов, про себя он считал, что именно Иван Христофорович вернул ему тогда веру в справедливость, в конечное ее торжество вопреки, казалось бы, очевидным фактам. Кто знает, может быть, этот случай стал переломным в жизни Серебрякова. По крайней мере, уже будучи взрослым человеком, работая следователем, Серебряков по-прежнему не забывал о нем.
...Оставшись один, Серебряков ходил по кабинету, надолго останавливался у окна, обдумывал план дальнейших действий.
Прежде всего – Бернштейн. Что он из себя представлял? Каковы были его убеждения? Мог ли он быть автором приписываемых ему материалов? На эти вопросы необходимо найти ответ. Бернштейн уехал, однако здесь наверняка остались люди, которые хорошо знали его. Значит, задача номер один – разыскать этих людей.
Второе. Костин. Школьный друг Антоневича. Почему Антоневич именно у него прятал портфель с рукописью? Надеялся, что Костин вне подозрений? Или видел в нем своего единомышленника?
Третье. Зоя Константиновна, жена Антоневича. Если верить Антоневичу-старшему, весь корень зла именно в ней, в этой женщине. Скорее всего, он преувеличивает. И все же... Этот немец из ФРГ, муж Зоиной подруги... Случайно ли его появление среди тех, кто в последнее время окружал Антоневича? Что это за фигура? Какова его роль? Серебряков уже дал задание навести справки об этом человеке. Что ж, теперь подождем ответа.
И наконец, четвертое. Экспертиза. Чем больше вглядывался Серебряков в страницы рукописи, изъятой у Гизеллы Штраус, тем определеннее приходил к убеждению, что все исправления, внесенные в текст шариковой авторучкой, сделаны Антоневичем. Он сравнивал почерк Антоневича и почерк, которым были исправлены опечатки, – сходство было несомненным. Однако предстояло выяснить, что скажет на этот счет почерковедческая экспертиза. Если заключение экспертизы совпадет с предположением Серебрякова, это может оказаться решающим доказательством того, что автором рукописи является Антоневич.
Что же еще? Еще – необходимо послушать сослуживцев Антоневича, сотрудников института. Что они скажут о своем бывшем товарище по работе? Как охарактеризуют?
Стоя у окна, Серебряков услышал, как приоткрылась дверь. Он обернулся – в кабинет заглядывал капитан Пахомов.
– Держи-ка, Юрий Петрович. Здесь имеется кое-что любопытное для тебя.
На бумажном листке была отпечатана сводка последних новостей, переданных зарубежными радиостанциями, вещающими на Советский Союз. Один абзац был отчеркнут красным карандашом:
«Как стало известно из достоверных источников, в Ленинграде органами КГБ арестован известный правозащитник, писатель, инженер одного из научно-исследовательских институтов Валерий Антоневич. Друзья арестованного рассказали, что Антоневич недавно завершил работу над книгой, в которой призвал Запад к более решительным действиям против коммунистической экспансии. Эта книга, как утверждают друзья Антоневича, является глубоким и оригинальным исследованием тех форм и методов борьбы против официальных властей за права человека, за подлинную демократию, которые могут быть использованы с наибольшим эффектом всеми, кто выступает против подавления свободы личности».
Серебряков усмехнулся и еще раз пробежал глазами всю сводку.
«...Завершил работу над книгой...» И ни слова, разумеется, ни о каком Бернштейне. Что это – медвежья услуга Антоневичу? Несогласованность действий? Или попытка таким образом, предав дело огласке, повлиять на следствие? Так или иначе, но Антоневич вряд ли поблагодарит тех, кто поторопился передать это сообщение, за их оперативность...
9
Отыскать людей, близко знавших Игоря Бернштейна и даже состоявших с ним в родственных отношениях, оказалось делом несложным. В городе, не говоря уже о сослуживцах, о прежних товарищах по школе и по институту, в котором некогда учился Бернштейн, проживали два его двоюродных брата, родная сестра и бывшая жена с дочерью-школьницей. И все они, кого бы ни допрашивал Серебряков, уверяли, что Игорь был человеком аполитичным.
– Вы знаете, – говорила сестра Бернштейна, волнуясь, комкая в руке носовой платок, – для него не существовало ничего, кроме науки, кроме его занятий. Он ведь историк по образованию, занимался историей древних государств...
С фотографии, которую сестра Бернштейна показала Серебрякову, на него смотрел близоруко щурящийся из-за очков, толстогубый, лысеющий мужчина.
– История была для него не только профессией, работой, но и страстью, смыслом всей его жизни. А в последнее время он, насколько я знаю, занимался тем, что выяснял соотношение мифов, легенд и исторических событий. Писал какую-то монографию, что ли. Работал очень много. Бывало, когда ни зайдешь к нему, он сидит за машинкой, стучит, как дятел...
– Он печатал сам? – спросил Серебряков.
– Да, всегда сам. Он любил говорить, что давно бы разорился, если бы платил машинисткам, если бы в свое время не выучился печатать на машинке...
– И хорошо он печатал?
– Я же говорю: почти как профессиональная машинистка. Я всегда удивлялась. Вообще он был очень усидчивым, трудолюбивым человеком. Если бы не это его решение... Понимаете, он вбил себе в голову, что там, в Израиле, сможет заниматься своими исследованиями гораздо успешнее, чем здесь. Я ему говорила: «Горик, ну что ты там потерял? Здесь ты обеспечен, у тебя есть работа, квартира, здесь у тебя есть близкие люди, которые помогут, на кого можно опереться в трудную минуту... А там? Кому ты там нужен?» Но он не хотел меня слушать, он считал, что я не могу судить о его делах. Считал, что он умнее всех. Зато посмотрите, что он теперь оттуда пишет! Это же не письма, это же сплошной вопль души! Он понимает теперь, что совершил ошибку, самую трагическую ошибку в своей жизни. Я представляю, как ему там живется. Он всегда был непрактичным, не приспособленным к жизни человеком. Это здесь-то, а там! В каждом письме он умоляет, буквально умоляет меня помочь ему: «Иди, плачь, проси, стой на коленях, только добейся, чтобы мне разрешили вернуться». Это он так пишет. А что я могу? Что я могу? Мне говорят: он сам виноват, он сам сделал свой выбор. И тут нечего возразить.
Серебряков выслушал ее, не перебивая. Потом спросил:
– Вам что-нибудь говорит такая фамилия – Антоневич? Валерий Антоневич?
– Антоневич... Антоневич... Ну-как же! Одноклассник Игоря! Иногда я встречала его у брата, хотя, мне кажется, они не были особенно дружны. Как-то Антоневич брал у Игоря машинку...
– Машинку? А он не сказал, зачем она ему понадобилась?
– Не знаю. Может быть, и говорил, но я не помню. Вообще-то Игорь очень ревниво относился к своей машинке, никому не разрешал на ней печатать, а тут дал. У него, знаете, было какое-то идеализированное отношение к одноклассникам, к школьному товариществу. Потому, наверно, и не смог отказать тогда Антоневичу...
– Значит, вы говорите, ваш брат печатал не хуже профессиональной машинистки. Ну а сколько, по-вашему, он мог сделать опечаток, допустим, на одной странице? Пять? Шесть? Десять?
– Ну что вы! Он из-за одной-то опечатки всегда переживал, страдал в буквальном смысле слова. И подчищал, и перепечатывал заново. Да вы сами можете взглянуть – сохранились копии его статей, глав из монографии...
– Понятно, – сказал Серебряков. – Тогда разрешите, эти ваши показания мы занесем в протокол. И вы подпишете их – договорились?
– Ну разумеется! Отчего же нет?!
10
По вызову в качестве свидетеля в Управление Комитета государственной безопасности гражданин Костин Виктор Алексеевич, врач-терапевт районной поликлиники, не явился и на повестку, направленную ему, никак не откликнулся. Однако на следующий день утром Серебрякову позвонила женщина, назвавшаяся женой Костина, и голосом, прерывающимся от волнения, сообщила, что ее муж исчез, уже вторые сутки не появляется дома. Она звонила на работу, но и там его нет и, как ей сказали, не было.
– Так... так... – задумчиво повторял Серебряков, уже прикидывая в уме, что бы могло значить это внезапное исчезновение Костина. – А прежде с ним случалось что-нибудь подобное?
– Нет, нет. Хотя, знаете, бывало... На охоту он уезжал или на рыбалку с приятелями, задерживался дольше, чем предполагал. Но чтобы вот так исчезнуть... Не сказав ни слова, не предупредив... Я просто ума не приложу, что могло случиться. Я уже и милицию, и скорую помощь обзвонила, и морги...
– Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, – сказал Серебряков. – Вот увидите, муж ваш отыщется, объявится живым и здоровым. Я уверен, с ним не произошло ничего страшного.
– Правда? Вы так думаете? – откликнулась она с надеждой.
Серебряков действительно верил в то, что говорил сейчас жене Костина. И все-таки... Все-таки было над чем задуматься. Если Костин и правда решил скрыться, что могло побудить его принять такое решение? Арест Антоневича? Полученная позавчера повестка? Страх? Значит, были у него основания бояться встречи со следователем? Или за эти два дня он надеялся замести какие-то следы, ликвидировать прямые доказательства своей связи с Антоневичем? И тогда естественно было бы предположить, что его, Костина, роль в этом деле была более значительной, чем это казалось Серебрякову до сих пор. Однако, если Костин сейчас действительно пытался уничтожить улики или, допустим, согласовать свои дальнейшие действия, свои показания с кем-то, кто был пока неизвестен Серебрякову, вряд ли в его планы входило привлекать к себе внимание. И конечно же он не мог не понимать, что, исчезнув внезапно из дома, не выйдя на работу, он подобным своим поведением достигнет совершенно обратного результата. Так что... Так что, вероятнее всего, следовало искать какие-то иные причины бегства Виктора Костина из дома. Но какие? Так или иначе, но следовало принять меры к его розыску.
...Когда старший лейтенант Заречный, оперативный работник Управления государственной безопасности, появился в кабинете главного врача поликлиники, в которой работал Костин, его появление, казалось, было встречено не столько с удивлением, сколько с радостью. Во всяком случае, главный врач, полная, с величественной осанкой и проседью в смолянисто-черных волосах женщина, говорила много и охотно, как человек, получивший наконец возможность разделить со своим собеседником груз собственных тревог и переживаний.
– Да, да, в последнее время Виктор Алексеевич вел себя как-то странно, это сразу бросалось в глаза. Был возбужден, взволнован, что-то тревожило его. Принимал успокаивающее – я сама видела начатую упаковку с таблетками на его столе. Я тогда спросила: «Виктор Алексеевич, что с вами? Что-нибудь случилось? Дома? В семье?» Я, знаете, не привыкла ходить вокруг да около, не такой у меня характер, предпочитаю всегда говорить в открытую, напрямую, откровенно. Он сначала замялся, вроде бы хотел уклониться от разговора, но потом сказал что-то не очень вразумительное про какого-то своего приятеля, которому будто бы грозят очень серьезные неприятности. Больше я ничего от него не добилась. И вот нате вам: позавчера не вышел на работу. Это при нашем-то дефиците врачей! Мы и так задыхаемся, можете себе представить, какая нагрузка...
– Ну а прежде, – осторожно перебил ее Заречный, – вы не замечали в его поведении ничего подобного?
– Нет, вроде бы нет, ничего такого не было, не припомню. Нормальный человек, спокойный, деликатный, я бы даже сказала, безотказный. Бывало, обратишься к нему насчет внеочередного дежурства или еще чего-нибудь в этом роде – никогда не откажет, не возразит. И пациенты им довольны, не жалуются.
Все то, что услышал Заречный от главврача, никак не объясняло исчезновения Костина. И прямо из поликлиники, поразмыслив и предварительно позвонив Серебрякову, Заречный поехал на квартиру к Костину.
Жил Костин в новом микрорайоне, в девятиэтажном доме, одиноко высящемся на краю огромного, еще не застроенного пустыря. Четыре старушки, сидевшие на скамейке возле парадной, проводили Заречного настороженно-любопытными взглядами. Казалось, натренированным своим чутьем они уже угадывали, что здесь, в их доме, что-то происходит, но не знали, что именно, и томились от этой неизвестности.
Дверь Заречному открыла жена Костина. Это была крупная, спортивного склада женщина, и тем более неожиданным казалось чисто ребячье выражение растерянности и испуга, застывшее сейчас у нее на лице.
– Простите за неожиданное вторжение, – сказал Заречный, – но я думаю, будет лучше, если мы попытаемся искать вашего мужа общими силами...
– Да, да, конечно, – торопливо проговорила Костина. – Пожалуйста, проходите. Только извините меня, ради бога, за беспорядок: за что ни возьмусь сегодня, все из рук валится...
Комната, в которой очутился Заречный, была обставлена с той стандартной безликостью или, точнее сказать, с той рекламной стерильностью, с какой обставляются квартиры в магазинах «торговля по образцам». Стенка, диван-кровать, покрытый клетчатым пледом, журнальный столик с несколькими небрежно брошенными журналами, два кресла, торшер... Вещи здесь, казалось, были лишены индивидуальности, они хранили молчание, они ничего не могли рассказать о своих хозяевах.
– Меня зовут Лидия Васильевна, – сказала Костина, – или просто Лида – так мне привычнее. Как-то на работе зовут меня к телефону: «Лидия Васильевна!» А я по сторонам оглядываюсь: кого, мол, это? На работе я для всех Лида. Иногда даже смешно становится: «Борька, Танька...», а этому Борьке или Таньке уже за сорок... Ой, простите, я что-то разболталась, это нервное... Я вас слушаю. Да что же мы стоим! Садитесь, пожалуйста.
– Лидия Васильевна, – начал Заречный, – я понимаю, вы сейчас взволнованы, вас сейчас занимает только одна мысль: где ваш муж, что с ним. Честно говоря, нас этот вопрос тоже занимает, и даже очень. Так что давайте попробуем помочь друг другу.
– Я готова, – отозвалась Лидия Васильевна. – Все, что от меня зависит...
– Скажите: как часто ваш муж встречался с Антоневичем? И вообще – какую, по-вашему, роль играл этот человек в жизни вашего мужа?
– Значит, вы считаете... это все-таки из-за него? Из-за Валеры?
– А вы считаете по-другому?
– Не-ет... Вы правы, конечно, я тоже так думаю. Витя после того, как узнал об аресте Антоневича, стал сам не свой. Но почему? Почему? Ну я понимаю: школьный приятель, переживает за него... Но не до такой же степени! У них же – я вам это точно могу сказать – никогда особой близости и не было. Ну заходил к нам Антоневич, верно. Но и заходил-то не так уж часто – бывало, по месяцам его не видели...
– А вы не допускаете, что ваш муж мог встречаться с ним где-либо в другом месте, не ставя вас об этом в известность? Что у него могли быть какие-то причины, заставлявшие его скрывать от вас свои отношения с Антоневичем?
– Нет. Не думаю. Вряд ли. Он не имел обыкновения что-либо скрывать от меня. Просто не умел. Так же, как и я от него.
– Ну хорошо. А вы не припомните, не передавал ли Антоневич вашему мужу на хранение каких-либо бумаг?
– Бумаг?
– Да. Ну, допустим, портфеля с бумагами? Или папки? Не приносил?
– Ах да. Помню, помню. Очень даже хорошо помню. Однажды – это было зимой – Валерий пришел к нам очень поздно, мы уже спать ложились. Меня, помню, даже рассердил тогда этот поздний его приход. Мне на другой день на работу чуть свет подниматься, а тут он заявился. Но раз уж пришел – не выгонишь, правда? Тем более что в тот вечер он был чем-то очень взволнован, взбудоражен. В ответ на наши расспросы сказал, что опять поссорился с женой, с Зоей. Нас это не удивило: они часто ссорились. Да и правильно вы говорите, у него в тот вечер был с собой портфель, старый портфель, набитый какими-то бумагами. Он спросил Витю, нельзя ли на время оставить этот портфель у нас...
– Вам не показалась эта просьба странной? Он объяснил ее чем-нибудь?
– Да. Он сказал что-то в том роде, что, мол, давно пробует свои силы в литературе, пытается писать, а Зоя весьма скептически относится к этим его литературным занятиям. И потому, мол, ему бы не хотелось, чтобы она прочла то, что он написал...
– И вам показалось убедительным такое объяснение?
– Да, вполне. Хотя...
– Что – хотя?
Лидия Васильевна пожала плечами:
– Не знаю... Но, понимаете, когда человек является вот так, на ночь глядя, весь встревоженный, чем-то обеспокоенный... Во всяком случае, теперь могу признаться, мне это не понравилось. Мне взгляд его не понравился, глаза. Но он ведь не со мной разговаривал, а с Витей. А Витя – он, знаете, человек мягкий, бесхарактерный... – Она быстро взглянула на Заречного, словно сожалея, что у нее вырвалось вдруг это слово. – То есть, может быть, не бесхарактерный, а безотказный – это точнее будет. Его уговорить ничего не стоит...
«Безотказный», – повторил про себя Заречный. Второй раз за сегодняшний день слышал он это определение применительно к Костину. Мысленно он как бы подчеркнул, словно бы обвел красным фломастером это слово. А вслух спросил:
– Ваш муж знал, что было в портфеле?
– Нет.
– И ни у него, ни у вас не возникло желания поинтересоваться, что там?
– Нет. В этом смысле мой Витя – человек строгих правил. Он считает, что проявлять любопытство к чужим письмам или рукописям, если тебя об этом не просили, по меньшей мере непорядочно. Да, честно говоря, мы скоро и забыли про этот портфель. Засунули его на антресоли – видели у нас антресоли в передней? – и забыли.
– Ну а потом?
– Потом? Это было уже совсем недавно, примерно месяц назад. Антоневич пришел и забрал свой портфель. Меня в тот момент дома не было, я в магазин уходила, а вернулась, мне Витя и говорит: забегал Антоневич, взял свое имущество. Я еще удивилась: чего это он так скоропалительно? Обычно он уж если заходил, то обязательно любил посидеть, порассуждать с Виктором на разные темы. А тут кофе даже не выпил, помчался...
Заречный слушал Лидию Васильевну внимательно, стараясь ничего не упустить. Он хорошо знал, что именно такие подробности, частности, вроде бы и не очень значительные, нередко оказываются весьма существенными для следствия. Именно они, эти частности, постепенно накапливаясь, вступая во взаимосвязь друг с другом, в один прекрасный момент вдруг обретают особый смысл и значимость, как в детской игре, когда из отдельных вроде бы бесформенных деталек, разноцветных и разнокалиберных, складывается, вырисовывается некая цельная, законченная картина. И все детальки, фрагменты этой мозаики, которые еще недавно могли показаться ненужными, лишними, даже мешающими достижению цели, занимают каждая свое место, выполняют каждая свою роль.
– А через несколько дней позвонил Григорий Иванович, отец Валерия, и сказал, что Валерий арестован. Это для нас с Витей было как гром с ясного неба. Хотя... опять же... когда теперь, что называется, задним числом, я начинаю все прокручивать заново, мне кажется, кое о чем уже тогда можно было догадаться. Эта его торопливость, встревоженность, нервозность... Да, я забыла сказать: когда он с портфелем своим приходил, в тот вечер он еще попросил Витю выписать ему рецепт на снотворное, жаловался, что спит плохо, бессонница, говорил, замучила. Витя еще пошутил тогда что-то по поводу его бессонницы, но снотворное выписал...
Лидия Васильевна вдруг оборвала себя на полуслове, замерла, прислушиваясь, бледность начала проступать на ее лице. И в наступившей тишине Заречный тоже ясно услышал звук ключа, поворачивающегося во входной двери.
– Это он! – сказала Лидия Васильевна, в волнении сжимая руки. – Слава богу, вернулся!
– Нет, вы только подумайте, Юрий Петрович, – не без изрядной доли возмущения говорил Заречный, сидя на другой день в кабинете Серебрякова, – вы только представьте себе: взрослый человек, мужчина, глава семьи, врач – и вдруг такой детский лепет! Хуже ребенка, честное слово! Поверите, он даже толком сам себе объяснить не мог, отчего скрылся из дома, не вышел на работу. «Так... боялся...» И все. Мы тут ломаем голову, строим всякие версии, а оказывается – «боялся»! И весь сказ. Чуть ли не под два метра ростом, а как школьник, как самый настоящий школьник, который, видите ли, боится идти домой оттого, что в дневнике у него красуется двойка!
– Ну и все же, где он был эти двое суток? – спросил Серебряков. – А?
– Проще простого. У приятеля на даче. Испугался повестки, навоображал бог знает что и отсиживался у приятеля. При этом, говорит, понимал всю глупость своего поведения, казнил себя за малодушие и бесхарактерность.
Серебряков кивнул. Конечно, эту версию еще следовало проверить, но скорее всего, Костин говорил правду – все так и было. Ему, Серебрякову, уже не раз приходилось сталкиваться с подобным проявлением инфантильности, граничащей с безответственностью.
– Я же говорю: хуже пятиклассника! – продолжал возмущаться Заречный. – И откуда такие люди берутся! Сорок один год ведь мужику, сорок один!..
Серебряков задумчиво рисовал на чистом листе бумаги квадратики, аккуратно заштриховывал их.
«Сорок один...» – повторил он про себя. Только сейчас он вдруг подумал о том, что и с Костиным, и с Антоневичем они почти ровесники. Они вполне могли учиться в одной школе, бегать по одним и тем же улицам, ходить на одни и те же вечера...
Войны Серебряков почти не помнил, но бомбовые воронки, сквозные провалы окон в полуразрушенных домах, хлебные карточки первых послевоенных лет – все это прочно осталось в мальчишеской памяти и не уходило, не исчезало до сих пор. Он помнил, как семилетним мальчонкой ездил вместе со старшими ребятами со своего двора купаться в огромной бомбовой воронке. Ездили они на трамвае, всего четыре остановки от дома, где жил тогда Серебряков. Вода в воронке была застойной, прогретой солнцем. Чем привлекала их к себе эта бомбовая воронка, чем притягивала? Почему не к прудам, не к озеру, а именно туда приезжали они в то время? Трудно сказать. Но тянула она к себе, тянула... Интересно, купался ли когда-нибудь Антоневич в бомбовых воронках, держал ли в руках хлебные карточки? И что бы он ответил, спроси вдруг его Серебряков об этом? Или бы лишь удивился, не понял бы, что за смысл вкладывает Серебряков в подобные вопросы. Пустая лирика, конечно, но все-таки любопытно...
– Любопытно... – повторил он вслух.
– Вы что-то сказали? – спросил Заречный.
– Да нет, ничего, – усмехнулся Серебряков. – Это я сам себе, своим мыслям отвечаю. А с Костиным что ж... С Костиным нам еще предстоит повидаться...