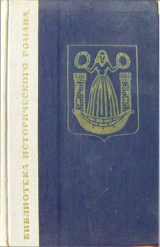
Текст книги "Сумерки"
Автор книги: Юлиан Опильский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
XV
В казематах перемышленского замка с давних пор были вырыты на случай осады огромные высокие и сухие подвалы, где долгое время мог, не портясь и не плесневея, храниться провиант. Однако мало кто знал, что под этими подвалами были ещё другие – тёмные, сырые, страшные. Вход туда шёл из начальной вежи, а ключи хранились у самого каштеляна. Толстые стены нижних подвалов были сложены из тёсаного камня, а может, и вытесаны прямо в скале. Тут не было ни окон, ни отдушин, ни один звук не проникал сюда извне. И поэтому никто не слышал ни стонов, ни криков о помощи, а порой и диких воплей истязаемых людей. Подземелья служили тюрьмою для преступников, ну, и… для личных недругов или даже противников каштеляна. Ключником здесь был Мацей Зверж[13]13
Зверж – зверь (польск.).
[Закрыть], мазур из-под Ряшева, и, пожалуй, никогда фамилия так метко не характеризовала нрав человека. Жил он в башне, а в верхней части подземелья был оборудован просторный застенок, где Зверж отдавался своему второму ремеслу заплечных дел мастера. Эти способности в нём открыл не кто иной, как Збигнев Олесницкий, и услугами Мацея долгие годы пользовался сам Ягайло. Однако впоследствии, желая убрать с глаз свидетеля многих государственных тайн, король велел поселиться Мацею на Руси и пожаловал ему солтыство. Но не по душе пришёлся ему спокойный труд. Он поспешил продать своё солтыство, а сам отправился в Перемышль, где вскоре столкнулся с серадским каштеляном. Они поняли друг друга с первых же слов. Каштелян нуждался в палаче, Мацей жаждал крови чьей-нибудь, лишь бы крови, как можно больше крови, стенаний, стонов, хруста костей, смрада горелого мяса. Перемышленский каштелян охотно принял Звержа по поручению Зарембы, тем более что Заремба был главным выполнителем королевской воли в Галиции.
В застенке у горна стояли большая железная жаровня и медный котёл какой-то необычной формы. Клещи, гвозди, верёвки, лестница с коловоротом, всевозможные непонятные орудия для пытки наполняли комнату, стены которой почернели от копоти, а пол от чёрных вонючих пятен запёкшейся крови. И хоть жутка и мрачна была эта комната, но Зверж только в ней чувствовал себя на месте, и только тут немного прояснялось его свирепое, дикое лицо.
В тот самый день, когда ватага боярина направилась лесом в далёкий Луцк, Зверж весело копался в своей мастерской. Зажёг смоляные факелы, развёл огонь, положил в него клещи, гвозди и наконец повесил над огнём казан, наполненный смолой. Едва лишь он управился с работой, как вошёл Заремба с мечом на боку и с другим под мышкой.
– Ты готов? – спросил он хмуро.
– К услугам вашей милости! – согнувшись в три погибели, сказал палач. – Будет и тёпленько и уютно. Хи-хи-хи! – захихикал он противным голосом, и его заросшее рыжими волосами лицо сморщилось и вдруг превратилось в звериную морду.
– Приведи этого вчерашнего! – приказал Заремба.
Палач вышел. Оставшись один, пан каштелян оглядел орудия пытки. По лицу блуждала злорадная улыбка, время от времени белые пальцы сжимались в кулак, он явно сердился.
Но вот зазвенели кандалы, послышались тяжёлые шаги за дверью, и вскоре на пороге зачернели силуэты людей.
Их было четверо. Впереди шёл боярин Микола, верней, то, что от него осталось: бледный-бледный призрак, обтянутый кожей скелет с тяжёлыми цепями на руках и ногах, с белой, как лунь, головой. Его с трудом то волокли, то подталкивали два подручных палача. Казалось, ещё в недавно таком могучем теле боярина не сохранилось ни капли силы. Её остатки собрались в глазах, в страшных глазах умирающего человека, где горит невероятная жажда жизни и где то вспыхивают, то гаснут её последние отблески.
Боярин окинул взглядом застенок и понял, что его ждёт. Но лишь брови его ещё больше сошлись над глазами, а взгляд остановился на Зарембе.
– Добрый вечер, достойный боярин! – с любезным видом приветствовал тот узника. – Не сердись, что тебя заковали, но ты уже однажды кидался на меня, чтобы не вздумал вторично…
– Врёшь, каштелян! – бросил резко боярин. – Не кидался я на тебя, а вырвал из рук неминуемой смерти и, взяв в плен, не бросал закованным в подземелье.
Каштелян побледнел, но сдержался.
– Тут ты и ошибся, боярин, – заметил он. улыбаясь, – потому я-то убежал, а ты отсюда уже никуда не убежишь, разве что ответишь по доброй воле на несколько вопросов и согласишься на мои условия, либо… – тут каштелян ткнул пальцем вверх, – либо вздумаешь отправиться туда.
– Вижу, что сделал худо, и всё-таки не жалею, что так поступил. Так хотел бог! – тут боярин опустил голову. – Может, моя принесённая в жертву жизнь искупит свободу моего народа. Может, и лежащее на нём проклятье падёт на твою голову, ибо неблагодарность лишь наименьшее твоё злодейство.
Заремба нахмурился.
– Смотри, раб! – крикнул он. – Я приказал вырвать тебе клещами все зубы, чтобы не кусал руку, которая тебя будет кормить. Вижу, что придётся ещё вырвать и язык, чтобы не богохульствовал и не врал.
Лицо боярина покрылось лёгким румянцем.
– Думаешь, собака, я не знаю, для чего всё это? – и он кивнул головой в сторону разложенных орудии пытки. – Знаю тебя и твоё племя. И запомни, что последнее слово, которое вымолвит мой язык, будет обращено к тебе.
– Какое же это слово, может, «прошу пощады»? – спросил глумливо каштелян.
– Нет! Подлец! И это говорит тебе человек, стоящий на пороге смерти. А такой человек говорит правду.
Каштелян, словно его пырнули шилом, подбежал к закованному боярину. Казалось, он выцарапает ему глаза, глаза, в которые не смел заглянуть. Но паи Заремба научился владеть своими страстями, да и честь не являлась его самым больным местом. С минуту он стоял, громко сопя, потом хрипло прорычал:
– Не дразни меня, боярин, у меня к тебе дело. Пусть хранит меня бог и его пшенайсвентейша матка[14]14
Пресвятая мать (польск.).
[Закрыть], чтоб тебя искалечить или убить. Я тоже служу своему народу и во имя народа спрашиваю…
– Ты служишь нескольким вельможам и королю! – холодно заметил боярин. – Народ не зарится на чужое и в чужую землю не суётся, разве если вы, шляхта, его заставите. Ты служишь шляхте, в душе которой угнездился дьявол, и служба твоя дьявольская, каштелян, и дьявол тебе за неё заплатит по заслугам. А теперь спрашивай! Мне самому любопытно послушать, что хотят от меня польские главари.
Каштелян опустился на скамью, один меч положил на колени, а в руки взял другой.
– Боярин, – начал он, – обдумай как следует, прежде чем дать ответ, и всеми святыми тебя заклинаю, соглашайся! Видишь этот меч?
– Вижу! – шёпотом ответил боярин, его ясный взгляд померк, и он отвернулся.
– Да! – продолжал Заремба, – это твой меч, ты узнал его. От твоего ответа зависит, получишь ли его назад или нет. Ты знаешь, что между нами идёт война, однако не ведаешь того, что ни король, ни великий князь её не хотели. Теперь руки чешутся у Свидригайла, но король по-прежнему и слышать о ней не желает. Тем не менее война разгорается, и разожгли её вы, Юрша, Несвижский, Рогатинский, Нос. И не вы одни. У вас есть сообщники среди галицкого, волынского и подольского боярства. У вас есть друзья в Киеве и в Орде. Назови мне их! Хотя бы трёх-четырёх. Тогда, может, война и погаснет, но кровь пролиться должна. Иначе Галицкая земля не успокоится. Пусть же эту кровь прольют одни лишь подстрекатели. Огонь восстания потухнет, а владетели договорятся. У нас найдутся средства обуздать Свидрика и задобрить Ягайла. Но вас, подстрекателей, следует наказать, и тогда восторжествует справедливость… Боярин, именем короля и сената обещаю тебе жизнь, свободу и всю Рогатинскую волость на вечную дедину по польскому указу, обещаю шляхетский герб, рыцарский пояс и рогатинское староство, коли послужишь верой и правдой королю. Получив от короля ратников, ты двинешься с ними, по велению его королевского величества на восток. Все наши гарнизоны тебя поддержат, а захватить и предать в руки отчизне всех изменников не будет трудно… Ведомо мне также, что ты, боярин, неохотно пачкаешь свои руки кровью беззащитных. Так знай, судьёй буду я, а палачом он.
И Заремба указал на улыбающегося Мацея Звержа.
– Мы поедем с воинами и не отяготим твоей совести грехами за кровь и смерть.
По мере того как Заремба говорил, лицо боярина менялось, из бледного становилось красным, потом малиновым, а налившиеся кровью глаза готовы были выскочить из орбит.
– Грехами за кровь и смерть… да! – с трудом вымолвил он. – Да, а измена…
– Измену твою оправдает милость его величества. Повиновение королю смывает позор с тебя и твоего будущего герба…
– Ах, не о той измене я говорю. Разве то измена! Но та, другая, страшная, подлая, змеиная измена… эх! Только в твоём мозгу, каштелян, могла вылупиться подобная мысль.
– В нашем отечестве нельзя оправдать измены – измены королю и Короне, – ответил каштелян. – Твой же поступок будет не изменой, а службой, а служить обязаны все.
– Ха-ха-ха! – захохотал вдруг Микола из Рудников. – Ха-ха-ха!
Он смеялся долго-долго. Всё его тело тряслось ог судорожного смеха, так что позвякивали цепи. Наконец боярин умолк, и какую-то минуту стояла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня и тяжёлым дыханием, вырывавшимся из сдавленной груди. Успокоившись, он заговорил тихим, ровным голосом:
– Меня не дивит, что у твоего короля и в твоей голове могла зародиться такая подлая, отвратительная мысль о нарушении верности. Ты не способен почувствовать змеиного яда собственных слов, потому что ты в душе подлец, хуже нехристя, хуже скотины, хуже волка, который пожирает и терзает, но не предаёт своих собратьев собакам. Я знаю, когда дело идёт о деньгах и наживе, шляхтич продаст всех и вся! Но я не шляхтич, и для меня закон любить отчизну и народ, которому принадлежишь, незыблемый закон. Никакие муки не выдавят из меня ни слова из всего того, что ты от меня потребовал. А когда выпотрошишь у меня внутренности, то не забудь заглянуть и в сердце. Ты увидишь, чем оно бьётся. Найдёшь в нём всё то, чего нет в сердце шляхтича, найдёшь и объяснение моему ответу. Или думаешь, поганец, я не понимаю всей важности нынешней минуты. Отлично понимаю и знаю, что сейчас решается судьба нашей жизни – либо её рассвет, либо сумерки на дол– гие-долгие столетия. Свобода или рабство, жизнь или смерть. И вот приходишь ты и, подобно нечистому демону, искушавшему спасителя, обещаешь мне золотые горы за вечное злополучие моего народа… Подумай об этом, Заремба, и ты поймёшь, до чего беден человеческий язык, чтобы назвать всю бездонную глубину твоей подлости, лицемерия и лжи.
Голос Миколы, по мере того как он говорил, креп, и последние его слова гремели громом под сводами подземелья. Лицо каштеляна покраснело, глаза загорелись, как угли, и, когда боярин умолк, Заремба встал со скамьи и кивнул палачам.
– Начинайте! Поглядим, не выдавим ли из эгой упрямой скотины что-нибудь больше, чем его кичливые речи и проклятья. Юзва, подтяни-ка его!
Юзва, огромный костистый детина в грязной вшивой сорочке и коротких кожаных штанах, скрутил назад скованные цепями руки пленника, привязал их к верёвке, перекинутой через неподвижный блок под потолком. И подтянул вверх так, что тог повис на полсажени над землёй. Однако несчастный недолго висел в воздухе. Изнурённое после ожесточённой сечи и обессилевшее от голода и побоев тело утратило сопротивляемость. Всё ниже и ниже опускалось оно и всё выше поднимались руки над головой. Потом что-то хрустнуло под мышками, плечи образовали с телом одну линию, а из уст боярина вырвался лёгкий стон. Коловорот крутился всё выше, пока одеревеневшие и посиневшие ладони не коснулись потолка. И тогда одним махом Юзва сбросил верёвку с блока, и боярин упал на землю. Изо рта и носа пытаемого потекла кровь; Мацей схватил лежащего сзади за кандалы и с трудом вправил руки в сочленения. Снопа захрустели суставы, но стонов уже не было слышно. Тогда другой подручный вылил на лежавшего ведро холодной воды.
Истязаемый раскрыл глаза. Невыносимая боль заставила его сморщиться, губы раздвинулись, показались окровавленные десна.
– Боярин, – послышался голос Зарембы. – Вот тебе первый урок, н знай, что тебя ждёт, если по-хорошему не выполнишь мою волю. Пока что тебе только выкручивали руки. Года два-три будешь вспоминать эту пытку при перемене погоды. Но всё-таки будешь жить, а там вернётся сила и здоровье… Дай ответ на всё, о чём спрашиваю, или прощайся навеки со светом. У тебя ведь малые дети, жена… Вспомни хоть про них!
– Мои сыновья… – прошептал боярин и закрыл глаза. – Мои дети, моя Гануся… – И вдруг сердце сжала тревога. Что будет с его детьми, когда его не станет? Мрачная, беспросветная нужда, мыканье от двора к двору, побои, презрение, а может, даже бесчестие – вот будущее его малолетних детей. И на какое-то мгновение дрогнуло сердце боярина, но лишь на мгновение. Что значит его мука, позор, его смерть и смерть близких по сравнению с порабощением и бесчестием миллионов. Кто спросит о причине, ради которой он пошёл на предательство? Да и разве это причина? Его собственное благополучие? Ха-ха-ха! И вспомнились ему слова покойного боярина Василя Юрши: «Жизнь человеческая для народа подобна деньгам или товару. На эти деньги нужно купить как можно больше или продать товар как можно дороже». Боярин раскрыл глаза.
– Я выполню присягу, – сказал он слабым голосом, – а ты кончай своё мерзкое дело. Всякому своя дорога, как человеку, так и подлецу!
– Ах ты, змея! – зашипел каштелян и пнул лежащего ногой. – Ещё кусаешься? На дыбу его!
Подручные сорвали с боярина одежду и посадили на лежащую лестницу. К одному концу привязали руки, от ног протянули верёвку к блоку. Юзва быстро завертел колесо, пока тело боярина не заняло такое же положение, как и раньше, под потолком. Но на этот раз суставы уже не хрустели, только боль страшная, неописуемая боль, рвала, словно раскалёнными клещами, все члены лежащего боярина. Потом Зверж схватил рукоять блока и рванул изо всей силы. Страшный крик вылетел из уст несчастного, но только один. Потом уже слышались тихие хриплые стоны. Тогда палач взял факел и приложил его к натянутому, как струна, телу. Смрад палёного мяса наполнил застенок, а из груди истязаемого вырывались уже не стоны, а какой-то клокочущий, прерывистый хриплый рёв. Зверж зачерпнул железным черпаком кипящей смолы и медленно стал лить на живот своей жертвы.
– Глаза, глаза! – вне себя завизжал, скрежеща зубами, Заремба.
И, покуда Зверж выжигал глаза, каштелян схватил раскалённые клещи и принялся щипать тело боярина.
Крик истязаемого становился всё громче, ему вторил хохот озверевшего каштеляна и его помощника.
Они не заметили, как Юзва незаметно вынул из-за пазухи длинный, острый и тонкий, как перо, итальянский стилет. И, когда оба палача повернулись за гвоздями, чтобы вбивать их в тело мученика, а другой помощник был занят раздуванием огня, Юзва снизу пронзил боярину сердце. Сделал он это с необычайной быстротой. В тот же миг стилет исчез за пазухой Юзвы, а сам он хладнокровно поднял остывшие клещи и поднёс к очагу.
Стоны истязаемого умолкли, и подбежавшие в тревоге палачи с разочарованием увидели, как его тело вытянулось ещё раз и бессильно повисло.
– Мои дети… Гануся… измена… господи! – прошептал боярин и умолк… навеки!
– Сдох, собака! – каштелян с досадой плюнул.
– Ха-ха-ха! – захохотал Зверж. – Слишком прытко за него взялись. С глазами надо было подождать. Столько смолы в мозгу – смерть.
Подручный собирал орудия пытки и снимал с огня казан со смолой. Юзва отвязывал с дыбы мертвеца.
– Похоронить? – спросил он.
– Хоронить? – каштелян был вне себя. – Чего ещё вздумал! Мало того что ничего не сказал и так быстро окочурился, а тут вдобавок его хорони. Может, ему ещё попа подавать? Никчёмный ты парень, Юзва! Тебе бы детей его преосвященства епископа нянчить, а не карать его врагов. Ха-ха-ха! Четвертовать эту падаль и развесить за львовскими воротами на четырёх столбах. А голову на кол.
Заремба вышел, за ним последовал Маней, потом другой подручный с мечом боярина, который Заремба оставил на скамье.
Труп боярина лежал на полу.
Долго глядел Юзва на истерзанное тело, потом стал на колени и помолился, а из его глаз скатились две чистые слезы и упали в чёрные, залитые смолой глазницы покойного.
XVI
После отъезда пани Офки и Марины Луцкий замок заметно опустел. Монотонно потекла жизнь среди мрачных стен. До обеда приходили мещане, купцы, бояре и селяне на суд воеводы, и площадь наполнялась разноязычным гомоном, пестрела чужими лицами и цветастыми одеждами. Андрийко, вооружившись пером, помогал воеводе: писал грамоты, приговоры, приказы. Такое времяпровождение не мало удивляло молодого Горностая. Он не понимал, как может знаменитый витязь орудовать пером и толково излагать то, над чем ломают себе головы грамотеи. После обеда Юрша либо отдыхал, либо уезжал в город, в ближайшие волости или во Владимир, Дубно, Белз; Андрийко тогда оставался один, а ворота замка наглухо запирались. И тогда на его бледном лице выступал румянец, глаза пылали лихорадочным огнём, руки искали занятий. Юноша становился совсем другим человеком. Учёный грамотей, красиво выписывающий печатные буквы и титлы, превращался в живого, подвижного, может, ещё до какой-то степени дикого юнца. С лошадей, которых он брался объезжать, хлопьями летела пена, а когда они начинали свою бешеную пляску, разбегались с криком ратники, повара, конюхи и женская прислуга, если кто-нибудь и отваживался выйти в это время на площадь. А иной раз Андрийко надевал полное вооружение и принимался с Горностаем за рыцарские игры. Горностай вскоре соскакивал с коня и, с трудом переводя дух, сплёвывал и говорил:
– У тебя, Юрша, должно быть, какой-то чёрт за пазухой сидит! Не успеет человек четырежды прочитать «Отче наш», а ты изморишь его так, как и в настоящей битве не бывает. Ей-богу! Хоть бы поскорей война, а то ещё прибьёшь меня мимоходом…
И в самом деле. Дикая энергия, скопившаяся у молодого богатыря, пробуждала в нём недюжинную врождённую силу и придавала его мускулам крепость и упругость стали. Во время поединка на деревянный щит Горностая сыпался град таких бешеных ударов, что уже через несколько минут на левой руке болтались одни щепки да ремешки. Порой молодые люди устраивали рыцарский турнир. Закованные в броню, они сшибались, стремясь тупыми копьями выбить друг друга из седла. При первой же стычке Андрийко ударил Горностая с такой силой, что опрокинул коня вместе с всадником. В дальнейших трёх – копья ломались о щиты, а при пятой – у коня Горностая лопнула подпруга – всадник отлетел шагов на шесть в песок, а конь зарылся мордой в землю. А молодой богатырь даже не качнулся в своём высоком рыцарском седле. Горностай же, прежде чем подняться, довольно долго слушал, как гудят у него в голове шмели.
Когда леса, поля, озёра и реки зароились разной птицей, Андрий каждую свободную минуту посвящал охоте. В высоких непромокаемых сапогах с луком и рогатиной бродил он по непроходимым диким чащам, по болотам, топям, лознякам и ольшаникам. С упорством продирался сквозь чащу, просекая себе дорогу ножом, среди переплетённых ветвей орешника, терновника, ивы, перескакивал при помощи ратища потоки, речки и возвращался поздно ночью усталый до потери сознания. Чувствовал весеннее бурление крови и Горностай, но величественный гимн проснувшейся природы действовал на него совсем иначе. Он отлёживался на печи или на солнышке, был зол на весь свет, ел за двоих и ночью томился от бессонницы. И вот, встретив однажды жену немца-парфюмера Геца Зуфлингера Грету, вдруг ожил и в тот же день отправился в город. Мастер Гец был хоть и сутуловат и седоват, но ему ничего не стоило поднять на плечо бочонок с мальвазийским вином весом в десять камней. Потому следовало очень и очень остерегаться, чтобы после сладостных объятий пухленькой Греты не попасть в медвежьи лапы Геца. Но поскольку любовь ломает стены и рвёт цепи, переплывает моря и перелетает пропасти, так и стройный, чернявый Горностай быстро отыскал дорожку в пахучую и тёплую постель Греты. И сколько раз парфюмер просидел в корчме, столько же раз услужливая горничная провожала Горностая по запылённым ступеням чёрного хода в душистую спаленку Греты, где красный бархатный балдахин прятал пышные, прикрытые лишь распущенными золотистыми волосами формы белого, пылающего страстью тела. Тут Горностай гасил жажду любви в ласках и нежности, которые выявляются в мужчине, полном сил и энергии… Андрийко же оставался один, наедине со своими желаниями, мечтами и воспоминаниями.
Ах, эти воспоминания! Перед распалённым воображением юноши во всех подробностях вставали его встречи с Офкой. Её многообещающий и лживый взгляд, роскошные формы тела, высокая грудь, гибкий стаи, округлые бёдра, точёные ножки, которыми он не раз любовался, когда они покоились на скамейке, – всё опьяняло душу, распаляло огонь бурных, доселе неведомых страстей и желаний. Тщетно вызывал он в своей памяти события, выявлявшие всю внутреннюю гниль, всю мерзость души шляхтенки. Тщетно! «На черта мне её душа, – отвечало воображение, – мне грезится лишь её ослепительная красота, запах её тела и неизведанная, полная неги прелесть её объятий». За эти объятия сильный, пылкий юноша в минуту слабости отдался бы любви целиком, забыл бы про семью, изменил бы отчизне… Хоть он и убеждал себя, что не сделает этого, если даже придётся сгореть в огне неудовлетворённой страсти. «Да, я знаю, – твердило воображение, – её тут нет, но мечтать о том, чего нет, не было и не будет, в моей власти!»
И парень мучил себя самого картинами прошлого, окрашивая их в другие краски. От Офки осталось только имя – символ неги, к которому стремилось всё его существо. Потом позабылось и это имя, и желание заслонило собой желаемое. Остались лишь тоска м беспокойство, он-то и гнали юношу в чащу, и вливали в его руки богатырскую силу, и побуждали ум к непрерывной деятельности.
Но вот из Чарторыйска прискакал бирич с вестью, что в конце июня в Луцк прибудет с литовскими и русскими князьями и вспомогательным татарским полком великий князь Свидригайло. Словно кто-то ткнул палкой в муравейник – так и в Луцке засуетилось всё живое. В волынские и ближайшие подольские округа помчались нарочные с велениями накосить как можно больше сена. От Луцка до самой Степани не осталось ни одной лесной прогалины, ни одного пригорка, где бы не прошлась коса селянина. Так же рьяно свозили в Луцк и Степань припасы. Над Владимирским предместьем день и ночь вились дымы. Это мясники коптили мясо и рыбу.
Но и на этом дело не кончилось. Как раз когда работа была в полном разгаре, на Владимирском тракте заиграли трубы и под большим стягом прибыл посол короля. Герольд возвестил луцкого каштеляна о прибытии пана Зарембы, серадского каштеляна, представителя и «alter ego»[15]15
«Второе я» (лат.).
[Закрыть] короля Владислава и потребовал разместить его в предназначенных для владетельных особ покоях, в коих он мог бы дождаться приезда великого князя.
Юрша поднялся с Андрием, Горностаем и биричем великого князя на стену и ответил, что замок не принадлежит королю и его покои отведены не ему или его послу, а его владетелю, великому князю Свидригайлу, и до его приезда и решения послу придётся подождать в ином месте. Негоже владетелю ради непрошеного гостя ночевать в челядне… Герольд заявил, что владетель Литвы и Руси король, а Свидригайло лишь его подданный. Потому пусть Юрша не очень задирает нос и впустит королевских ратников в ворота.
В ответ на это затрубил рог, сзывавший гарнизон на стены, и в тот же миг они покрылись вооружёнными людьми.
– Город Луцк открыт для посла его королевского величества! Весь расход на прокорм людей и лошадей за время его пребывания, согласно законам гостеприимства, его великокняжеская милость Свидригайло, владетель Литвы, Жмудии и русских земель, берёт на себя. Мой долг принимать послов, откуда бы они ни явились, но пускать чужеземцев в великокняжеский замок не велено.
– Его милость, князь Свидригайло, созвал послов в Луцк! – крикнул с досадой Заремба, которому надоело слушать пространное разглагольствование герольда.
Юрша вспыхнул:
– Простите, уважаемый пан. Я укажу вам дорогу в Луцк, и вы убедитесь, что Луцк и Луцкий замок не одно и то же. Боюсь, как бы у меня в последнюю минуту не зародилось сомнение, не ошиблись ли вы дорогой…
– Как это?
– А так! Вы едете к князю, тут бывали Несвижские, Чарторыйские, Носы, Капусты из Киева, Моннвидичи, Гедиголды из Литвы, но князя Свидригайла здесь не встречал. Есть, правда, великий князь с тем же именем, но едва ли это тот самый…
Заремба оглядел свою дружину. В ней было около ста двадцати конных ратников. Каштелян долго не раздумывал бы применить при удобном случае силу, н теперь он потянулся к мечу, схватился за рукоять и уже открыл было рот, чтобы, выкрикнув приказ, во весь опор проскакать через опущенный мост и ворваться в замок, «городовая рать, наверно, сейчас не так вооружена, как его дружинники», но в это мгновение заскрипели и забряцали жеравцы, и мост пополз вверх, закрывая собой только что открытые ворота.
– В город! – крикнул каштелян и повернул коня. За ним двинулись его ратники, а со стен им вслед понеслись выкрики и смех:
– Но, но! Мись, мись! Хось, хось! Цоб-цобе!
Оба Юрши хохотали до упаду, а старый Савва поглаживал свою седую бороду и довольно кряхтел. Перед замком опустело, все разошлись на обед. На стенах остались только дозорные. Савва велел удвоить стражу у ворот и зарядить обе бомбарды, стоявшие по обе стороны на высоких, оплетённых лозой насыпях.
Вдруг между строениями Подзамчья появилась маленькая долгогривая лошадёнка с усаженным репейниками хвосгом, с сухощавым всадником, который сидел на ней согнувшись в три погибели, словно странник у ворот монастыря. Заржавевшая рогатина и заляпанный грязью сагайдак болтались у него за плечами. Увидев Зарембу во главе дружины, он остановил лошадёнку, быстро потянулся рукой к сагайдаку, мгновенно выхватил лук и соскочил на землю. Животом прижал лук к земле и натянул тетиву, а в следующее мгновение в руке уже блеснула стрела. Казалось, вот-вот неумолимый посланец смерти вонзится в сердце шпиона, как вдруг ветер донёс до слуха лучника оклик:
– Грицько, Грицько! Стой!
Лучник обернулся.
На стене замка стоял Андрийко и размахивал руками, а тяжёлый разведённый мост со скрипом начал опускаться. Грицько помахал в знак приветствия шапкой, а когда оглянулся, Заремба уже скрылся за лавой всадников. Рука с луком опустилась, а другая, с немой угрозой поднялась в сторону отъезжающих. Постояв ещё с минуту, Грицько спустил тетиву и, ведя коня под уздцы, направился к замку.
Юрша и Андрийко, издалека узнав Грицька и увидев, как тот настораживает лук, очень испугались, что он убьёт посла. Воевода просто онемел, понимая страшные последствия того, если бы Зарембу убила вылетевшая из замка стрела… Кто бы поверил, что убит он по незнанию каким-то Грицьком. Спасибо, Андрийко остановил парня.
– Грицько, что с тобой? – крикнул Андрийко, бросаясь к своему бывшему слуге. – Как мог ты браться за лук и покушаться на посла?..
– Слава богу! – ответил мужик. – Простите, боярин, не посол это, а тайный подлаза, доносчик, лгун и убийца.
– Всё равно! – вмешался в разговор подошедший воевода, – он посол, и, вылети стрела из твоего лука, не сносить бы тебе головы… С каких пор мои люди стали убивать исподтишка?
Грицько поклонился воеводе в пояс.
– Прости, досточтимый воевода, но этот человек пролил столько крови невинных людей, и на душе у него столько подлостей и лжи, что смерть от стрелы для него милость.
– Не тебе поднимать на него руку, бог сам накажет подлеца! – ответил воевода.
– Ох, вам неведомы его чёрные дела. Я-то их знаю, и, по утру вставая и ложась на ночь, молю бога, чтобы он избрал орудием кары мою руку.
Воевода хмурил ещё брови, подыскивая соответствующие слова, чтобы осудить нарушителя закона о неприкосновенности посла и выбить из головы мужика его преступное намерение.
– Грицько! – сказал он после небольшой паузы. – Если ты убьёшь его, позор падёт на весь русский народ, на меня, на боярина Миколу, которому ты служишь. Тебя покарают смертью, а на нас ляжет несмываемое пятно, Люди будут передавать друг другу, напишут и летописи, и наши внуки прочитают: «Слуга боярина Миколы из Рудников подло убил посла перед Луцком, после того как воевода Юрша не пустил его в замок».
Грицько прикусил губы и склонил голову.
– Пусть так! – сказал он, понурившись. – Я не трону его, пока он здесь По горе ему потом. Как тень, буду я следовать за ним, и стрела не минет предателя. И нынешней пощадой, и будущей карой я обязан его посольскому званию, тебе, воевода, ну и… доброй памяти боярина.
Точно гром из ясного неба, поразили эти слова воеводу и его племянника.
– Памяти… боярина… Боярина Миколы? Человече, что ты выдумываешь?
Сановитый воевода подскочил к Грицьку и потряс его со страшной силой.
– Говори скорей, что случилось! – приказал он.
– Я сказал истинную правду, досточтимый воевода! Заремба схватил боярина и замучил его. Потом его полуобгоревшее, искалеченное тело четвертовали и развесили на четырёх столбах за львовскнми воротами Перемышля.
– Ты сам это видел?
– Да! Глаза выжжены смолой, тело истерзано клещами, суставы повыломаны…
Андрийко закрыл глаза руками и вдруг, как ребёнок, разрыдался. Воевода сжал пальцами горло, словно его что-то душило, лицо его посинело так же, как и в тот момент, когда он узнал об отступничестве Носа…
Долго-долго стояли они так, потом Юрша перевёл дух и перекрестился.
– Со святыми упокой, господи, душу усопшего раба твоего ижде несть болезни, печали… – молился он тихим старческим голосом. – Тяжко карает нас рука твоя, но неисповедимы пути премудрости твоея, да будет воля твоя не наша, а твоя… Яко твоё есть царство, и сила, и слава…
– Аминь! – закончил Грицько и, увидев, что Андрийко собирается уходить, взял его за рукав.
– Не плачь, боярин! – сказал он, и в голосе его прозвучало столько нежности и мягкости, которую никак нельзя было ожидать от простого селянина. – Не плачь! Покойный счастлив и блажен, а всё горе и груд ложатся на нас. Терпением и трудом помянем его. Не уходи, а послушай, что я расскажу. У меня очень много новостей.
Воевода повёл их в крыло замка, где раньше жила Офка, поскольку покои Юрнги были уже приготовлены к приезду великого князя. Подали мёд, поставили чары, ко ни Грицько, ни Андрий не пили. Только Юрша подкрепил себя чарой мёда, слушая рассказ прибывшего.
Долго длился рассказ Грицька о событиях, свидетелем которых он был, и обо всех догадках и сомнениях, мучивших его душу в минуты одиночества. Юрша и Андрийка молчали. Великий князь, видимо, заблуждался и вступил в борьбу не как народный вождь, а как дедич, помышляющий только о том, чтобы защитить свою волость от настырного соседа. На просторах Литвы и Украины, правда, сидело множество людей, кметов, коланников, рабов, путных бояр и разной челяди, но князей и бояр было мало. Не один перегон приходилось проехать, чтобы увидеть боярскую или княжью усадьбу. Нельзя было допустить и в мыслях, чтобы бояре, живущие за Днепром или у татарской границы, захотят и смогут прибыть на рать. Противостоять нахальной, голодной разбойничьей шляхте было по силам лишь волынскому, подольскому и литовскому боярству… Но и на Литву не приходилось особенно полагаться, потому что ещё никто не знал, пожелают ли литовские князья проливать кровь за великого князя, выкормыша украинских волостей. Оказавшееся между молотом и наковальней Галицкое боярство изо всех сил боролось с наплывом шляхты и панов, но часто, страха ради перед расплатой, занесённый меч боярина опускался, а сам он оставался дома. А в Польше расплодилось этой шляхты столько, что болотистая и песчаная чахлая почва уже не могла их прокормить. По большим городам, за столами у богатых панов тучами роились дармоеды-сорвиголовы без чести и совести, без гроша в кармане, которым нечего было терять, кроме как с мечом в руках, разбоем добывать себе добро, службу и положение. Саранчой налетят они на западные земли. И это будет не война, а налёт голодных мартовских волков. Таких может уничтожить только народ, а не боярство, не паны, князья и короли, только весь народ, начиная с коланников и кончая воеводой, от пастуха и до князя.








