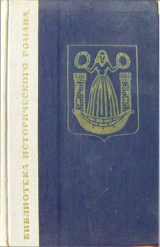
Текст книги "Сумерки"
Автор книги: Юлиан Опильский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Ужин подходил к концу. По литовско-русскому обычаю, князья садились за столы со всеми домочадцами и слугами, количество которых иногда доходило до нескольких сот человек. Литовские и украинские бояре и дворня вели себя благоразумно и сдержанно, зная наперёд, что князья после ужина уйдут в свои покои и тогда уж можно будет повеселиться вволю. Но, привыкшая к грубым шуткам всевозможных шпильманов[9]9
Гудочник (нем.).
[Закрыть] и бенгельзингеров[10]10
Певец, поющий озорные песни (нем.).
[Закрыть], немецкая челядь не могла усидеть на месте и от нечего делать заливала глотку до отказа. Вскоре среди ливонских и прусских кнехтов послышались хриплая ругань, выкрики, пьяный хохот. Тщетно пытался дворецкий их утихомирить, подливая свежего вина. Поначалу они грозились избить его и далее вылили ему на голову, под дружный смех, кружку мёду, потом кто-то сиплым голосом завёл известную песенку о девушке, которая приглашает молодого воина к себе на ночь.
Но вот поднялся великий князь, за ним князья Чарторыйские и патер Анзельмус. Невольно встали и все прочие, и наступивший шум заставил умолкнуть непрошеного певца. Патер Анзельмус прочёл краткую молитву, князья широко перекрестились и вышли, оставляя за столами бояр и челядь. Долго сдерживаемое желание выпить разгорелось во всю силу, как гомон среди учеников после ухода учителя.
А в другой части замка за стол уселись шесть мужей: Свидригайло, Анзельмус, двое князей и два крупных широкоплечих рыцаря. Один из них, уже с седыми, спадавшими до самых плеч волосами, был в богатом шёлковом, шитом золотыми крестами, длинном плаще. Другой, ещё молодой, русобородый, с убранными в сетку русыми кудрями в белом плаще е чёрными крестами держал между коленями длинный, широкий рыцарский меч в богатых ножнах.
Перед собравшимися, среди остатков ужина, стояли полные чары, а рядом несколько высоких серебряных сосудов с вином. Слуги отсутствовали. Князья сами наливали вино и следили за фитилями пяти масленых ламп, горевших в большом паникадиле. Все слушали старшего рыцаря. Говорил он неторопливо и с достоинством.
– Направляясь сюда, я думал отвратить тебя, дорогой мой брат Свидригайло, от войны со шляхтой. Подла она и труслива, без бога в сердце, без веры в душе. Потому в ней и гнездится жадность и алчность, а особенно неслыханная лживость и лукавство, от которых бледнеет и убегает в своё пекло сам сатана. Они ухитрились объединить Польшу с Литвой как раз в то время, когда римский цесарь обратил свои взоры на западные границы цесарства. Они, нарушив все договоры, использовали помощь всей Европы и святого отца в Риме, чтобы под прикрытием походов на татар поработить разъединённую усобицами Русь. Потом собрали силы Литвы и Руси, чтобы разбить нас… Но мало этого. Интригами и посулами шляхта подстрекает население наших земель против благочестивого рыцарства, и, видимо, не далёк тог час, когда светская власть и города выступят против Христовых слуг… У вас среди бояр тоже нет прежней великой любви, когда отдают душу за други своя. Они радеют больше о пожалованиях, княжьих милостях и деньгах. Не им и не нам, рыцарям ордена, принадлежит будущее, не у нас сила и значение и не в нас. Вот почему я не хотел советовать тебе вступать в войну, Свндригайло! Однако, едучи сюда, я видел толпы вооружённых людей, собравшихся у дорог приветствовать великого князя. Эх, кабы так приветствовали меня в прусских городах и сёлах! Крест немецкого рыцарства утвердился бы вскоре во всех землях от Балтики до Подляшъя. И тогда я подумал: «Слава богу! В руках у Свидригайла неисчерпаемое богатство народной силы. Тысячи и десятки тысяч, пусть неопытных копейников, могут залить паводком всю Польшу, и тогда, потрясённые разбушевавшейся народной стихией, опомнятся и члены нашего братства. В руках этих огромных полчищ судьба края. Благо тому, кто их возглавит, горе и погибель их врагам! Орден будет всеми силами помогать им и тебе, великий князь, их царю.
Только в конце речи великого магистра Свидригайло сообразил, к чему тот клонит, и беспокойно заёрзал на своём кресле. Поглядев вопросительно на патера, потом на князей, он, наверно, принял бы во внимание слова старого опытного магистра, если бы заспорили Чарторыйские. Но они, хорошо зная нрав великого князя, ни единым движением не выдали, до чего интересует их решение вопроса. На весах была их судьба, их будущее отношение к особе владетеля, но ни один, ни другой не моргнули даже глазом.
– Простите меня, благочестивый магистр, – заговорил Анзельмус. – Я бедный францисканец, и куда уж мне до ваших мудрых, просвещённых голов. Однако не раз приходилось слышать проповеди высокопоставленных духовных лиц, близко стоявших к коронованным особам. Как-то один из них рассказал мне притчу про быка, на которого напал лев. Перепуганное насмерть животное стремглав мчалось куда глаза глядят. И вдруг навстречу идёт козёл. Казалось, что стоит быку поднять на рога слабосильного козла. Но тот, хоть душа его ушла в пятки, всё-таки наставил свои рога с таким видом, будто собирался напасть на противника. И, о диво! Бык, ещё более перепугавшись, свернул в сторону и кинулся наутёк, поднимая переполох среди зверей. Ещё раз прошу извинить меня, достойный магистр, но мне сдаётся, что притча эта относится и к вам. Литовско-русский лев двадцать лет тому назад напугал прусского быка, и вот теперь он убегает от польского козла. Так-то!
– Правильно! – заметил Свидригайло, довольный тем, что может добавить что-то и от себя. – Ты позабыл, брат, что на этот раз литовско-русское боярство будет с тобой против шляхты, а не с шляхтой против тебя. Гибель врага неминуема!
– Да, конечно, – спокойно подтвердил Рудольф, – я убеждён, что, если даже рухнет мир, Свидригайло не изменит своим союзникам… Но мне также известно и то, что у нас дома найдутся и среди мещан, и среди светской знати, и среди мужиков, словом, всех тех, кому надоела власть духовного ордена, тысячи приспешников польского козла. Вот почему я хочу опереться на такого союзника, перед которым дрожал бы весь мир, на русский народ.
Свидригайло даже покраснел от удовольствия, услыхав, как расхваливает великий магистр его верность. Но вслед за тем ему показалось, что союзники не верят в его силу.
– Если вы полагаетесь на моё постоянство, то почему не хотите поверить в мою силу? – спросил он. – Разве не одна судьба ждёт меня и вас в случае поражения?
– Что ж, – заметил на это Рутенберг и улыбнулся, – разрешите и мне, ваша милость, рассказать притчу, а вы послушайте. Однажды муха, сидя на лысине епископа, с недоумением спросила, стоит ли его преосвященству столько раз хлопать себя по черепу, чтобы её убить. Епископ на это ответил: «Правда, мне больно, когда я хлопаю себя, но от этого я не умру. Однако если я задену тебя хоть раз, ты будешь раздавлена». Побеждённый Свидригайло всегда сможет обратиться за помощью к народу, и тот не выдаст его. А к кому обратится побеждённый орден?
– К кому? К Свидригайлу, – крикнул великий князь, ударяя себя ладонью в грудь. – Не такой уж он слабосильный, как вам представляется. Литовский статут отличается от вашего тем, что я имею право отобрать землю у непослушного, и ему не уйти от моей карающей десницы. Вот вам князья Чарторыйские! Они мои друзья и даже свояки. Тем не менее, ежели кто из них ослушается моего приказа, он мигом превратится из князя в безземельного бродягу. Или, может, не так?
Тут Свидригайло обернулся к князьям. Младший Олександр не вытерпел, и глумливая улыбка промелькнула на его лице, но Иван, кивая головой, с серьёзным видом подтвердил:
– Да, таков наш закон, но, говоря по правде, с давних пор его никто не применял, не было случая, чтобы кто-нибудь не подчинился бы воле великого князя. В этом законе, благочестивые магистры, залог силы и власти великого князя, даже без тех многих тысяч мужиков, о которых вы упоминали. Конечно, мы можем позвать с собой и те толпы, но они перестанут быть тогда зависимыми и превратятся в свободных кметов, путные же бояре и замковые слуги потребуют боярских пожалований, а там, того и гляди, кинутся на нас, прирождённых владетелей и хозяев земель. Неужто вы этого не понимаете? Я готов поклясться, что подобная мысль заставила великого князя свернуть от этих толп с дороги. У них, правда, есть лев! Он мигом может разорвать наших врагов – тоже правда! Однако ради чего нам ковать меч для своей шеи, да ещё собственной рукой?
Братья обменялись взглядами, великий князь ударил кулаком по столу, схватил большую чару вина и весело крикнул:
– Вот так, князь Иван высказал именно то, о чём я сам думал, только гораздо лучше. Дело известное, учёный человек, не то, что я, воин, охотник, ну и… скажем, пьяница! Ха-ха-ха! Выпьем же за добрый мир и верный союз, на погибель шляхте!
И одним духом осушил чару.
Князья и Рутенберг последовали его примеру, и только Русдорф о чём-то молча думал. Потом медленно, нехотя, потянулся за чарой. Патер Анзельмус тем временем снова наполнил их и в ожидании, пока выпьет магистр, неторопливо повёл речь:
– Не надо колебаться, illustrissime[11]11
Светлейший (лат.).
[Закрыть], заключая союз с самым могучим государем Востока! От вас он ничего ие потребует, кроме военной помощи, да и то не бесплатной. Времена тяжёлые, кто не с нами, тот против нас, тут нет места тому, кто ни рыба ни мясо. Вам, наверно, известно, как горбатый и косоглазый еврей не хотел платить дорожную пошлину, установленную рыцарем с головы. Горбуна вытащили из носилок и поставили перед господином. Тот и говорит: «За то, что едешь по моей дороге, с тебя полагается грош, но ты не желаешь его платить. Однако я вижу, что ты еврей, а это стоит ещё один грош; столько же платят мне калеки за несогласие, ты заплатишь третий грош, а за горб четвёртый. Потому плати четыре гроша, если тебе одного было мало! Плати либо возвращайся домой!»
Долго ещё под звон серебряных чар велись переговоры между магистром и великим князем. Только под утро союз был заключён, князь захмелел окончательно, а патер Анзельмус в своей маленькой комнате башни над браной, подобрав полы, приплясывал вокруг стола, на котором красовалась изрядная куча серебра, и потирал руки…
XIII
На другой день по той же самой дороге, по которой ехал в Чарторыйск Свидригайло, не спеша трусил на маленькой литовской лошадёнке Грицько. Тёплый юго-западный ветер принёс оттепель. Совсем ещё недавно покрытый белой изморозью лес сразу потемнел, порыжел, дорога за ночь раскисла, и копыта лошади глубоко погружались в снеговую кашицу. Сильный ветер дул прямо в лицо, время от времени моросил дождь. Худших условий для путешествия и не придумаешь, однако путник не обращал на ненастье никакого внимания, словно его ограждала какая-то невидимая стена. Согнувшись в три погибели в седле, он равнодушно сносил и дождь, и ветер, и холод. Болтающаяся на его плечах рогатина, туго перевязанный колчан с луком и стрелами, намокший кожух и разорванные штаны придавали малорослому парню вид лесовика – разбойника или коланника, убегающего от боярской нагайки в лес.
Измождённое лицо парня выражало не только телесную усталость. Сдвинутые брови и глубокие морщины у губ говорили о душевных страданиях. Всадник то и дело поднимался в седле и оглядывал размокшую дорогу. Временами горькая улыбка пробегала по его устам.
И в самом деле. Утром ещё он был у великого князя с письмом от боярина Миколы. Ждал вопросов, хотел рассказать о необычайных успехах восстания, о верности, воодушевлении народа, о самопожертвовании боярина, но ждал напрасно. Свидригайло прочитал письмо и тут же дал ответ:
– Скажи боярину, что я жду к маю службы с его земель в Чернобылье. А ежели не принесёт повинной, отдам земли другому, не такому, кто поднимает на бунт мужиков по сёлам и учит их грабить и убивать!
Грицько хотел было что-то сказать, оправдать мужиков и боярина, искал слов, чтобы объяснить это, как ему казалось, недоразумение, но великий князь крикнул:
– Молчи, смерд, и слушай! Хам рождён для плуга и цепа, а не для меча. Предоставь военное дело боярам, не то и ты со своим боярином ответишь перед строгим великокняжьим судом. Воюющий мужик – разбойник, а разбойниками украшают придорожные ёлки да загородные виселицы. Непокорным же боярам рубят головы… Помни это и убирайся!
Потемнело на душе у мужика, слова князя засели в голове гвоздём, тщетно старался Грицько найти в них хотя бы намёк на сочувствие освободительному движению народа. Напротив, в поведении Свидригайла сквозили лишь гнев, злоба и ненависть ко всему тому, что не исходило от его собственной особы. Князь не понимал народа, а мужик не мог понять князя. «Почему он не запретит народу бороться со шляхтой, если он против? – спрашивал Грицько самого себя. – Почему не остановит Несвижских, Юршей, Рогатинских?»
Ответы на вопросы Грицько не находил и не мог найти, будучи уверен, что князь всегда знает, почему отдаёт тот или иной приказ и всегда думает о благе всего народа. И никогда бы не поверил, что поступками и велениями великого князя управляли не ум, а упрямство либо простая случайность.
Спустя три дня Грицько встретил мужиков, которые ожидали прибытия Свидригайла, всё ещё не веря, что он уже проехал. Задержав юношу, они принялись расспрашивать: кто он, куда едет и зачем? Услыхав, что Грицько из Чарторыйска, тотчас обступили его.
– Когда же князья собираются в поход? – спрашивали они наперебой. – А где же Свидригайло?
– В Чарторыйске.
– Врёшь, такой-сякой сын!
– Не вру! Я к нему как раз и ездил.
– Ты? А от кого?
– От таких же самых дурней, как и ты.
– Ого, какой умный нашёлся! По морде его! Палкой по спине! – послышались голоса, и руки, вооружённые дубинами и рогатинами, поднялись над головой Грицька. А он, словно это вовсе его не касалось, равнодушно оглядел толпу, потом сплюнул сквозь зубы и поднял руку.
– Заткните-ка, прошу покорно, свои неумытые хайла! – крикнул он. – И не берите греха на душу. Неужто, думаете, я вру, говоря, что еду от великого князя?
– Клянёшься крестом и землёй?
– Крестом и землёй.
Толпа мигом утихла, и вперёд выступил вожак.
– Что же ты говорил великому князю? – спросил он.
– Как раз о том, что хотели сказать вы: мы-де ждём его, как пришествия Христа.
– И он что на это?
– Он: что смерд годен лишь для того, для чего сотворил его бог, а не для оружия. Поняли?
В толпе недовольно загалдели. Вскоре послышались голоса:
– А куда же нас князь отряжает?
– Известное дело куда – к цепу да вилам, к плугу да навозу! И правильно: всяк сверчок знай свой шесток, а назвался груздем – полезай в кузов!
– Правильно, правильно! – послышались голоса. – Коли такова его княжья воля, то мы…
– Ну да! – подхватил кто-то другой. – Я сразу сказал, что проку не будет.
– Что верно, то верно!
– Не тягайся с панами, не дотянешь – бьют, перетянешь– тоже бьют! – закончил Грицько.
В толпе засмеялись.
– Ты сказывал князю, что мы наготове? А откуда ты? – неуверенно спросил опешивший вожак.
– Я? Из Подолии, и говорил ему как раз о том, что хотели сказать ему вы. И на это он ответил как раз то, что я вам передал. Вот так-то!
Толпа молчала.
– Здорово! – сказал угрюмо вожак. – Видать, мы ему не нужны. А мы-то мечемся, как угорелые кошки…
Товарищи молчали и грустно кивали головой.
– Не нужны, не нужны! – отзывалась толпа. – Мыто думали…
Какое-то мгновение Грицько смотрел на мужиков.
– Не горюйте, братцы, – сказал он наконец, – хоть князю вы и не нужны, но в вас нуждается земля, наша общая мать! Вы её обрабатываете, поливаете своим потом, она ваша…
– Не наша, не наша! – раздались в ответ голоса мужиков. – Княжья, боярская, а не наша. Потому они и хотят защищать её сами, что она ихняя, а нас не допускают. Дело ясное!
И вдруг Грицько понял Свидригайла. Великий князь велел мужикам бросить оружие, потому что боялся, потому что сила, прогнавшая со своей земли врага, возьмёт эту землю себе. Коли так, то холопам нечего было ждать от князя поддержки. И смутно стало на душе Грицька…
Всего себя он отдал борьбе подневольного люда, против панщины, своеволия и гнёта, как мог сделать это только мужик. За былые свободы, за давние обычаи и права. Но до сих пор он не понимал, что такое поражение неминуемо бросает мужиков в руки бояр, панов, вельмож, князей и что людям высшего стану только на руку новый порядок, обеспечивающий новые пожалования… Только теперь он вспомнил Кердеевича и прочих галицийских перевертней, вспомнил о жалованных западным боярам польских гербах и грамотах, в которых король предоставлял им такие же привилеи, как и шляхтичам, этим палачам и угнетателям простого люда. О том немало рассказывали покойный Василь Юрша, боярин Микола, Андрийко, но Грицько в те времена как-то не очень к ним прислушивался. И только сейчас понял, что Свидригайло и его сторонники если и желают свободы и независимости, то лишь для себя. Народа же они боятся, потому что борьба идёт между польским и литовско-русским рыцарством, идёт лишь за мужицкую шкуру. И Грицька охватило отчаяние.
В небольшом селе над Стырем, отбывающем повинность выпасать княжьих лошадей, он остановился в усадьбе конюха и прожил у него несколько дней. Конюх, довольный тем, что может потолковать с бывалым человеком, полностью подтвердил опасения Грицька. Князья Чарторыйские, рассказывал он, заранее предостерегли своих подданных в чужие дела не соваться и посланцев западных громад не слушать. «Великий князь сам, дескать, накажет шляхту и отберёт земли Витовта у польской Короны». Потом конюх рассказал, что княжьи ратники повесили в четырёх милях от Луцка двоих мужиков из Деревища за то, что те бежали к повстанцам на Холмщину.
Услыхав об этом, Грицько решил ехать дальше, чтобы и с ним, чего доброго, не произошла такая же история. Каждую минуту на него могли наткнуться наперсники Чарторыйских и убить как подстрекателя, поднимающего якобы народ против шляхты, а на самом деле против бояр и князей.
Весна тем временем шагами великана ступала по скованной Волынской земле. За неделю раскисли все дороги, превратившись в реки грязи. На полях появились большие бурые пятна, а на лесных опушках, где снег уже растаял, начали пробиваться головки подснежников. Повсюду шумели мутные талые воды. Они наполняли все выемки, текли со всех сугробов, собирались в ручейки, потоки и спешили к Стырю. Река взбухла, широко разлилась, стала многоводной, точно Буг или Припять. Ехать дальше стало немыслимо.
А Грицько подъезжал к Деревищу. Село расположилось на высоком берегу реки. Тут проходил шлях из Луцка в Вильну и потому стояла большая корчма для путников и купеческих обозов, а главным образом для бояр и паков, направлявшихся из Волыни в Белоруссию и Литву или обратно. Содержал её знакомый Грицьку слуга князя Курцевича некий Трохим Прокопов, он зарабатывал своим господам немалые денежки, но не забывал и про себя. Не удивительно, что хозяева заботились о том, чтобы корчма выглядела пристойно и был необходимый запас еды и напитков. В одну сторону корчма вытянулась десятками комнат для гостей и узким коридором, а в другую – просторным залом со стойкой, столами, лавками и огромной печью в углу. Возы приезжие оставляли на большой площади перед корчмой, а лошадей отводили в длинную конюшню. Несколько сараев для купеческих товаров, для корма лошадей, припасов для людей и высокий дубовый частокол окружали этот двор с трёх сторон, четвёртая подходила к самой круче Стыря. У широких ворот стояли две будки со свирепыми бульдогами и сторожка, в которой жил вооружённый привратник.
Грицько рассчитывал прожить у знакомого трактирщика с неделю, а то и две, поскольку не очень спешил к боярину Миколе с ответом Свидригайла. Правда, по дороге он слыхал от мужиков, будто как раз в этот трактир направлялся какой-то большой княжий двор, но полагал, что для него местечко у Трохима всегда найдётся.
И в самом деле, подъезжая к воротам, он уже издали увидел на площади большое движение. Возы с кладью, десятки лошадей, гончие собаки, челядь, ратники, скоморохи – всё сгрудилось, стояло, бродило по раскисшей грязи, кричало, ругалось, шумело, хохотало. Привратник остановил Грицька словами:
– Не ходи туда, Грицько, не то и тебе ещё достанется. Несколько дней тому назад приехал сюда князь Нос, так они его чуть не убили, сидит теперь в яме. Трохим бегает как угорелый, и кто знает, выйдет ли цел и невредим из этой заварухи. Коли хочешь, оставайся у меня, а во двор не суйся.
– Что ж, послушаем мудрого совета, – согласился Грицько, искоса поглядывая на челядь, таскавшую с возов в кухню съестные припасы. Потом быстро привязал у сторожки коня, накрыл кожухом, насыпал в перемётную суму ячменя, а сам, чтобы стать похожим на челядинца, закатал рукава и сдвинул шапку на затылок.
– Ты куда? – спросил удивлённо привратник.
– Известное дело куда! Расспросить, разведать, повидаться с Трохимом.
– Не делай глупостей, Грицько, потом пожалеешь. Половина нашей челяди убежала в село переждать грозу.
– А какой такой чёрт приехал?
– Князь Сигизмунд Кейстутович.
– А!..
Точно молнии, засновали в голове хитрого Грицька мысли:
«Князь Сигизмунд Кейстутович посадил в яму князя Носа… Неужто по приказу Свидригайла?.. Нет, не может быть! Достаточно было дать князю наказ, зачем его было сажать? А может… может, Кейстутович задумал что-то недоброе. Даже малый ребёнок знает, что сыновья Кейстута не любят Ольгердовичей, а Свидригайло – Ольгердович… Тут дело нечистое!» – решил он наконец и, неторопливо переваливаясь с боку на бок, с ленивым видом зашагал в корчму. По дороге биричи, слуги, ратники то и дело толкали его, задевали чем попало, ругали за то, что загораживает им дорогу, обзывали увальнем, ротозеем и дурнем, но он не терял присутствия духа, упорно продвигался вперёд, пока не очутился в корчме за стойкой. Трохим едва успевал записывать гарнцы мёда и пива, которые выпивали ратники, бояре и служба, сидя за низкими столами. Рядом княжий казначей отсчитывал деньги из большого кожаного кошеля, – видимо, расплачивался с шинкарем, потому что, несмотря на явную усталость, глаза Трохима светились радостью. Маленькие свиные глазки корчмаря нет-нет и останавливались на пузатом кошеле, и сладкая улыбка блуждала на узких почерневших губах. Но вот Трохим увидел Грицька…
Ни на мгновение не теряясь, он равнодушно кивнул головой и велел подать из-за стойки связку колбас. Грицько лениво полез под стойку, над ним склонился и Трохим.
– Не эту, да не эту, другую! – командовал он и присел так, что их головы сблизились.
– Где князь Олександр? – спросил шёпотом Гридько.
– В подвале под корчмой. Бери его, и бегите! Кони у старого Якима Сала в Деревище.
– А за что его, за бунт?..
– Нет, за бабу! – кинул Трохим и поднялся. – Давай побыстрей! – крикнул он сердито. – Кости у тебя ломят, что ли? Ладно! Теперь беги на кухню, пусть тебя покормят!
И Трохим отвернулся к казначею.
Грицько лениво зашагал на кухню.
Значит, князю Олександру грозила опасность. Выкрасть его среди такого количества слуг Сигизмунда было нелегко, но Грицько, в качестве слуги корчмаря, мог это сделать без особого труда. Жбан мёду да чарка варева из зелёных головок мака, которые всегда держал про запас каждый знахарь, – а там хоть на волах приезжай за пленником. Не это его беспокоило. Грицько знал, что уловку с мёдом проделал бы Олександр и без его помощи. Видимо, князь сам не хотел убегать, поскольку ещё сидел в подвале. Потому Грицько и допытывался о причине его заточения, а услыхав, что замешана женщина, сразу же потерял всякую надежду. Женщина, видать, его зазноба, раз он пожертвовал ради неё свободой и даже отказался от борьбы с врагом, которая до сих пор была целью его жизни.
В просторной кухне вокруг огромной пылающей печи возились повара. Слуги вертели огромные вертела с тушами, в больших кадках месили тесто для хлеба, потрошили птицу, поросят и подсвинков, тут же собралось немало ратников, сокольничьих, писарей, биричей и отроков; они сидели на скамьях под окнами и пили пенистое пиво из стоящей в углу бочки. О том, чтобы её поставили, позаботился сам Трохим, желая привести слуг князя в хорошее настроение и вызвать к себе благосклонность. Несколько раз в день пустую бочку наполняли свежим пивом, поэтому слуги добросовестно докладывали, сколько было задано лошадям ячменя, овса, сена. На этом Трохим и зашибал в десятеро больше, чем стоило пиво… Благодаря пиву кухня стала сборищем всей княжеской дворни. Тут рассказывали о выходках своенравного и порой чудаковатого князя Сигизмунда и делались предположения о его затеях и намерениях, переговорах и каверзах, приправляя всё весёлой шуткой и остротами. Кухня то и дело сотрясалась от хохота.
Грицько уселся в углу у бочки. Повар подал ему большой кусок мяса, краюху хлеба, глиняную кружку, и Грицько принялся неторопливо за еду и пиво, а его маленькие чёрные глазки подмечали всё и всех, и от его пристального внимания не ускользало ни одно слово и ни один жест собравшихся.
– Ого-го! Что чудной наш князь, то чудной! – низким басом бубнил рослый, плечистый конюший. – Знаете, что было на рождество в Вильне?
Знавшие эту историю захохотали, другие же с любопытством повернулись к конюшему.
– Что же было? – спросил кто-то.
– Почти весь двор уехал тогда в Ошмяну, – заметил кое-кто из ратников и биричей, – только старший бирич Гнат оставался тогда с князем да ещё вы, потому мы и не знаем.
– Вам ведомо, что у нашего князя в предместье Антоколь есть дворец, а в нём особая служба… – начал конюший.
– О-о-о! Знаем, знаем! – закричали в один голос ратники, а кто-то добавил:
– Вроде как табун у жеребца! – и захохотал.
Конюший кивнул головой.
– Ну да! А ты, умная голова, не трещи, как куцехвостая сорока, о том, что все воробьи уже наизусть знают. Так вот: как раз прибыл посланец короля, некий Домарат из Виснича, низенький, белобрысый такой, с рыбьими глазами, и воняло от его волос тухлым яйцом. Мазал он их, видите ли, белком, чтобы кудри держались, а мыть-то не очень мыл, вот и завонялся.
– Тьфу! – сплюнул бирич Антон, родом из Прикарпатья. – Уж лучше масло, как у наших верховинцев, впрочем, и оно смердит, как зараза.
– Ну, подметил этот пан Домарат, как из окон замка выглядывали разные там женские мордочки, не идёт ли князь или кто другой…
Все засмеялись, зная, что князь Сигизмунд, утолив свою страсть, переставал ревновать и охотно сватал своих «подружек» за мелких литовских бояр. При этом происходили и различные пресмешные истории, вот все, жадные к пожалованиям и к боярской службе, слуги или путные бояре и вертелись около княжьего дворца.
– Точь-в-точь турецкий гарем! – заметил сотник.
– Ну да! – подтвердил конюший. – Как знал, так и звал. Приехал князь во дворец и перво-наперво к своим девушкам. Поглядел, покрутил носом и спрашивает, которая из них готова выйти замуж. Отозвались на это одна или две, а остальные от смеха просто давятся. Князь рассердился, прикрикнул на них, а они хохочут пуще прежнего. Потом рассказали, что пан Домарат пристаёт к одной чернявой татарочке, которую князь привёз года три тому назад откуда-то из-за Ворсклы. Князь в тот же миг посветлел, подморгнул раз-другой, ясно, обрадовался. Ну и ничего. Приходит вечером пан Домарат, стучит в окошко, татарочка ласково, мило ему улыбается, аж вспотел пан от внутреннего жара. «Иди, – говорит девушка, – к двери, впущу». А пан, боясь псов и слуг, ей в ответ: «У тебя, дивчина, наверно, на теле пояс невинности». Не долго думая, та подняла юбку и показала… тут уж пан удержаться не смог и к двери; открыла ему татарка, пошли они к её комнате. Вдруг татарка спохватилась, не заперла, дескать, за гостем дверь: «Заходи, говорит, сюда, а я пойду запру дверь и сейчас же вернусь, а ты пока раздевайся». Сказала и как сквозь землю провалилась. Входит пан Домарат, в комнате темно, идёт на ощупь. Тепло, в очаге тлеют угли. Наклонился пан Домарат, подкинул дров, раздул огонь, стал осматриваться и обомлел. У двери, свернувшись в клубочек, лежит не то кот, не то собака, пригляделся поближе, оказывается, Муха, медведица князя… Кинулся к порогу, но куда там. Муха на задние лапы, ревёт, загородила дорогу: а татарки нет как нет. Только наутро отворилась дверь, и князь со мной и Гнатом на порог, будто за Мухой. Поглядел князь на панка и диву даётся. «Стража, кричит, ловите вора!» Пан Домарат бух князю в ноги, а тот ещё больше осерчал. «Значит, ты, такой-сякой сын, содомским грехом задумал осквернить княжью палату? Ну, я тебя покараю, сначала исполосуем кнутом спину, потом отрежем то самое, чем соблазнил бедную лесную тварь, сиречь Муху, а потом уж сожжём на костре, такова кара за скотоложество!» Панок со страху хлоп в обморок, а когда вылили на него ушат ледяной воды, он, всхлипывая и роняя слёзы, стал оправдываться. Князь слушал, слушал, хмурился, а мы двое, ей-богу, чуть со смеху не полопались. Пан Домарат весь мокрый, перепуганный, дрожит и клянётся всеми святыми, что ни девушки, ни медведицы не трогал; князь грозно сдвинул брови, а мы, что волки на добычу, ощерились, наконец князь и говорит: «Какая разница, опоганил ли ты моё ложе или только клетку медведицы, ты обесчестил моё жилище и должен быть за это наказан. Но мне не охота ни убивать тебя, ни калечить, как требует того закон. Потому ты женишься на моей рабыне, которую отпущу на свободу, а этим двум свидетелям бей челом, чтобы обо всём молчали…» Ну, панок давай благодарить. Целует князю руки, ноги. Готов целовать куда угодно. Но дело этим не кончилось. Позвали татарку, а она в смех. «Что? Ваша княжеская милость желают, чтобы я пошла за такую скотину? Пусть женится на Мухе или хоть на самом чёрте, только не на мне. Моя постель не для такого облезлого и мокрого мерина». Тут князь как расхохочется, за ним мы и все девки, которые к этому времени сбежались. Точно весь Антоколь сошёл с ума. Заглушили даже колокольный звон. На рождество это было. Панка посадили на лошадь, скоморохи напялили на конскую морду личину козла, а сзади привязали коровий хвост. Хвост бьёт по ногам, конь на дыбы; мокрый, замёрзший всадник лязгает зубами, хватается за гриву, а скоморохи и уличные зеваки, что целыми днями толпятся на рождество по улицам, за ним с рёвом: «Ату его! Козёл на козле! Медвежий любовник!» И чего только ещё не кричали, а князь только за бока хватался. На другой день посланец как в воду канул. Убежал от стыда.
Долго не умолкал хохот среди слушателей. Грицько знал из рассказов о князе Сигизмунде, что он жесток и терпеть не может князей и больших панов. И хотя во всех тонкостях Грицько не очень разбирался, тем не менее он понял, о чём идёт речь, и внимательно прислушивался к дальнейшему разговору.








