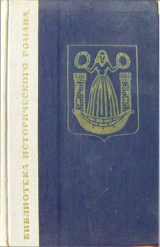
Текст книги "Сумерки"
Автор книги: Юлиан Опильский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– Не бойся, дитятко, – вмешался старый князь, – он не пойдёт в бой, он… полетит на крыльях туда, куда зовёт его честь. Правда?
– Да, ваша милость, вы сами сказали мне, чтоб Юрша не сворачивал никогда с однажды намеченной дороги, и потому. меня, ничто не остановит.
– Даже я? – спросила девочка тоненьким голоском и так искренне посмотрела юноше в глаза, что тот весь вспыхнул, а князь и боярин рассмеялись.
Однако юноша быстро опомнился и с улыбкой ответил:
– Ты, Мартуся… конечно!
– О, я не стану тебя останавливать, – заговорила девочка, а его глаза заблестели, – нет, но и не предам Змию… Когда добьёшься славы, сам вернёшься!
– Правильно, тогда и справим свадьбу на славу! – крикнул боярин.
Но князь нахмурился и снова задумался. Тем временем дворня, съев пшённую кашу, которой обычно заканчивался каждый обед, и, прочитав молитву, поклонилась князю и вышла. За ними последовали дети с нянькой Аграфеной и дворецким Петром. Старый князь, осенив их вслед крёстным знамением, заметил:
– Слишком поздно послал мне всевышний этого ребёнка. Шесть десятков мне уже давно стукнуло, а Мартусе всего четырнадцать. Старшему уже тридцать пять. Кто знает, может, и хорошо, что ты так наворожил, Микола?
– Коли по душе, то дай бог им счастья! – улыбаясь, сказал боярин, – а мне не худо знать о твоём решении, ведь я тоже еду на Волынь к старшему Юрше.
– Так вы же друзья! Потому-то я и хотел, чтобы ты, Микола, взял с собой этого ветрогона и берёг его по дороге. У него двое людей челяди, крепкие и головастые ребята, а всё-таки ему не ровня. Молодого же всегда наставить, а порой и наказать приходится!
– Добро, князь, я доставлю его до самого Луцка, но по дороге заеду в Каменец. Дело у меня к старосте Довгирду.
III
Редкие снежные хлопья медленно падали со свинцового неба на влажную, холодную землю. Время от времени порыв ветра крутил их в воздухе, уносил в сторону и целыми ворохами бросал на стены, окна и дверные пороги, засыпал печные трубы, загоняя в жилища едкий дым. Долетев до земли, хлопья таяли в глубокой грязи, на две четверти покрывавшей узкие и нечистые улицы и переулки города Вильны. Людей на улицах почти не было, лишь изредка встречался литовский крестьянин в лаптях, в смушковой шапке и широченном кожухе с берестяным сагайдаком за плечом и короткой рогатиной, либо с большой дубиной в руках. Изредка появлялся боярин верхом на лошади в длиннополой литовской кирее, либо проплывали носилки, в которых четверо слуг несли знатного мещанина. Только у великокняжеского замка краснели кафтаны да пестрели перья на шапках лучников короля Ягайла. Немало было и великокняжьих ратников в татарских шапках, длинных киреях и сторонников князя Свидригайла в лисьих шапках, коротких меховых куртках, высоких сапогах, с широкими саблями на боку. Однако людей в нарядной немецкой одежде не было нигде.
Вдоль дороги, что вела к замку, сиротливо стояли вкопанные в землю столбы. На них во время коронования великого князя Витовта королём Литвы и Руси должны были повесить знамёна и щиты с гербами. Перед замком стоял помост для именитых женщин, князей и достойников, но теперь вместо ковров его ступени покрывал мокрый снег.
Несколько рабочих-жмудинов сидели на нижних ступеньках и лениво обедали, извлекая еду из берестяных бураков. Возле них стояли, готовые к трудной дороге мелкорослые и долгогривые литовские лошади, так как коронация не могла состояться. Князь Витовт, провожая короля Ягайло в Вильно, упал так неудачно с лошади, что его чуть живым отнесли в замок. В преклонные годы такое падение – смерть! И в самом деле! Несмотря на то что к князю немедленно доставили итальянского медика и старого знахаря Гирвойла, ничто уже не могло удержать уходящей жизни. Лекарь Сильвио Рокко поставил пиявки, пустил кровь и дал князю шмелиный мёд, смешанный с пеплом сожжённой летучей мыши и медвежьим салом, а Гирвойло только бросил искоса взгляд на князя и тотчас обратился к Сигизмунду Кейстутовичу, который не отходил от постели умирающего брата.
– Извольте, ваша милость, удалить всех из покоя!
Сигизмунд подал знак, и все дворяне и даже жена Витовта, княгиня Юлиана, вышли вместе с итальянцем, который был рад-радёшенек как можно скорей снять с себя хоть на минуту тяжёлую и небезопасную ответственность за жизнь великого князя.
Когда все вышли, князь, указав своими маленькими, глубоко посаженными под низким лбом глазами в угол, где лежала, свернувшись в клубок, медведица, спросил:
– И она тоже?
Гирвойло покачал головой, потом подошёл к князю Витовту и склонился над ним. Когда он выпрямился, в руке у него блеснул драгоценный крест, который вот уже тридцать лет великий князь носил на шее. Крест этот Витовт получил в Мариенбурге от великого магистра, в нём хранился зуб св. Дионисия и две нити из нерукотворного хитона спасителя. Старый вайделот швырнул драгоценную реликвию в пепел очага и пристально уставился на Сигизмунда. Тот усмехнулся и молча расстегнул на груди свой долгополый таперт и рубаху. На загорелой волосатой груди висел замечательной работы золотой амулет, изображавший ужа и два дубовых листка, память о вайделотке Бируте, жене Кейстута, – символ рода Кейстутовичей.
Старый Гирвойло налил тем временем в миску молока и стал среди комнаты на колени. Потом трижды свистнул – и сразу же из-под кровати Витовта выползла большая, более двух локтей, змея. Её пасть была широко разинута, из углов текла белая слюна. Но это не были признаки голода. Движения змеи были ленивы и медленны, а когда вайделот, отбив ей три земных поклона, затянул вполголоса какую-то старинную песню, она подняла голову, но тут же бессильно её опустила и вытянулась длинной чёрной лентой на полу, точно мёртвая… Вайделот подсунул ей миску с молоком, но напрасно. Змея не захотела пить. Старик наклонился над, видимо, больной змеёй и встал с колен.
– Великое бедствие обрушилось на род Кейстута и слуг божьих. Пекола, вот уже пятьдесят лет в гневе своём душит Литву, мечет днесь стрелой Перкуна в великокняжий стол. Великая опасность грозит Кунигасу, а можно ли тому помочь, поглядим, коли позволят боги, от которых вы оба отреклись…
– Я… не отрёкся! – прошептал после минутного колебания Сигизмунд.
Молния сверкнула в глазах старого язычника; он помнил ещё идолов Перкуна над Вилией и приносил им в Понарских горах кровавые жертвы: немецких рыцарей.
– Коли так, будь уверен, князь, что поговоришь ещё с братом, пока уста его не сомкнулись навеки. Не теряй только времени, ибо его осталось в обрез, расспроси о самом важном. Погляди вот, на голове ужа-покровителя появился уже зелёный мох. Мох и плесень – та самая зазелень, что весной покрывает гробы тех, кто помер осенью!
Говоря это, старик извлёк из кисета какое-то зелье и бросил его на небольшую жаровню, в которую предварительно положил несколько пылающих углей. Синий, сладковатый дым наполнил комнату. Медведица вскочила на задние лапы, потом заметалась и заревела в смятении. Но её успокоило одно лишь движение руки князя Сигизмунда. Она села на пороге и, точно пьяный мужик, закивала головой то в одну, то в другую сторону. Уж тоже попытался уползти от этого дыма, да не было сил. По его телу дважды пробежала судорога, язычок высунулся, голова откинулась, и он застыл. Гирвойло покачал головой, пробормотал несколько непонятных заклятий к потёр рукой лоб.
– Кунигас не доживёт до вечера, – сказал он.
Подняв из пепла крест, он подошёл, поплёвывая в сторону, к Витовту, надел на него крест, потом вынул из-за пазухи маленькую глиняную бутылочку и вылил её содержимое больному в рот. И вдруг бледное лицо его ожило, запылало, как в горячке, а чёрные пятна у висков проступили ещё резче. Глаза раскрылись, из уст вырвались слова:
– Сигизмунд, ты здесь!
– Да, брат, я здесь, возле тебя! – ответил князь и подошёл к кровати.
Умирающий схватился рукой за его плечо и в полубреду спросил:
– Где он, этот злодей, этот разбойник, этот проклятый кровосмесник?
– Кто? Опомнись, брат, мы здесь одни со старым Гирвойлом и Мушкой! – успокаивал Витовта Сигизмунд отбрасывая ударом ноги околевшую змею в угол, чтобы широко раскрытые глаза умирающего не видели страшной ворожбы.
– Ты ещё спрашиваешь? – промолвил великий князь уже спокойнее, – кто же, как не Ягайло? Чувствую за плечами смерть, потому слушай! Всю жизнь я старался вредить и мстить ему, но мне не на кого было опереться и потому приходилось создавать себе имя и вес, пользуясь его милостью. Слишком долго верил я панам и князьям… Потому завещаю тебе отомстить убийце нашего отца Кейстута, мужа нашей матери Беруты. Тебе не придётся заискивать у больших господ. Двадцать – тридцать лет тому назад править землёй без князей было невозможно. Теперь война с Орденом и татарами сделала своё дело! Я упразднил большие княжества на Руси, якобы по совету Яга ила, но, конечно, рада собственной выгоды. Немало выдвинул я: и; мелких боярских чтобы на них опираться в борьбе за независимость великого князя Литвы, но всё же они меня покинули. Одни надеются на привилеи польской Короны, которыми она так щедро всех осыпает, другие рассчитывают получить от Свидригайла. высокие посты в самоправном русском княжестве. А ты, брат, не забывай, что Литва. без Руси – как тело без крови! Когда-то мы платили киевским князьям дань вениками, ибо ничего другого не имели. Не будь у нас Руси, ничего не имели бы и теперь, посылали бы веники в Мариенбург или в Москву. Потому лучше отомстить Ольгердовичам, разорвав любой ценой союз с ненасытной Короной, только не отдать Руси ни шляхте, ни татарам!
Умирающий говорил торопливо, запинаясь и глотая слова. Щёки его горели огнём, глаза стали водянистыми, руки беспрестанно сводила судорога, а со лба катился пот. Сигизмунд слушал внимательно, и взгляд его чёрных глаз то и дело встречался со стекленеющим взглядом Витовта. Потом в наступившем молчании ещё какое-то время было слышно свистящее дыхание, вырывавшееся из уст умирающего.
– Значит, – промолвил Сигизмунд после минутного молчания, – я должен продолжить твоё дело и короноваться твоей короной?
– Да! Прусские, литовские рыцари, сам римский цесарь, московиты и валахи поддержат великого князя Литвы в борьбе против польского короля. Литовец и русин могут быть добрыми соседями всегда и с каждым, но Корона никогда и ни с кем! Помни это! Я не забывал о том всю жизнь и шёл по пути, который вёл к разрыву с проклятой Кревской унией. И путь был не прост. Ты можешь идти прямо, коли найдёшь поддержку, я не мог.
– Ах, страшен был твой путь, княже, – вмешался вайделот. – Чтобы остановить рыцарей, ты задушил в народе веру отцов, и с того времени боги отвернулись от тебя. Вместо союзника ты обрёл коварного недруга, может, даже худшего, чем немецкие грабители, который убивает не только тело, а отравляет душу, оскверняет все наши святыни и превращает в лютых врагов литовского народа лучших его сыновей, князей и бояр. Многие князья из рода Гедимина крестились в русскую веру, боги, хоть невзлюбили их за это, но всё-таки их не прокляли. Православные сидели в княжьей раде, однако уважали нас и жили с литовским народом в мире и согласии. Кто слыхал когда-нибудь о сваре, вражде, драке? А нынче мы подобны тем, кто застрял в трясине. Одну когу вытянешь, другая увязнет глубже в католическое болото. Протянешь палец, они отхватят руку и к тому же заплюют, опоганят твои святыни, перетащат на свою сторону сильных, а слабых бросят в рабство. Ещё сто – двести лет, и ничего не останется от того, что некогда было Литвой!.. Страшен был твой путь, княже! Нас убивали не прусские и ливонские мечи, не татарские стрелы и не московские топоры, а убивала лесть! На твоём пути, княже, лежит истерзанная Жмудь, сожжённый Витебск и кровавая Ворскла, а боги прячутся в пущах Беловежья. Ты не дал Литве даже короны, а отнял у неё всё: богов, значение, силу, ту силу, которой было у неё так много, силу, которая одна на свете неподатлива… из могучего лесного зверя ты сделал… Мушку!..
Старик от собственных слов рассвирепел. Он стоял, как судья пред обвиняемым, указывая на огромную медведицу, которая спокойно сидела на пороге и сосала лапу.
Лицо Витовта не выражало ничего. Он не слышал всех упрёков вайделота. Выпитое лекарство постепенно теряло действие, и лицо его бледнело с каждой минутой. И всё-таки князь не терял сознания.
– Пустое говоришь, старик, – прохрипел он, – Христова вера должна была прийти в Литву, а с какой стороны, оттуда либо отсюда, не всё ли равно. Главное – избавиться от Ольгердовичей, а для этого нужна сила. Тут ты прав, – Литва – это Мушка, зверь, потерявший в неволе силу. Я искал эту силу у панов и людей высшего стану, а нашёл измену. Сигизмунд поищет её у малых, у путных бояр и людей низшего стану и найдёт среди них верных слуг. Там, где мои князья выставляли сотню всадников, повет даст ему тысячу…
Тут Витовт умолк и стал задыхаться. Глаза у него широко открылись, словно от испуга.
– Не у бояр, княже, а в народе… – начал было вайделот и умолк.
Витовт вскочил с постели, простёр к небу руки, изо рта хлынула фонтаном кровь… Он пошатнулся и упал на руки Сигизмунда, который опустил его на подушки.
– Ступай, старик, позови князя Семёна Гольшанского! – сказал он спокойно. Видно, смерть и завещание брата не очень его смутили. Гирвойло опрометью кинулся из комнаты.
Молва о болезни великого князя молнией облетела все литовско-русские земли.
Она волновала одних и обескураживала других, вливала в сердца надежду или тревогу в зависимости от того, рассчитывал ли кто от перемены на престоле на лучшее или опасался худшего. Князья радовались, поскольку Витовт боролся с их властью, стоящей на пути между народом и правителем. Стремился он вместе с тем и к разрыву с Польшей. И те, кому ещё до унии 1413 года были даны польские гербы и которые желали воспользоваться золотыми вольностями шляхты и неограниченной властью над подданными, громко кричали о том, что пришёл час выполнения кревских постановлений. Польские друзья подбадривали их, обещали золотые горы и пили за вечное братство с литовскими и подольскими магнатами. Одни ехали в Троки, чтобы помогать покровителю магнатов Свидригайлу, другие съезжались в Каменец, в Червень, Смотрич, Скалат, Летичек, Ядтушков, Трембовлю, Рогатин и советовались, рядились, посылали грамоты и сзывали воинов. Среднее боярство, когда-то собиравшееся на зов князей и представлявшее главную силу, теперь почему-то отступило от них. Оно ждало решения и хотело выяснить, кто возьмёт верх: засядут ли в Вильно шляхтичи с ренегатами-перевертнями, литовские паны или Свидригайло, а может, и какой наместник Ягайла. И с беспокойством следили за начавшимся движением среди русских селян, замковых слуг и путных бояр, большинство которых ждало от наследника Витовта возврата прежней свободы и упразднения рабства. Они знали, что этого можно добиться только в Литовско– Русском княжестве и чувствовали себя в силах постоять за такое государство жизнью и добром.
Боярин Микола из Рудников и Андрийко ехали через Хабны, Житомир, Чуднов, Меджибож и Смотрич. Уже в Хабнах они видели многих бояр из Овруча, которые собирались в корчмах. Тут же впервые услыхали о восстановлении Русского княжества, в связи с этим упоминали несколько имён: Михайла Юршу, Олександра Носа, Федько Несвижского, Богдана Рогатинского, говорили также много о князе Свидригайле, который с далёкой Северщины послал наказ собирать войско для борьбы со шляхтой.
«Идти или не идти?» – спрашивали себя бояре «низшего стану» и колебались. Князь Свидригайло был близок с князьями, а князья стремились подчинить мелкое боярство и свободных кметов. А Несвижский, Нос и Юрша скликали на борьбу за независимость весь народ.
«Куда идти?» – спрашивали себя отважные, бедные ратники, для которых проигранная война без оплаты за службу и без добычи была сплошным разором. Простодушные тщетно ломали головы. Однако, чем далее на юго-запад, тем отчётливей созревало в головах людей решение о необходимости всенародного восстания. На Подолию уже хлынула первая волна шляхтичей-переселенцев, и этого было достаточно, чтобы вселить в сердца православных злобу и возмущение. От села к селу ездили мелкие бояре, кметы и десятки людей, о которых никто ничего не знал, бояре ли они или мужики. Они собирали вооружённых мужей, советовали ковать в кузнях копья, топоры, косы, оковывать дубины, готовить стрелы. Здесь уже все открыто говорили, что Нос, Несвижский и Юрша – тысяцкие Свидригайла и что он придёт на помощь восставшим, как только они поднимут мятеж. Боярин из Рудников радовался проявлениям народной роли и силы и только диву давался, откуда они так быстро возникли, да расспрашивал об том Грицька, Андрийка и даже Кострубу. Андрийко не знал ничего, Грицько только посмеивался и потирал руки, а Коструба объяснял это тем, что покойный боярин Василь Юрша не только разговаривал на сходках, но и позаботился о том, чтобы осуществить свои замыслы.
В Смотриче они остановились в корчме, у каменецкого шляха. Шёл он по правому берегу реки Смотрич, и Каменец стоял на правом её берегу. В корчме за столом попивали из глиняных кувшинов кислое пиво лишь несколько мещан из предместья. В углу за отдельным столиком сидел какой-то бледнолицый молодой человек со взъерошенными волосами. На нём был короткий кафтан, расшитый шнурами, без рукавов, со множеством пуговиц. Широченные кармазинные рукава рубахи были стянуты на запястьях золотым галуном. На тощих кривых ногах красовались узкие штаны, правая половина в красных и синих полосах, а левая – отливала золотом. Через плечо шёл широкий ремень с нашитыми на нём бубенчиками величиной с волошский орех. Они позвякивали при малейшем движении.
«Ишь цаца какая!» – подумал Андрийко и захохотал, но боярин Микола толкнул его кулаком в бок и прошептал:
– Не смейся, парень, зачем обижать незнакомого тебе человека? Это рыцарь, у него золотые шпоры и рыцарский пояс. У немцев эта глупая французская мода уже проходит, а в Польше только начинается. Вот увидишь, не пройдёт и минуты, как этот чудак выкинет какую-нибудь штуку.
И в самом деле. Не успели они усесться и приняться за привезённые припасы, как рыцарь вышел из своего угла и, достав из-за спины тяжёлую рукавицу, подошёл мелкими шажками к столу.
– Я, Станислав из Секерна, Секерского герба Элита, полагаю, что имею дело со шляхтичем и пасованным рыцарем. Так ли это?
Говорил он тихим голосом, немного через нос и дважды во время своей речи уронил на пол свою железную рукавицу и дважды наклонялся под громкий звон бубенцов, чтобы её поднять.
Андрийко с трудом сдерживал смех, и даже вытаращил глаза. Прикусил губы и боярин, однако, будучи знаком с рыцарским обычаем, он даже не улыбнулся, а с важным видом ответил:
– Нет, я не польский шляхтич и не немецкий рыцарь, однако мне известно, что мои рудницкие слуги едят сытнее и спят мягче, чем ваши западные заморыши. Я боярин с прадедины, дедины и отчины и привык опоясывать своим поясом тех, кто не послушен. А кто намеревается опоясать меня, пусть сначала исповедуется.
Шляхтич, видимо, не понял слов боярина, а может быть, их и не слыхал, потому что уронил свою рукавицу в третий раз. Андрийко не выдержал и заржал, точно жеребчик на лугу. В тот же самый миг с треском распахнулись двери, и в комнату вошли два вооружённых воина в длинных шубах и каптурах, надетых поверх стальных шлемов.
Рыцарь поднял тем временем свою злосчастную рукавицу и грозно уставился на Андрийка,
– Коли так, то извольте знать, что панна Офка Зарембьянка, дочь серадского каштеляна, самая красивая и добродетельная дама на свете, и если вы этого не признаёте, то вам придётся любезно назначить час и выбрать оружие, которым я постараюсь вас в том убедить.
Боярин Микола хладнокровно сунул в рот огромный кусок колбасы, съел его, запил пивом и спросил:
– И это всё?
– Да, все.
– Тогда доброй ночи, пан Станислав.
– Значит, вы не верите в красоту и добродетель панны Офки?
– Напротив, верю! Что она красива, я знаю, поскольку свела с ума вон того боярина, который сейчас вошёл в комнату, Грицька Кердеевича, коли вам такой известен, мужа вашей Офки. Что она добродетельна, тоже верю, поглядев на её здорового, красивого супруга и на ваши тонкие, подбитые ветром ноги. И не сомневаюсь, что такие заморыши вряд ли потревожат чью-либо целомудренность, не говоря уж о том, что эти бубенцы поднимут на ноги не то что отца или мужа., но и мёртвого из гроба.
Пан Станислав покраснел как рак и схватился было за рукоятку меча, висевшего у него на боку. Однако боярин Микола, засучив рукав правой руки, сунул под нос задире огромный, тугой, точно железный, кулак, который мог бы спокойно раздробить одним ударом пятерых панов Станиславов.
– Понюхайте-ка, пан, вот эту штуку, не колбасу, а кулак. И оставьте подобру-поздорову меня и моего свояка, не то либо нам, либо вам придётся покинуть корчму. А нас тут больше!.. И не сердитесь, у нас достаточно своих женщин, а за чужих мы драться не станем, тем паче, что ни мы их, ни они нас в глаза не видели!
Шляхтич огляделся по сторонам и, убедившись, что никто не обратил внимание на его стычку с боярином, вежливо ответил:
– Простите, пан, но я не знал, что у вас на Руси ещё дарит такое невежество и люди не знают и не ценят рыцарских обычаев.
– Знать, может, знают, – возмущённо вмешался Андрийко, – но предпочитают колбасу бубенцам!
Разговор с минуты на минуту мог перерасти в ссору– замечание Андрия задело шляхтича за живое. Но в это время оба мужа, сняв шубы, подошли к столу, и этого было достаточно, чтобы пан Станислав немедленно удалился в свой угол.
– Здравствуй, Микола! – заговорил по-польски один из них, высокий смуглый мужчина лет сорока, в кольчуге и островерхом шлеме, с широченной саблей на боку. В его голосе звучала надменность, чувство какого-то превосходства и нечто вроде снисходительной ласки. Другой, чуть постарше первого, только; протянул боярину руку и улыбкой ответил на поклон Андрийки. Он был тоже в кольчуге, в шлеме и полком боевом вооружении. На левом боку висел длинный меч, на правом у пояса – трёхгранный кинжал – мизерикордия, который служил для добивания раненых. Лицо его выражало усталость и какое-то отупение.
– Здравствуйте, панове! – ответил боярин. – Его милость пан Бучадский не отходит, как вижу, от бедного Грицька ни на шаг…
Лицо младшего шляхтича нахмурилось.
– Что твоя милость под этим подразумевает? – спросил он резко. – Пан Кердеевич не нуждается в опеке ии новых, ни старых друзей!
– Кто знает, так ли это? – усмехнувшись, промолвил боярин. – Пожалуй, сгодился бы ему другой сват…
– Не говори, Микола, глупостей! – крикнул Бучадский. – Ещё неизвестно, соизволит ли пан староста их слушать!
– Не бойся, пан Михале, Грицько и не такие побасёнки слушал… ну и дослушался.
Кердеевич покраснел и поднял на боярина полные муки глаза.
– Оставь, Микола, что с воза упало, то пропало! Вся штука в том, чтобы на развалинах старого уряда воздвигнуть новый.
– Польский!..
– Нет, русский! Только не наперекор промыслу господню! То, что случилось, была его воля. Не сумели наши исконные князья сберечь свои волости. Значит, нужно посадить новых. После договора в Креве и Городне король наш господин… пан…
Боярин Микола вспыхнул, глаза гневно сверкнули. А Кердеевич, низко опустив голову, умолк, словно понял всю мерзость своих слов и стал похож на провинившегося мальчишку, которого поймали с поличным. Бучадский внимательно следил за их разговором, чтобы в любой момент стать на защиту Кердеевича, и беспрестанно вертелся на стуле, оглядываясь на слуг, которые должны были подать ужин.
Впрочем, боярин из Рудников успокоился. Он понял, что его бывший друг не отвечает уже за свои поступки. Жена Кердеевича, Офка, будучи лет на двадцать пять моложе, всецело овладела душой мужа и высосала из него все живые соки. Против её слёз и наущений давнишний сподвижник Свидригайла не мог уже выстоять. Боярин Микола знал, что Грицько Кердеевич подписал контракт, по которому дети от этого брака должны креститься по католическому обряду, а всё добро после смерти переходит к жене. По усталому, пренебрежительному взгляду друга он понял, что опьянение пожилого мужчины молодой шляхтянкой уже прошло. Теперь благородство души преобладает над желанием покоя и счастья, и вот погиб боярин для себя и для родины.
«Ах! Сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт!» – подумал боярин Микола, махнул рукой и заговорил о бунтах холопов на Подолии и Киевщине.
И как раз в эту минуту слуги внесли миску гороху с капустой, жареного гуся, литовских колдунов и несколько бутылок вина. Одновременно вошёл и хозяин постоялого двора с торбой на плече, в длиннополом, опушённом хорьковым мехом кафтане. Сняв с головы шапку, шлык которой спадал до самого затылка, он бросил несколько слов Михаилу Бучадскому, указывая на угол, где сидел увешанный бубенцами рыцарь. Пап Михаило изменился в лице и вскочил.
– Прошу прощения, у меня дело к тому пану! – сказал он и быстро направился в угол к шляхтичу, который, видимо, услыхав фамилию Бучадский, послал к нему корчмаря. И они, жестикулируя, затараторили так быстро, что даже Андрийко, следивший за каждым их жестом, не смог до конца уловить смысл их беседы. Боярин из Рудников положил руку на плечо Кердеевича. Тот поднял на него свой печальный взгляд, и они долго молча смотрели друг другу в глаза. В этих взглядах было многое множество вопросов и ответов, упрёков и оправданий! Наконец рука боярина опустилась, и он вполголоса промолвил:
– Грицько! Грицько! Что с тобой случилось?
– Что случилось? – Кердеевич горько засмеялся, – что случилось, спрашиваешь? То-то и оно, кабы знать, что случилось; ей-богу, я сам всё это сотворивший, стою перед содеянным, точно пан перед иконой.
– Правда ли, что ты за девичью красу продал себя и будущее своего рода? Ведь твои дети станут латинянами.
– Хвала всевышнему, – прервал его Кердеевич, – детей, слава богу, видать, сам господь не хочет… разве что… Тут он махнул безнадёжно рукой.
– Ты продал себя, это правда, – закончил свою речь боярин из Рудников, – таких тут много и в Галитчине, и в Перемышльщине, и в Львовской земле. Но души ты им всё-таки не продал!..
– Думаешь, не продал? Продать не продал, но украли её у меня! За каждой моей мыслью, за каждым намерением или делом следят уши и глаза всего окружения единомышленников Офки. Не ведал я, что между женой и мужем может быть ещё третий. И порой чувствую в себе силы и желание расшибить железным кулаком всю эту крикливую свору сторожевых псов моей свободы. Кабы не Офка, а она либо заплачет, либо, того хуже, кинет в лицо: «Ты обещал почитать как святыню всё, к чему привязано моё сердце. Я люблю всех тех, кого ты убил, изранил или прогнал. Где твоя клятва, где обет, где слово Кердеевича?» Ты теперь, Микола, понимаешь, что моя душа не продана, а украдена?
Микола молчал, не зная, что ответить. Перед глазами, точно кровавые всполохи, проносились картины народной войны и гибели всех тех, кто стоит между Офкой и душою Грицька.
Громкий возглас из угла комнаты прервал на мгновение его мысли. «Ах, и восстание не поможет его другу! Будь он пустозвоном – дело иное. Если б оторвать его от шляхты, Грицько подчинил бы своей воле молодую жену. Но тогда загубила бы свою душу она, как губит сейчас свою он… А так… Нет, будь проклят тот, кто свяжется с врагом, даже в супружеской любви! Такой союз приневолит слабого духом хуже татарского аркана, а сильного сломит, как буря одинокий дуб!»
Погружённый в свои мысли, Микола не видел, как пан Бучадский высыпал из кошелька пригоршню талеров и положил их на стол перед шляхтичем, а тот, ухмыляясь, запрятал их в свою, привязанную к поясу, кожаную мошну.
– А теперь бери, пан Станислав, одну из моих лошадей и гони во весь опор в Каменец. Там мой брат и епископ Павел, они уж знают, как быть с этим Довгирдом, а мы сделаем тут всё, что надо! – закончил Михайло Бучадский.
Однако едва лишь умолк конский топот, как загремели выстрелы гакивниц. И тут же у постоялого двора забегали, закричали, поднялась брань. Шум приближался, становился всё громче. Вскоре в комнату вбежал слуга Кердеевича и крикнул:
– Какие-то люди ищут твою милость именем князя Несвижского!
Бучадский поднялся.
– Готовьте коней, оружие!
Кердеевич сорвался как ошпаренный с места. Вскочили боярин из Рудников и Андрий. А в корчму уже вбегали ратники: кто в шлемах, кто в шапках, одни со щитами, другие в кольчугах, все вооружённые мечами и саблями.
– Где Кердеевич? Давайте собачьего перевертня! Бей изменников! – кричали они. Не успел боярин Микола опомниться, как на Кердеевича посыпался град ударов. И вдруг в безучастных глазах «перевертня» вспыхнула искра ярости. Точно тростинка, засвистел тяжёлый меч, противники шарахнулись в стороны, и после минутной схватки у двери Кердеевич и Бучадский добрались до лошадей. Прибывшие ратники начали охоту у корчмы на вооружённых слуг обоих вельмож. Несколько минут раздавались душераздирающие крики и звон стали, потом только стоны, хрипенье раненых и дикий ликующий рёв победителей.
Но вот в дверях появилась высокая фигура какого-то рыцаря с окровавленным мечом в руке. За ним несли нескольких раненых. Увидев вошедшего, боярин Микола вложил меч в ножны и кинулся к нему.
– Князь! Что всё это значит? – спросил он.
Это был приближённый великого князя Витовта Олександр Нос.








