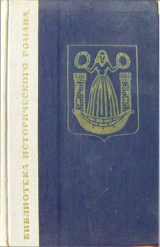
Текст книги "Сумерки"
Автор книги: Юлиан Опильский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Народные же массы, как показывает Опильский, готовы подняться на борьбу с иноземцами ради того, чтобы избежать полного закрепощения, вовсе не склонны быть слепым орудием в княжеских распрях, и ярмо, накинутое «своими» боярами, ничем не лучше в их глазах ярма, принесённого пришельцами. Понимают это в конце концов и положительные герои романа, которые видят в крестьянстве силу, определяющую судьбы родного края. Боярин Микола говорит: «А у нас скажут: «Мы, значит, должны погибать ради того, чтобы на смену панам посадить себе на шею своих, чтобы, вместо польской нагайки, нас стегала русская? Или, может, она сплетена из кошачьих хвостов?»
Можно, пожалуй, спорить насчёт исторической достоверности таких персонажен, можно сомневаться, действительно ли столь развитым было в ту пору национальное н социальное самосознание. Юлиан Опильский, как бы предвидя подобные сомнения, напомнил в романе, что описываемая эпоха несла с собой активизацию народных масс, и упомянул такие факты европейской истории, как борьба швейцарцев за свою свободу (битва при Земпахе 1386 г.), как гуситское движение (кстати, идеи гусизма в то время довольно широко распространились в Польше, проникали и в те края, где происходит действие «Сумерек». Небезынтересно, например, что в 1422 г. из великого княжества Литовского отправилось в Чехию довольно значительное число русских воинов, которые около восьми лет сражались на стороне гуситов).
Исторический роман, поскольку в него вложено авторское понимание истории, вообще редко обходится без известной модернизации изображаемого: персонажей и толкования событий. «Историческая повесть, – писал Иван Франко, – это не история. Историк прежде всего старается установить истину, констатировать факты; беллетрист только пользуется историческими фактами для своих особых художественных целей, – для воплощения определённой идеи в определённых живых, типических образах».
Писатель не может игнорировать перспективы последующего общественного развития (применительно к «Сумеркам» это перспектива неизбежного в грядущем крушения феодализма), всегда проясняет прошлое более поздним историческим опытом. Этот опыт заставил Опильского настойчиво утверждать социальное видение событий и даже наделять им отдельных своих героев. Ему это было тем более необходимо, поскольку роман стал развёрнутой полемикой против националистического подхода к истории.
Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что концепция Ю. Опильского в ряде существенных моментов противостояла националистической украинской историографии, крупнейшим авторитетом которой был М. С. Грушевский, виднейший буржуазный историк, автор многотомной «Истории Украины – Руси». М. Грушевский, например, изображал украинскую нацию бесклассовой, такой, где нет «своих» эксплуататорских классов и мет места для классовой борьбы. Опильский подчёркивает в «Сумерках» непримиримую в конечном счёте противоположность интересов между феодальными землевладельцами и крестьянством. Эта-то противоположность оказывается у него в итоге решающей для хода событий, предопределяющей неудачу борьбы за независимость Руси. Грушевский, считая национальную проблему главной в истории, ставил национальные интересы выше классовых, а классовую борьбу считал «мешающей» национальной борьбе. Опильский успех национального дела ставит в зависимость от удовлетворения стремлений крестьянства, от вовлечения его в борьбу, – и классовые интересы оказываются у автора «Сумерек» определяющими историю.
Почему польскую экспансию на восток Опильский считает безусловным злом для украинского населения? Не только и не столько потому, что она означала проникновение инонационального элемента, а потому, что она несла с собой закрепощение крестьянства в более тяжких, чем прежде, формах.
Польская шляхта, пришедшая на чужую землю, изображена в романе, как уже отмечалось, в самых чёрных красках. Но писатель далёк от того, чтобы ответственность за творимые ею насилия распространять на польский народ, и специально оговаривает это на страницах своего романа. Вот что говорит один из героев Опильского своему врагу-шляхтичу:
«Ты служишь нескольким вельможам и королю, а не народу!.. Народ не зарится на чужое и в чужую землю не суётся, разве если вы, шляхта, его заставите». Показательна в этой связи одна мелкая деталь: даже среди слуг злобного каштеляна Зарембы оказывается один (Юзва), который, пожалев боярина Миколу, сокращает его мучения.
Заметим к тому же, что тон, которым говорит автор «Сумерек» о польских феодальных порядках, не был результатом исключительно его настроения и его вымысла. Он подсказывался ему и некоторыми из древних источников, старой обличительной литературой. Вот как писал, иапример, украинский публицист конца XVI – начала XVII века Иван Вышенский: «Где ж ныне в Лядской земле (то есть Польше. – Б. С.) вера, где надежда, где любовь, где правда и справедливость суда?.. Несть места целого от греховного недуга: все струп, все рана, все пухлима, все гнилство, все огонь пекельный, все болезнь, все грех, все неправда, все лукавство, все кознь, все лжа, все мечтание, все пара, все дым, все суета, все тщета, все привидение». Да и в самой старопольской литературе и публицистике (а она, если учесть проявленную автором «Сумерек» эрудицию, не могла ему остаться неизвестной) мы найдём немало сетований по поводу утери польской шляхтой былых доблестей, отсутствия у неё патриотизма, её своекорыстия, алчности, склонности к разгулу и тщеславию.
Попутно стоит отметить, что в ряде мест книги писатель продемонстрировал свой интерес к польской истории, упомянул о противоречиях между королевской властью, магнатами и шляхтой, хотя кое в чём не избежал некоторой односторонности (например, известное умаление польского вклада в победу при Грюнвальде, не совсем справедливая оценка Владислава – Ягайло как государственного деятеля и полководца). Неплохо ориентировался Опильский и в международных отношениях того времени, о чём свидетельствуют такие, например, эпизоды романа, как беседы Свидригайла с посланцами Ордена в имении Чарторыйских.
Пожалуй, в несколько идеализированном освещении представлены в романе те порядки, которые приняты были на русских землях до унии. Но они оцениваются лишь в сопоставлении с тем, что идёт с Запада, через Польшу, на смену «исконно-славянскому» обычаю. И не стоит тут упрекать автора в своеобразном славянофильстве, основанном на презрении к «гниющему» Западу. Западная Европа для Опильского – не только ненавидимый им феодализм. Это, как выше уже говорилось, и швейцарские простолюдины, и воины– табориты.
С не меньшим пафосом, нежели против национализма, ополчается Опильский против католической церкви, её коварных и лицемерных слуг. Портреты их сделаны зло и выразительно. (Примечательно в этом плане использование писателем для характеристики циничной изворотливости церковников мотива одной из новелл Боккаччо.) Особенно колоритен в романе брат Анзельм, хитрый стяжатель, лазутчик и интриган, которому не откажешь вместе с тем в знании человеческой природы, в умении обходиться с высшими, сыграть на людском невежестве и суеверии.
Нет надобности преувеличивать художественные достоинства романа и его значение в развитии исторического жанра. Выше была сделана попытка показать, что ценность «Сумерек» в цельном и последовательно проводимом демократизме, в правильном в основе понимании роли народа в истории. Нельзя вместе с тем не заметить, что идеи свои писатель сумел облечь в интересные и привлекательные художественные образы, что ему удалось сочетать впечатляющее изображение общего хода событий, «судьбы народной», с представлением частных человеческих судеб и взаимоотношений. О мастерстве Опильского в изображении исторических лиц лучше всего судить по образу Свидригайла, который предстаёт именно таким, каким запечатлён в дошедших до нас свидетельствах.
Роман умело, просто и добротно построен. Поступки героев достаточно ясно и по большей части убедительно и понятно мотивированы. С интересом будет следить, например, читатель за судьбой молодого Андрия Юрши, который наделён множеством симпатичных черт, дан с некоторой романтической приподнятостью, во всём обаянии молодости, честной прямоты и неискушённости в интригах. Образ этот не превращён в некий бесплотный идеал, сразу же данный в готовом совершенстве, герой мужает, размышляет, мучится и прозревает на страницах романа.
Адресуя книгу широкому читателю, автор немало внимания уделил фабульной стороне романа. Не добиваясь её усложнения в ущерб вещам, более для него важным, не изыскивая «сверхдетективных» решений, он обнаружил вместе с тем основательное знание и совсем неплохое владение теми приёмами историко-приключенческого повествования, которые были выработаны романом XIX века.
Естественно, что книга изобилует персонажами, которые опять-таки имеют родословную, уходящую в классический исторический роман, создают предпосылки для разнообразных сюжетных поворотов и придают произведению довольно богатый колорит. Кроме благородного юноши, мы встречаем на страницах «Сумерек» и жертву справедливого дела, и умного, жестокого врага, изворотливого злодея, и хвастливого дворянчика, и корыстолюбивого корчмаря, и верных слуг-друзей, и людей низшего состояния, стремящихся к карьере, и своенравного владыку, и «роковую» красавицу.
Не менее щедро насыщено повествование теми элементами, без которых трудно себе представить роман из «рыцарских времён» (хотя об отмирании рыцарства и говорится в «Сумерках»). Здесь и состязание в воинском искусстве, и поединок, и посвящение в рыцари, и битва двух отрядов, и вылазка из осаждённого замка, и отражение штурма, и подвиг героя, с важным письмом выбирающегося из осады. При этом «батальные» страницы романа (такие, как описание битвы между отрядом Миколы и рыцарями Зарембы во время обороны Луцкого замка) принадлежат к числу лучших в нём, изобилуют массой выразительных деталей, написаны с большим знанием дела. Опильский, по-видимому, специально интересовался развитием военного искусства, совершенствованием вооружения и техники в описываемую им эпоху, что подтверждается и высказанными по этому поводу в романе суждениями автора и героев. В соответствии с традицией– заняла своё место в романе и любовная линия. Автор связал её и с сюжетными перипетиями (красавица Офка играет в них немаловажную роль), и с раскрытием образа главного героя. Выбор, который он должен сделать между двумя женщинами, – это, в сущности, выбор между родным и чужим, между верностью и отступни чеством, ибо уступка страсти может стать и первым шагом к отщепенству. Этот выбор, стремясь избежать однозначности персонажей, писатель делает далеко не простым. Андрий, сперва устоявший перед кознями красавицы, отдаётся всё-таки бурному (теперь уже взаимному) чувству, и только смерть Офки решает его судьбу, приводит к тому благополучному финалу, который мы видим в романе. Попутно как бы подчёркивается мысль, что истинное благородство и чистота сердца способны вызвать отклик даже в душе человека совсем другого мира. Офка предстаёт уже не просто расчётливой интриганкой, которая успешно, с хорошим пониманием ситуации шпионит и информирует, соблазняет и вербует сторонников, а человеком, по-своему несчастным, в какой-то мере жертвой холодного вероломства отца и несчастливого замужества, затерянной и гибнущей среди чужих, даже тяготящейся временами своей ролью. Любопытно задуман и образ Кердеевича, человека, ставшего из-за неодолимой страсти на путь разрыва со своими, ощущающего тяжесть отступничества, но бессильного что-либо изменить до поры, когда смерть жены приносит ему горе, но и освобождение. Привлекает внимание и образ мещанина Скобенка. История его пылкой и простодушной любви к Марине стала, с одной стороны, поводом к изображению сперва вражеского коварства, а затем княжеского произвола, с другой же – достаточно раскрыла характер героя, который остаётся верен чувству и вместе с тем начинает жить думой об отмщении обидчику.
Опильский стремится – и с успехом – избежать однообразия повествовательной манеры. Есть в его книге яркие и динамичные сцены сражений, задушевно-лирические интонации, колоритные картины средневековой жизни (скоморохи в Луцком замке), страницы, отмеченные глубоким трагизмом, главы, в которых воспроизводится фольклор (сказка об Иване-царевиче и Змие Горыныче), и главы, где возникают юмористические положения, представленные подчас с грубоватой сочностью, в духе простонародного юмора, анекдота (любовные приключения Горностая, эпизоды из нравов Сигизмундова двора и т. д.).
Роман посвящён трудному времени в жизни народа. Благородные идеалы лучших из своих героев автор вынужден был – в согласии с историческими фактами – признать для той отдалённой эпохи неосуществимыми, в какой-то мере утопичными. Добрые стремления – это понимает писатель – не в силах противодействовать ходу истории. Поэтому последние страницы книги приобретают трагический колорит. Одержана победа под Луцком, которая показала силу народа (в романе замок обороняют воины из простонародья да несколько патриотов-бояр), но результаты победы сведены на нет предательством знати и князя. Лучшие из героев либо гибнут, либо понимают тщетность своих усилий. Показательно и символично само название романа – «Сумерки». Это сумерки, предшествующие долгой мочи феодального и чужеземного гнёта.
Но торжествующим оказывается у Опильского в конечном счёте оптимистический взгляд на историю. Не пропадает бесследно приобретённый народом опыт борьбы. Понимание силы народной даёт автору и лучшим из его героев возможность верить в светлое будущее. И в конце книги один из героев произносит следующие слова: «Только простой люд когда-нибудь построит твердыню свободы и независимости. Оторванные от него князья, бояре и паны лишь тени, что идут за солнцем, и никогда им не изменить ни народного тела, ни его души. Зайдёт солнце, тени покроют весь мир, но не навеки. Позаботимся же о том, чтобы на рассвете не оказаться среди теней, которые разгонит солнце, а среди расцветающих с его появлением цветов».
Эти слова оказались пророческими.
Б. Стахеев
СУМЕРКИ
I
Хмурая, поздняя осень. Тяжёлые свинцовые тучи нависли над землёй, серый непроницаемый туман окутал лес влажной дымкой, пробирал до костей, вселял предчувствие близкой зимы. Ни свежего ветерка, ни мороза, ни света, ни тепла – одна лишь промозглая сырость.
Весь мир словно очутился под водопадом, брызги которого хоть и не достигают путника, а всё-таки не оставляют на нём сухой нитки. Охрипнув, умолкли вороны, густо усевшиеся всей стаей на голые ветки дубов, и только изредка, особенно когда среди увядшей травы выглядывали длинные уши зайца, каркали то поодиночке, то хором. Поймать зайца среди густых кустов барбариса и зарослей орешника, где тесно для полёта, было невозможно, и потому они криком выражали своё неудовольствие. Вот между деревьями появился весь облепленный репейником мокрый волк, пришедший из далёких степей зимовать под защитой леса. Перебегая поляну, степняк быстро окинул её свирепым взглядом – нет ли добычи или какого врага. Из-за высокого муравейника за каждым его движением следили две чёрные точки: глаза лисы.
Ни цветка среди опавшей листвы, ни ягоды между чахлыми стебельками пожухлой травы, ни птицы на ветке. Одни грелись в гнёздах, другие улетели на ещё незапорошенные снегом размокшие и раскисшие поля, третьи переселились в запрятанные в дебрях лесов деревеньки. Даже белки не вытворяли своих обычных штук на скользкой коре деревьев. Высунув ещё спозаранку чёрные носики из тёмных, тёплых дупел, они поняли, что выходить сегодня на добычу им нечего, – нырнули обратно и поскорее заткнули входы пучком сухой травы…
Всюду мертво и уныло, будто в мире что-то сломалось, какой-то главный стержень, и всё поплыло серым туманом, без которого весь свет, словно тающая горстка соли в сырой кладовой, расплывается, превращаясь в первобытный хаос, когда-то вызванный к жизни творцом. Однако на сей раз и сила творца не высечет из этого мёртвого хаоса даже искры жизни.
И всё-таки! Под дубами, где сидели вороны, проходила дорога или нечто ей подобное, напоминавшее скорей широкую борозду чёрной размокшей пахоты. По этой дороге медленно тянулась цепочка путников. Впереди бежали два пса-бульдога, их налитые кровью глаза рыскали по сторонам. Увидев собак, вороны сорвались с деревьев и завертелись в зловещем водовороте над землёй, бульдоги залаяли, а заяц и лиса юркнули в молодняк.
За собаками четвёрка небольших, но крепких лошадей тащила бричку, нагруженную мешками и сундуками, среди которых торчало несколько копий и бердышей. Их сунули между мешками в сырое сено, и потому их острия утратили свой блеск. За бричкой на рослой лошади ехал юноша лет семнадцати, в суконном, на меху кобеняке, с луком и сагайдаком у седла и с тяжёлой саблей на боку. Его чёрные, блестящие глаза то и дело оглядывали окрестность, словно остерегаясь опасности. За ним ехал синеглазый, белокурый парень, его ровесник, в зелёном кафтане и в сдвинутой на затылок шапочке. Его белое лицо чуть порозовело от осенней стужи, и щёки стали похожи на лепестки розы. От всей его сильной фигуры веяло свежестью и молодостью. Рядом с ним ехал всадник лет двадцати. Он сидел в седле, согнувшись в три погибели, словно татарин, выслеживающий над Ворсклой конников князей Глинских, и своими маленькими чёрными, точно угли, глазками, горевшими под широкими тёмными бровями, и быстрыми порывистыми движениями невольно напоминал какого-то кобольда, о которых рассказывали немецкие сказочники из Мариенбурга.
Утопая по оси в вязкую грязь, бричка едва-едва двигалась, а путники молчали, видимо уже наговорившись по дороге досыта. Вот они дотащились до развилки, откуда ответвлялась едва заметная дорожка влево.
– Вот сюда, в сторону! – крикнул маленький чернявый паренёк.
На этот возглас из сена, которым была завалена оричка, вылез возница, верней, высунулась только его голова, огромная, взлохмаченная, как огородное пугало, с необычайно скуластым красным лицом и маленькими гноящимися глазами.
Лошади свернули на боковую дорожку, где на первый взгляд не было грязи, но как только бричка выехала из размешанной колёсами слякоти, копи, погружаясь по колено, зашлёпали по размокшей глине. Проехав биде немного, бричка намертво застряла в глубокой выбоине.
– Что такое? – спросил белокурый молодой всадник.
– Опять проклятая бричка увязла! – ответил чернявый. – Но слава богу и за это!
Большие глаза белокурого раскрылись ещё шире.
– Слава богу? – спросил он. – Почему?
– Да хотя бы потому, что старый Коструба высовывает из брички свою неумытую рожу.
Старый Коструба, надо сказать, вовсе не был старым, ему только перевалило за тридцать, но его медленные движения были под стать измождённому старцу. Он не спеша выбрался из сена и поднялся во весь рост; незнакомый человек, наверное, перепугался бы, увидав такого широкоплечего великана, с толстенными, как дубовые корни, ногами и могучими мышцами рук, отчётливо вырисовывавшимися даже через шерстяной сердак. Он потянулся так, что затрещали кости, потом почесал свой густой, полный сена и соломы чуб и плюнул в грязь.
– Бери под уздцы лошадей, Грицько! А ты, Скобенко, – обратился он к белокурому красавцу, – ступай и хватайся за собачий хвост, чтобы тебя пёс вытянул.
– Почему же за собачий? – спросил с любопытством молодой боярин.
– А ему хвататься за конский запрещается! – с поклоном ответил Коструба. – Конский хвост дело боярское, а собачий…
– Не забудь, смерд, что я киевский мещанин-горожанин! – засмеявшись, прервал его красавец.
– Как раз собачий хвост под стать мещанству, чтобы устраивать делишки, вилять во все стороны.
– Ха, ха, ха! – засмеялся Грицько. – А какое же дело присудишь нам, холопам?
– Да мы, боярин, ни дать ни взять, дубовая колода, на которой дрова рубят…
– Что колода, то и впрямь колода! – прервал его Скобенко. – Кинешь в грязь, там и сгниёт..
В маленьких глазках Кострубы вспыхнул жёлтый огонёк.
– Нет, не сгниёт! Не сгниёт! А ещё больше окаменеет. Рубить ли будут на ней дрова, унесёт ли её вода или вмуруют в стену, ничего по ней не заметишь. И ничего с ней не случится, разве что совсем окаменеет. Это тебе не собачий хвост…
Говоря всё это, Коструба слез с брички в грязь, плюнул на руки и кивнул Грицьку.
– Но-о-о! – крикнул Грицько, улыбаясь, а Коструба схватился за тяжёлую бричку и одним махом вытащил её из ямины.
– Ай-ай! Не пожалел тебе бог силы! – заметил Скобенко.
– Известно, колода! – буркнул Коструба и снова зарылся в сене.
Двинулись дальше. Проходил час за часом, но путники не останавливались накормить совсем обессилевших лошадей.
– Видать, нынче не доберёмся! – заметил ехавший впереди юноша. – Придётся заночевать в лесу.
– Что делать, боярин, не впервой! Божья воля горше боярской! – отозвался Грицько. – Спешить некуда. Здесь, в Киевском Полесье, нет ни татар, ни разбойников, а до шляхты далеко.
– До шляхты? Неужто она такая поганая? – спросил с любопытством молодой боярин.
– Ещё бы! Я ведь из Перемышля, шляхтичей как облупленных знаю. Там они как у себя дома, нам-то они знакомы.
Покойный отец бывал на Подолии и часто рассказывал про них, будто все они бояре и куда спесивее наших.
Грицько засмеялся себе под нос:
– Ещё бы, те, кого показывали покойному боярину в Тернополе и в Каменце, только с виду казались большими панами, бляха-то золотая, а щит трухлявый; ударь топором – золото отлетит и одна труха посыплется. С тех пор как шляхта панует на Галицкой земле, ночью на безлюдной дороге показаться нельзя. Озорные, неверные люди!
Юноша рассеянно слушал, что говорил слуга об этих сторонних, неведомых людях, и только кивал головой.
– Вот поедем к дяде Михайле на Волынь, там он покажет шляхтичей, – ответил молодой боярин, – и таких, с какими встречался отец, и каких видел ты. Хотя, собственно, что они нам?
– Ты так думаешь, боярин? Дай-то боже, а мне так не кажется! У нас…
– Что вы знаете про шляхту и бояр? – бросил юноша и засмеялся. – Я боярин, и то мало о том ведаю, а откуда же вам, смердам?
Грицько улыбнулся.
– То-то и горе, что мало кто маракует, о чём смерды думают-гадают, – заметил он вполголоса и умолк.
Тем временем бричка выехала на небольшую поляну, посреди которой рос высокий, примой, как стрела, ясень. Тёмно-зелёная густая трава-мурава покрывала землю, а вокруг, купаясь в золотистых оттенках пожелтелой листвы, стояла стеной дубрава.
– Вот здесь, – громко сказал молодой боярин, – и остановимся на ночлег.
Всадники спешились, бричка подъехала к ясеню. Коструба выпряг лошадей, вытер их сухими листьями, покрыл шерстяными попонами, привязал к дышлу торбы с овсом и поплёлся в лес. Скобенко вытащил из брички татарскую кошму и растянул её шатром между бричкой и деревом. Потом снял с брички несколько тюков и бочек, обставив ими с трёх сторон шатёр, а на землю постелил ковёр. Грицько же тем временем появился с двумя мешками сухих листьев; положив их под шатёр, он принялся вытаскивать из сундука дорожные припасы. Вскоре пришёл и Коструба с огромной, с целое дерево, сухой веткой.
– Вот и хорошо, – улыбаясь, сказал Грицько и осклабился, – сейчас и пообедаем!
– Верней, поужинаем, – заметил Скобенко, – видишь, темнеет.
И в самом деле, на западе незаметно догорало бледное солнце, а с востока медленно наползал серый сумрак осеннего вечера. Но поднявшийся белёсый туман смягчил и черноту наступающей ночи, и яркость уходящего дня, краски поблекли, стало сумрачно и зябко.
Вдруг что-то затрещало в чаще и где-то вдалеке послышались не то крики, не то завывания волков. Коструба остановился, Грицько прислушался, лошади подняли головы и, беспокойно фыркая, насторожили уши. Молодой боярин тотчас всё понял и, положив на тетиву лука стрелу, заметил:
– Идёт охота?
– Да, слыхать, как собаки гонят зверя. Только какого – оленя, серну, кабана, а может, и медведя?
Схватив короткую рогатину, Грицько вытер полой острые, как жала, вспотевшие от сырости ножи. В тот же миг из чащи выбежал величавый олень, откинув назад голову, так что рога свесились над хребтом. Увидев путников, он, наверно, посчитал, что они не опаснее собак, и решил промчаться мимо, но внезапно запела тетива, и с резким свистом вылетела из-за ясеня пернатая стрела. Олень поднялся на задние ноги, словно собирался перескочить какую-то высокую-превысокую преграду, и с жалобным стоном рухнул на траву.
– Здорово, боярин! Впрок пошла наука! – похвалил юношу Грицько. – Сразу видать, чей сын. Будет теперь знатный ужин!
Юноша гордо посмотрел на убитого оленя.
– Ступай, Коструба, принеси-ка сюда этого зайчика и вытащи стрелу! – приказал он. – Жалко, это киевская!
Коструба пошёл за оленем быстрее обычного. Вдруг из леса выбежало несколько гончих. Они окружили оленя и парня и, взъерошив шерсть, грозно зарычали. И, наверно, не замедлили бы напасть на нового врага, если бы не огромные бульдоги боярина.

Охотничьего нюха было у них мало, но силы хоть отбавляй. Громко лая, они с такой свирепостью бросились навстречу гончим, что те заколебались. Тут на поляну выехали три всадника.
Один из них затрубил в рог, сзывая гончих, Грицько свистнул бульдогам. Воспользовавшись этим, Коструба схватил оленя и, точно зайца, потащил его к бричке. Потом, взяв секиру, принялся рубить ветку, не обращая внимания на окружающих. Огромная сухая ветка, казалось, была совсем трухлявой: щепки, чурбаки, кора летели во все стороны, будто крылышки майского жука, которого поймал голодный воробей. И, прежде чем кто-либо успел бы дважды прочесть «Отче наш», возле брички выросла огромная куча дров, а Коструба, опершись на секиру, уже наблюдал за происходившим под ясенем и, видимо, был готов так же хладнокровно изрубить чужих людей, коней и собак, как рубил сухие дрова.
Всадники приблизились. Впереди ехал седовласый муж в высоких охотничьих сапогах, в лисьей шапке с бархатным верхом и в длинной тёмной накидке на меху. С первого же взгляда было видно, что это князь или вельможа.
– А что тут за люди? – спросил он громко.
Молодой боярин вышел из-за дерева с луком в руке.
– Вы разве не знаете, что в чужом лесу нельзя убивать чужого зверя?
– Чей зверь теперь, видит каждый. Кому бы он достался, не будь меня, бог знает. Стрела не человек, а желание ещё не деяние.
– Гордый ты больно, сынок, гляди, как бы потом не пожалеть! – крикнул всадник и подъехал ближе.

В его голосе звучал не то гнев, не то насмешка. Молодой боярин покраснел.
– Грицько, Скобенко, за копья! – шепнул он и громко крикнул: – Мне стрелы не жалко, но, может, кто и пожалеет, если она полетит.
Всадник, однако, не испугался и подъехал вплотную.
– Ну, добро, – сказал он, – коли ты обязательно задумал драться и старших тебя летами не почитаешь, то, наверно, ты не испугаешься назвать своё имя. Кто ты? Я владелец этой земли и вправе спросить о том каждого проезжего.
Юноша заколебался, но, взглянув ещё раз на седую бороду всадника, гордо поднял голову и сказал:
– Я Андрий Васильевич Юрша, еду к его милости князю Ивану Носу из Руды.
Сопровождавшие старика слуги зажали почему-то ладонями рты, словно боялись расхохотаться. Мелькнула улыбка и на лице почтенного вельможи.
– А коли так, то тебе, парень, тут больше делать нечего, – сурово промолвил он. – Возвращайся назад!
– Ого! Не скоро ещё найдётся тот, кто заставит Юршу свернуть с дороги, – заносчиво бросил юноша. – Я не из тех, кто носит панцирь на заду. Чего мне возвращаться?
Старец снова улыбнулся, раздражая этим юношу ещё больше, а слуги просто давились со смеху.
– Коли ты приехал к Носу, чтобы разбить ему нос, то делай это поскорей и отправляйся восвояси, а не хочешь, то я и так приму твоё желание за деяние. Видишь ли, Нос такой уж дедич, что порой суёт свой нос и за Руду и не любит, чтобы у него из-под носа выхватывали оленя.
Андрий остолбенел. По словам маститого старца он понял только, что перед ним Иван Нос и что именно ему он так некстати пригрозил киевским луком и стрелой. Кинув лук, он бросился к князю не как гордый юноша, а как смущённый ученик, которого учитель застал не за псалтырем, а с силком или удочкой.
– Прости, милостивый князь, – пробормотал он. – Какой чёрт знал, что это ты? Не гневайтесь, коли у меня стрела быстрей разума.
Старец даже не шевельнулся.
– Гм, – хмыкнул он. – Случается, конечно, что киевская стрела быстрей разума у кое-каких бояр и, конечно, без неё не обойтись, однако самый ледащий отрок должен уважать седину…
Юноша покраснел и поклонился в ноги сошедшему с лошади старику.
– Прости, князь, сироту! – пролепетал он снова.
Улыбка на лице князя Ивана тотчас исчезла. Он схватил юношу за руку и тряхнул его.
– Сироту, говоришь, почему сироту? Значит, Василь,
– Отец умер на покров!
Старик всплеснул руками и, вздыхая, покачал седой головой.
– Господи! – промолвил он. – Упокой душу раба твоего! – и перекрестился. – Бедный сынок! – Князь схватил юношу в могучие объятия и поцеловал в лоб. – Теперь понимаю, почему ко мне едешь. Спасибо тебе, что именно меня выбрал. Видать, старая дружба и после смерти живёт.
– Сами отец ещё наказывали… – всхлипывая, лепетал юноша.
Боярин улыбнулся и погладил его по голове.
– Хороший ты парень, Андрийко, – пошутил он, – только плакать Юрше не годится.
– Это по отцу… – оправдывался юноша, утирая слёзы.
– Всё равно! Молись о его душе, давай обет и мсти, если кто-то виновен в его смерти, но не плачь. Плач – дело бабье!
Глаза юноши загорелись.
– О, я знаю, что Юрша не должен быть и не будет бабой, но иногда… и плакать хочется, и душа томится, и не знаешь, куда податься, за кем идти.
– Ты сказал, что Юрша с дороги не свернёт!
– Я и теперь поеду за вами в Руду!
– Вот так, это я люблю. И запомни: никогда, слышишь? никогда нашему брату нельзя раскисать или гнуться либо кривить душой. Надо выбрать себе дорогу в жизни и цель и, не оглядываясь, не озираясь по сторонам, идти к ней. Падёшь ли в бою или победишь, выиграешь или проиграешь, всё равно! Мученики тоже герои. И не бойся расстаться даже с самым близким, если он кривит душой. Верь мне, парень, голос мой, словно голос твоего отца из могилы, а он непрестанно к тебе взывает: «Иди но пути, на котором белеют кости твоих предков, ибо этот путь – путь твоего народа!»
Со сверкающими глазами выслушал юноша поучения. Потом поцеловал руку старика, и оба вошли под шатёр.
Сопровождавшие князя всадники привязали в сторонке собак, Коструба сделал то же самое с бульдогами.
Князь уселся на мешок с листьями, а Андрий приказал было собираться в дорогу, но старик остановил его.








