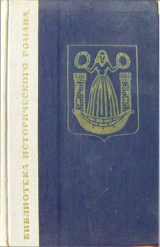
Текст книги "Сумерки"
Автор книги: Юлиан Опильский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Всю ночь по приказу Монтовта горели огни на стенах замка, а в шопах всю ночь ходила стража, опасаясь очередной вылазки.
Рано поутру, увозя с собой написанную Андрием грамоту воеводы, королевский посланец отбыл, а вслед за тем у рва закопошилась челядь, разыскивая своих убитых господ. И хоть польские ратники зазывали городовую рать к себе, хоть и показывали издали бутылки с вином, добытые в луцких погребах, никто не покинул стены. Отделываясь шутками и насмешками, мужики старательно чинили порубленные и разрушенные во время приступа заборола. Андрийко же с пристальным вниманием следил за безопасностью замка, чтобы в любую минуту дать отпор нападающим. Так прошёл день, потом другой. На третий день поляки спустили в ров плот, на него взошла челядь с баграми – вылавливать утонувших. Внимание Андрия привлекла к себе стоявшая на краю рва большая группа шляхтичей, они громко восклицали, когда челядинцы вытаскивали с илистого дна чёрные, облепленные грязью вонючие груды железа, кожи и тряпья, ещё три дня тому назад называвшиеся рыцарями либо ратниками. И вот плот подплыл как раз к тому месту, где стоял Андрийко. Перегнувшись через забороло, чтобы лучше рассмотреть, что именно вытаскивают плотовщики, он вдруг увидел, что помост плота, на котором складывали мертвецов, состоит из одних лестниц, какими пользуются во время приступа. Андрийко опрометью кинулся с заборола и позвал дежурившую у ворот стражу. Три сотни ратников, в полной боевой готовности, поднялись с ним на стену.
А плот тем временем быстро приближался к месту между южной башней и главной браной, где собралась толпа. Один конец плота упёрся во внешний берег рва, другой, будто ненароком, коснулся внутреннего. Мертвецов унесли, за ними двинулась и челядь, а плот остался заклиненным между берегами, точно какой мост…
И вдруг, словно наперегонки со смертью, кинулись вооружённые ратники на плот, мигом подхватили с помоста лестницы и подбежали к стенам. Но диво дивное! Железные вилы откинули лестницы от заборола, а сверху посыпалась такая туча стрел, ратищ, камней и брёвен, что толпа ринулась назад под прикрытие шоп. Однако на этот раз городовая стража не ограничилась отражением приступа. Засвистели стрелы, завыли камни, загрохотали пушки, и всё, что находилось в пределах их полёта, подверглось уничтожению и смерти. А отборный отряд во главе с Андрием и Горностаем, спустившись с заборола, зажёг осадные шопы. И они снова заполыхали, надолго отравив воздух смрадом горящих шкур.
О дальнейшем перемирии нечего было и думать, и Юрша, боясь поветрия, велел спустить из рва воду, протухшую от ещё не выловленных трупов. В польском же стане после такой неудачи совсем приуныли и попытки захватить замок силой уже не предпринимали. Лишь зачастили посланцы короля и Земовита. Последний, выдавая себя за союзника Свидригайла, просил сдать замок по доброй воле, обещая выступить против короля. Юрша на переговоры не шёл, дважды заключал перемирие, однако замка отдавать не собирался.
В конце августа начались дожди. Те коварные, обложные, осенние дожди, что сеют без конца и не оставляют на человеке сухой нитки и пронизывают до костей почище летних ливней. От такого дождя содрогается тело, душа замыкается в себе и с холодным равнодушием, недоверчиво и неласково отмежёвывается от всего. Над головами низко нависло серое небо, насыщенное холодной, бесконечно пронизывающей моросью. Сплошная завеса, сотканная из тоненьких водяных ниточек, затягивает горизонт, словно говоря: «Позади нас нет для тебя ничего, кроме серого осеннего неба. Не ищи прошлого – оно не вернётся, не жди будущего, оно серое, как мы!» Особенно тоскливо без крыши над головой было полякам ка луцком пепелище. Вялая осада, большие потери людского состава во время вылазки и при штурме раздражали шляхту до крайности, и она поначалу украдкой, потом всё громче обвиняла короля в том, что он щадит волость Свидригайла. В стане зазвучали призывы к открытому выступлению. Боясь только, что король, в крайнем случае, скорей пожертвует победой, чем короной, и, объединившись с Свидригайлом и великополянской партией, подомнёт под себя непослушных, Заремба с канцлером кое-как утихомиривали шляхту. На королевском совете каштелян первый заговорил о недовольстве и советовал королю передать бразды правления над войском кому-нибудь другому. К великому его удивлению, Ягайло охотно согласился и, не ожидая, пока канцлер предложит нового полководца, назначил военачальником князя Земовита мазовецкого. Заремба понял, что его перехитрили и что король с панами отказались от великодержавных замыслов канцлера и шляхты. Со свойственной лицедеям изворотливостью каштелян, в свою очередь, принялся горячо поддерживать прикрытое стремление короля к миру со Свидригайлом, а шляхта, поражённая его вероломством, притихла. Тем временем из-под Владимира прибыли пушки. Их вскоре установили на земляные насыпи под крытые соломой шопы. Начался обстрел, однако он не принёс никакого толку. На совести польских пушкарей осталось лишь несколько синяков, которыми они наградили защитников, когда, ударяясь о стены и замковые строения, каменные ядра разлетались в осколки. Случалось, правда, что ядро попадало в кровлю палаты пли срывало верхушку остроконечной крыши на башне, но защитники в ту же ночь повреждения чинили да ещё глумливо махали сверху шапками вражеским пушкарям.
Когда ненастье усилилось, положение стало просто невыносимым. Как-то ночью от подножного корма пало несколько десятков дорогих рыцарских коней. Овёс на нивах вытек, взопрел, не было ни зернового хлеба, ни сена, поскольку мужики покинули окрестность. А ватаги мужиков, рассеявшихся ещё в начале осады по Холмщине, Волыни, Подолии и Галицкой земле, появились снова и рыскали, точно волки вокруг подыхающего быка, не допуская ратников уезжать из стапа в поисках наживы и корма для лошадей в далёкие околицы. Шляхту и челядь каждый день хоронили десятками, а кое-кому из шляхтичей пришлось выпрашивать себе еду и лекарства. Осада приближалась к концу.
Стража почти совсем не страдала от осады. Простору было много, припасов хватило бы и на двойной гарнизон; тепло, сытно, удобно и вольготно жилось ратникам и боярам. Лёгкие ранения заживали быстро, но тяжёлые из-за влажного воздуха очень медленно, впрочем, тяжело раненных было мало. Лихорадка тоже не очень донимала, одно только томило людей, запертых среди стен, – скука. Её порождали серое небо, однообразный шум и шелест падающих капель и несущиеся по небу на восток вереницы свинцовых туч. В воображении ратников всплывали низенькие курные хаты лесистого Подгорья; размокшие полосы чёрной пахоты среди окутанного дождевой изморосью елового бора; лица близких: отцов, матерей, братьев и сестёр, а порой и милой… И тогда тоску сменяли её суровые сёстры – печаль и неудовлетворённость. Однако такие картины недолго занимали воображение мужиков. Следом шли другие: тиун, выгоняющий селян на панщину; пьяный шляхтич либо одичалый от беспросветного одиночества панич, с непонятной злобой разрушающий ради удовлетворения своей похоти священные устои семейной жизни; Заремба; боярин Микола; восстание – всё переплеталось и вновь пробуждало тоску.
Томился от скуки и Андрийко. Он, Горностай, Грицько и Коструба распределили между собой стражевое охранение и по очереди выходили на стену верхнего замка наблюдать за польским станом. С тех пор как над станом распростёрли свои крылья голод и смерть, на людей словно напала спячка. Бывали дни, когда, кроме собак, ни одна живая душа не показывалась над рвом. Тщетно спрашивал себя Андрийко, зачем, собственно, король торчит под Луцком, если он с таким лее успехом может вести переговоры, сидя во Владимире или Люблине. Неужто рассчитывает вынудить голодом городовую рать на сдачу или взять замок приступом? Юрша объяснял это оскорблённым самолюбием, но Андрию казалось, что король ждёт прихода великого князя, чтобы из провала объединения Литвы с Польшей выгадать хоть одно: подчинить шляхту власти короля и князей. Как-то поздним вечером, закутавшись в длинный овечий тулуп, он раздумывал об этом, сидя на забороле прибранной вежи, когда к нему прибежал ратник с известием, что у задней калитки стоят четверо и просят впустить в замок.
– Их только четверо? – спросил он.
– Всего лишь!
– Точно?
– Наверняка! Тропа там узкая. Та самая, по которой князь Олександр…
– Ну, ладно! Иду!
И Андрийко побежал к калитке. Там среди вечерних сумерек стояли в затылок четыре мужа.
– Кто вы? – спросил он.
– Мы из Подолии, от князя Несвижского, – ответили они.
– Зачем пожаловали?
– Добровольцы!
– На кой чёрт нам добровольцы! У нас своего народа хватает, а у вас, надо думать, дела по горло.
– Дела хватает, только сказывают, будто у вас больше порядка, вот мы и пришли поучиться.
– А что вы за люди?
– Два брата Зарубских, Судислав и Давид, и князь Онуфрий Курцевич со слугой. Сделай милость, не выспрашивай, а пусти, не то, ей-богу, подохнем тут у ворот!
– Погодите малость, уважаемые! Откуда мне знать, что бог шлёт к нам в замок таких знатных гостей. Сейчас спустим вам лестницу, калитка завалена камнями.
Минуту спустя, оставляя за собой лужицы воды под сводами крытого прохода, стали четыре плечистых человека в лёгких кольчугах и обычных остроконечных шлемах с мечами и чеканами. Пробраться через вражеский стан ночью в ином вооружении было невозможно. Выглядели они крайне утомлёнными, и Андрийко послал за Грицьком, чтобы тог заменил его на страже, а сам повёл братьев Зарубских и князя Курцевнча к себе. Промокшие до нитки гости переоделись в сухое платье, пахолок принёс согретого мёда с кореньями, они выпили и пришли наконец в себя. Молодой Курцевич был русый крепыш, примерно лет тридцати, с огромными усищами и бритым подбородком. Судислав – двадцатилетний парень, подвижный и многоречивый, вмешивавшийся в разговор и без конца подсказывавший князю, что ему надо говорить. Давид – угрюмый, смуглый молодец, ровесник Горностая, поглядывал на всех своими чёрными глазами и хмурил морщинистый лоб. Он тоже говорил мало. Не умолкал лишь Судислав.
– Спрашиваешь, приятель, откуда мы взялись? – не запинаясь, тараторил он. – Из мира, братец, от людей, весточку вам принести, бедненьким затворникам луцкой пустоши. Вы тут ничегошеньки не знаете, не ведаете, а там столько разных разностей случилось, одни во славу нашего великого князя, другие на наше поругание, посрамление и горе! Да, да…
– Да, да! – пробубнил Курцевич, а Давид нахмурился.
– Вот мы и подумали: «Там, в Луцке, осталось всего двое бояр с толпою ратников, точь-в-точь как в Пруссии: один либо два рыцаря и несколько сот кнехтов, которые, подобно куклам, что показывают скоморохи, по данному знаку идут, останавливаются, стреляют. Вот там порядок, а не то, что у нас». Правда?
– Правда! – точно эхо отозвался густой бас Курцевича.
– Вот я и говорю: пойдём к ним! Но Загоровские, Бабинские, Воловичи, Семашки закричали, что Юрша с боярами поступил как тиун со смердами-коланниками, и потому им пришлось до осады покинуть Луцк и будто ещё хотел перерезать всех их собак и лошадей, чтобы посолить впрок.
– Это неправда, – заметил Горностай, – у нас ведь нет ни корма, ни конюшен, в мирное время лошади стоят в Подзамчье, а тут только пять-шесть воеводских да служебных для посланцев.
– Неправда? Жаль, а мы-то надеялись увидеть такой порядок. «Потому-то, говорю, нам и надо о Луцк. Несколько бояр им-де всегда пригодятся, хотя бы для смены при мужиках-ратниках». И пошли, а шло нас восемь…
– А где же ещё пятеро? – спросил Андрийко, которому уже начинала надоедать говорливость гостя.
– Тут неподалёку, в лесах. Прикажи, братец, завтра ночыо зажечь на башне костёр, это будет знаком, и они придут. Над рекой стоят дозорные, но сторожевых челнов нет, потому можно ночью подплыть к самой калитке…
Андрийко поднялся.
– С радостью приветствуем вас, досточтимые бояре, в нашей крепости, тем более что нам и в самом деле тяжко без помощи бояр-воинов. Запомните, однако, беспрекословное повиновение у нас первое дело. Тут ие спорят, не расспрашивают, а слепо выполняют приказ. Непослушным места здесь нет, как нет его и для трусов. Вот и теперь, уважаемые бояре, должен сказать, что существует приказ, все новости немедленно сообщать воеводе. Поэтому прошу следовать за мной!
– Как? Даже не выслушав вести из Подолии и Киевщины? – удивился Судислав.
– Конечно, нет, – ответил Горностай, беря плащ, – первым их слушать может только воевода. Пойдёмте!
Юрша принял пришедших с суровым достоинством, но в душе был рад такой подмоге. Их приход доказывал, что они не боятся войны и этого так осуждаемого всеми и ненавистного боярам войскового повиновения. Однако недолго пришлось ему радоваться. По мере того как болтливый Судислав рассказывал новости, чело боярина всё больше хмурилось.
В начале войны по всей Подолии народ стал подниматься против панов, а недобрая о них слава привлекла немало добровольцев с Киевщины. Князь Федько Несвижский и ещё несколько бояр возглавили ватаги, и и вскоре вся восточная Подолия была очищена от шляхетской саранчи. Однако боярство, так охотно принявшееся прибирать к рукам имения шляхты или подобных Кердеевичу или Бучадскому перевертней, вскоре утратило желание к борьбе, поскольку великий князь приказал дожидаться молдавского воеводу и крымских татар, обещавших помощь в войне с Ягайлом. Посланцы князей Чарторыйских, Сигизмунда Кейстутовича и Гольшанского заявили, будто Свидригайло не хочет, чтобы в войне участвовали мужики, и призывает лишь бояр, обязанных по долгу службы идти на рать из своих пожалованных земель. Курцевич, Судислав, Давид и ещё несколько других направились было домой, но по дороге встретили беженцев с юга. Те рассказали страшные вещи о том, как по русским сёлам бесчинствуют союзники Свидригайла. «Ни кровли, ни скотины, ни бабы, ни девчины не осталось от Бакоты и Брацлава до самого Киева!» – говорили они. Холопов угнали в неволю, женщин и девушек – отдали молдавской челяди либо в татарские гаремы. Брацлавщина и южная Киевщина превратилась в пустыню, а ограбленный, измученный, истерзанный народ в один голос вопиет на своего князя, называя его отцом волка, старые же люди говорят, что и в былые времена народ бежал от своих князей к татарам; пусть лучше будет государем могучий иноплеменник, чем бессильный земляк. И только после того, как на Волыни они встретили бояр Зарубских, которых выгнал Юрша, решились отправиться в Луцк.
– Несвижский много рассказывал нам о возрождении державы Владимира Святого, – закончил Судислав, – вот мы и думаем, что без свободного народа ей не возродиться. Ты, воевода, единственный, кто возглавил ратников-простолюдинов, ты единственный борешься за него, и потому мы и пришли к тебе!
– Ага! К тебе, – подтвердил Курцевич и вытаращил свои большие рыбьи глаза на потемневшее лицо Юрши.
XXIV
До поздней ночи горят свечи в бронзовых подсвечниках на столе у воеводы. Их пламя покачивается от дуновения ночного ветерка. На столе ни кубков, ни чарок, лишь свитки пергамента разной величины, большая серебряная, итальянской работы чернильница, несколько тростниковых перьев, воск, печать да шнур, которым скрепляют печати. За столом сидит Андрийко, его длинные кудри спадают на жёлтый лист пергамента. Рядом воевода с хмурым, суровым лицом диктует письмо великому князю, в котором объясняет, в силу каких причин бояре покинули замок. Быстро бегает рука по пергаменту, лилия за собой ровные ряды букв. Наконец послание готово, воевода ставит подпись и печать.
– Вот так! – говорит он. – Из рассказов Судислава и Давида получается, что бояре обвиняют меня в том, будто я прогнал их отсюда. Беда, конечно, не велика, поскольку осада закончилась отступлением врагов, но если великий князь подоспеет хотя бы с небольшим войском, то разгром всех вооружённых сил короля будет полным. Однако суть заключается в том, чтобы Свидригайло воочию убедился, как мужик-ратник поддерживает его борьбу под водительством простого боярина и что мужик этот не требует ничего, кроме личной свободы, которую до сих пор давала ему «Русская правда». Ты расскажешь великому князю об осаде и постараешься убедить, что своенравные бояре, князья и вельможи хороши лишь тогда, когда великокняжеская власть опирается на свободного и вооружённого огнищанина. Лишь он один послушает беззаветно великого князя, не спрашивая «почему?» и «зачем?», и смело пойдёт за своим поводырём даже на смерть. В нём таится неисчерпаемая сила великана, перед ней никто не устоит и никто её не одолеет.
Андрийко поднял голову.
– Я понял вас, дядя, – сказал он. И хотя я молод, намного моложе вас, понял хорошо, что старый наш порядок не возродит могучей державы Святого Владимира. Слишком мала сила в руках князей и боярства и велика – в народе. В Италии, Швейцарии, как рассказывают бывалые люди, весь народ объединяется под началом господ и князей; у нас вместо народа – челядь, способная лишь разбазаривать всё, что осталось от золотого прошлого, но не строить новое, да ратники. Если великий князь не обопрётся в своей борьбе на русский народ, наша независимость, свобода страны и вера погибнут.
– Это я и хотел от тебя услышать. Дай бог, чтобы великий князь прислушался к твоим речам, хоть и очень в том сомневаюсь.
Андрийко устремил свой взор в грустные глаза воеводы.
– И я тоже, – подтвердил он, – но верю в милость господню к нам, к нашему народу и к нашему князю.
– Блаженны верующие! Верь, но не строй ничего на вере…
Андрийко сжал зубы. Он понял, что хочет сказать воевода, но мало было ещё в юноше хладнокровия и горького опыта, которых никакими поучениями не заменишь. Догадки и опасения, высказанные воеводой, начисто смешали его образ мыслей, и весь мир перевернулся в глазах юноши. Он не понимал, как можно не заметить очевидной истины, поскольку не знал, что в зрелом возрасте правда и ложь измеряются расчётом, а не чувствами. Там же, где преобладает расчёт, действительность зачастую становится ложью, а ложь – действительностью, иначе думают лишь дети и праведники…
– Блаженны верующие! – повторил Юрша спустя минуту. – В том-то и беда, что великий князь не даст себя увлечь, да ещё тебе. Он ведь государь, а у государя нет ни друзей, ни врагов, а лишь одни расчёты…
В лесах над Стырем прокричал филин. Протяжно, тоскливо отозвалось эхо и замерло вдали.
– Скоро рассвет! – вставая, сказал Юрша. – Ступай, сынок, на покой, выспись как следует, а завтра вечером – с богом, в дорогу!
Долго… долго не мог ещё заснуть Андрийко. Перед глазами проплывали чередой происшествия минувшего года, и каждое из них заканчивалось грустно и тоскливо. Каждое предрекало безнадёжность начавшейся борьбы, и всюду вставали препятствием к осуществлению мечты люди, от которых он ждал скорей поддержки, чем враждебности: Свидригайло, Ягайло, волынское, подольское и галицкое боярство – все они, казалось, стали людьми вчерашнего дня. Неужто никто не замечает той новой силы, в которую верят Юрши, Несвижские, Рогатинские, Носы? Всё меркнет, становится непроглядным, распадается. Неужто не удастся увидеть рассвет нового времени нам, верящим в грядущее счастье народа? И почему же так получается, что имя великого князя так с этим связано?
Уже совсем рассвело, когда Андрийко смежил глаза. Проспал он до самого обеда, потом вместе с Горностаем познакомил приезжих с замком и со службой на стенах. Стан врага по-прежнему находился в Подзамчье, однако у рвов не было ни живой души. Лишь порой налетали тучи ворон, чтобы поживиться стервятиной: из замка стреляли в сбежавших из стана в поисках пищи голодных собак. Веление Юрши стрелять в приближавшегося ко рву человека или зверя ратники выполняли охотно, говоря:
– Собака-шляхтич или его собака – одно и то же!
Бояре диву давались, видя порядок и точное выполнение приказов. Никому из ратников не приходило и в голову пускаться в расспросы. Приказ оставался в силе до его выполнения, а назначенные десятские и сотники следили за этим. Поэтому Горностай, Грицько или Андрийко появлялись на стенах лишь изредка и спрашивали:
– Кто на страже?
Мигом появлялся дежурный сотник.
– Караульных у застав сменили? – спрашивали они. – Свинец накрошен? Смола к ночным кострам на башню перенесена?
И на все эти вопросы звучал постоянный ответ: «Да, боярин!»
День выдался хмурый, неприветливый. Серое небо нависло над землёй свинцовыми тучами, время от. времени моросило. Однако было тепло – после холодных августовских дней наступил тёплый сентябрь.
Вечером в воздухе похолодало, с реки и прибрежных болот поднялся густой туман, укутав стан, леса и реку. Видно было перед собой лишь на несколько шагов. Воевода велел удвоить стражу и выслать по ту сторону рва дозорных, чтобы следили: не помышляет ли враг, пользуясь завесой тумана, напасть на замок, а сам позвал Андрийку к себе. Юноша знал, что это значит, собрался в дорогу и направился в палаты.
Воевода встретил его как родного сына, поцеловал в голову и сказал на прощание:
– Да хранит тебя пречистая дева и святой Николай-угодник! И пусть премудрость божья направит тебя, сынок, на путь истинного благоразумья! Иди в Степань и расскажи великому князю всё, что знаешь, только говори с оглядкой, выбирай слова! Свидригайло скор на руку и вспыльчив, а умишко у него комариный. Потому немало в нём коварства и подозрительности, но нельзя отнять и благородства – слово он держит. Это благородство и отличает его от прочих Ольгердовичей и Кейстутовичей, и пленяет многих наших людей. И постарайся его воодушевить к походу на Луцк. Если тебе это удастся, мы исподволь привлечём его на свою сторону и тогда, может, склоним прийти на помощь народу в борьбе за независимость. А не удастся, поезжай в Руду или Юршевку, когда потребуется, я тебя позову. Возьми лук и меч. Доспехи оставь здесь, деньги тоже. А теперь, будь здоров, сынок, до свидания в чистом поле под сурнами и стягами свободной Руси и её князя. С богом!
Пробраться через Луцк было нетрудно. Андрийко знал, что польское рыцарство, не сумевшее уберечь собственный лагерь, не ставит стражу на тропах и реке. И дозорными они были плохими, не то что мужики. И всё-таки идти прямо через стан он не мог, прятаться в прибрежном камыше или лозняках тоже не приходилось: и то и другое вырубала челядь на крыши шалашей или для корма коней и на прутья для мостов-плотов. В первые дни осады можно было пройти вдоль вражеского лагеря с целым войском, теперь же Андрийке пришлось прокрадываться вдоль самого берега или брести по воде.
Спустившись по верёвке на ту самую тропу, откуда вчера прибыли гости из Подолии, он через минуту очутился у самой воды под крутым берегом Стыря. Лишь едва уловимый шелест да тихое журчание говорили с том, что он стоит над взбухшей от дождей рекой. В обычное время Стырь не шумел и не торопился. Стены замка и противоположный берег утопали во мраке. Где-то тут, подумал Андрийко, у берега чёлн, на котором приплыли гости. Как на беду, темень стояла такая, что ходить у самой воды было опасно. Потому, не помышляя больше о лодке, он торопливо зашагал вдоль берега. С левой стороны то и дело чернели кусты лозы и заросли ольшаника, потом их не стало, но привыкшие к темноте глаза уже различали линию, отделяющую реку от крутого берега. Идти по кромке берега было трудно, вода покрыла пологую часть берега, и юноша сосредоточивал всё своё внимание, чтобы сохранить равновесие. Вдруг он оступился, замахал в воздухе руками, как утопающий, и всем телом откинулся назад. Андрийко шёл медленно, почему а и шлёпнулся в грязь тут же, а не угодил в преграждавшую ему путь чёрную канаву. «Что же это такое?» – подумал он и тут же сообразил, что как раз в этом месте вливается в реку подземный сток замкового рва.
«Беда! Как его перейти? Ведь в канаве грязи по колено, а то и выше… Как можно было, пустившись в путь, не взять с собой вёсла или палки… Конечно, с ними неудобно, как рогатому оленю в чаще… Что ж! Сапоги высокие, воды в канаве почти нет, надо прыгать!» Он встал, отступил на несколько шагов, разогнался… раз… два… три… прыгнул, зацепившись за что-то твёрдое, шлёпнулся всем телом в грязь. Шапка слетела с головы, а руки по локти погрузились в жирный ил. Боже! Что такое? Опершись на одну руку, он вытащил из грязи другую, протянул её к этому твёрдому предмету и нащупал нос лодки, которую прибывшие в замок гости спрятали в канаве. Андрийко чуть не вскрикнул от радости.
Выкарабкавшись из болота, он одним махом сдвинул лодку к реке. И когда почувствовал, что она легла на воду, вскочил в неё и уселся, весь запыхавшийся, на корме. Завязший в иле нос поднялся, и лодку тотчас подхватило течение.
Не обнаружив ни весла, ни шеста, юноша вскоре понял, что решение сесть в лодку оказалось не самым удачным. Течение крутило её, как щепку, поворачивало то кормой, то носом, а время от времени лодка становилась поперёк течения и начинала отплясывать по бурным волнам бешеный гопак. Налетев на первую же мель или колоду, она неминуемо должна была перевернуться или зачерпнуть веды и пойти ко дну, и горе тогда Андрийке.
Течение понесло его на середину реки, левый берег скрылся во тьме, но самым скверным было то, что скорость всё увеличивалась. Воздух всё сильнее бил в лицо, и Андрийко понял, что ему грозит гибель, а в лучшем случае – задержка. Вытащив нож, он принялся выламывать среднюю, самую длинную скамью. После некоторых усилий в руках юноши оказалась доска, которой можно было управлять лодкой. Как только она стала по течению, качка прекратилась, но скорость увеличилась. Стрелой мчался Андрийка сквозь мрак, радуясь, что под его покровом проплывёт мимо вражеского стана без всяких помех. Дорога в Степань казалась уже открытой, и в воображении юноши стал складываться ход предстоящей беседы со Свидригайлом.
Час за часом он плыл всё дальше и дальше. Незадолго до рассвета выглянул месяц, и хотя он прятался то и дело за тучи, всё же туман поредел и можно было различить стоявшие, точно призраки, прибрежные леса. С востока потянул свежий утренний ветерок. Он постепенно крепчал, и под его дуновением туман заклубился. Мокрый и усталый юноша почувствовал холод и голод. Когда лодка вошла в более спокойное течение, он поднял руку за сумкой, но, к превеликому своему удивлению, ничего, кроме обрывка полотна за спиной, не нащупал.
Сумка, видимо, оборвалась, когда он прыгал через канаву, и упала в воду. Андрийко с тревогой подумал, что ему придётся высадиться из лодки и искать себе пропитание в каком-нибудь селе, и то не приречном, поскольку все они были либо разграблены и сожжены шляхтой, либо покинуты жителями, а далеко в лесу.
Тоскливо, с нетерпением ждал Андрийко рассвета, и вот, наконец, забрезжило. Тогда он принялся осторожно грести к правому берегу. Причалил он неподалёку от раскинувшегося вдоль реки опустевшего села. Привязав лодку к вербе, он направился туда, рассчитывая раздобыть сухих дров для костра и что-нибудь поесть. Грустно было смотреть на безлюдные, брошенные жилища. Отворённые двери хат, поломанные плетни, пожарища у самой реки – всё говорило о том, что враг здесь уже побывал и похозяйничал по-своему. Домашняя утварь была изломана, войлочные подстилки разорваны, посуда побита, у навозных куч валялись гниющие коровьи или телячьи шкуры и свиные головы. Видно, враг всё же кое-что разыскал в покинутом селе и потешил свою душу. Зато в огородах Андрийко нашёл чеснок, редьку, петрушку, лук и нарвал довольно много зелени, чтобы сварить похлёбку. Искал он по хатам и хлеба, и соли, но ни того ни другого не нашёл.
На небольшом пригорке стояла церковка и боярская усадьба. В церкви было полно навоза и кала, шляхта нарочно сделала из неё хлев. На церковной ограде висел на верёвке старенький священник с белой бородой, лицо его было исклёвано воронами. Нестерпимый смрад наполнил воздух, и всё-таки, видимо, разбойники погостили здесь совсем недавно, потому что тело полностью сохранилось. Ни одного трупа Андрийко в селе не обнаружил, мужики, конечно, заранее покинули свои жилища, и лишь старенький священник остался при церкви.
Перекрестившись, юноша вошёл в опоганенную церковь: поруганная, она казалась ему вдвойне святой, стал на колени и вполголоса принялся читать молитву.
«Молитвами святых отец наших, господи, Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!»
– Помилуй нас! – повторил кто-то у него за спиной, точно эхо, а вслед за этим послышался тихий плач. Юноша вскочил с колен и оглянулся. Из угла на него смотрела пара больших детских глаз, лихорадочно горящих от безумия или болезни.
– Кто ты? – спросил юноша, подходя к ребёнку.
Из угла появилась девочка лет десяти, грязная, оборванная, страшная.
– Я… Кто я?.. Не знаю, ничего не знаю! – заговорила она торопливо. – Но ты… ты кто? Правда, что ты не чужой?..
И, став на пороге, она вся напряглась, чтобы в любую минуту бежать.
– Не чужой, дитятко, я свой! – ответил Андрийко.
– Я так и думала, потому что ты стал на колени, как и я когда-то, и люди, и дедушка… Но людей нет, и меня нет, остался только дедушка…
– Дедушка? Где же он?
Девочка подняла вверх руку, и её потухшие глаза снова загорелись диким огнём.
– Дедушка? Дед здесь… Качается…
И, всплеснув руками, она так захохотала, что у Андрийки по спине пробежали мурашки. Он понял всё: девочка приходилась священнику внучкой…
– Пойдём со мной готовить обед! – сказал он ласково и взял её за руку.
– Пойдём! Пойдём! – прошептала она и вдруг вздрогнула всем телом.
– Я боюсь… они приходят сюда по ночам… чужие… рогатые, из пасти пламя… у, у! Я боюсь… они качают дедушку на ограде…
Взяв охапку зелени, Андрийко пошёл за девочкой на боярскую усадьбу в свиной хлев. К великому удивлению, юноша обнаружил в старом соломенном кошеле, накрытом пастушьей сермягой, изрядный запас ржаных сухарей. Бог знает, каким чудом они уцелели от голодных глаз налётчиков. Андрийко порубил в щепы дверь, развёл огонь и сварил в старом горшке, который он взял в корыте, походную похлёбку с сухарями. Девочка, не евшая две недели горячего, с жадностью накинулась на похлёбку и вскоре тут же на соломе уснула. Тем временем солнце поднялось высоко, разогнало туман и впервые за несколько дней выглянуло из-за туч и осветило землю. Одежда на Андрнйке просохла, тело от огня и пищи разморило, веки отяжелели. Какое-то время он боролся с искушением лечь, но усталость победила, и он уснул.
Далёкий топот нескольких лошадей разбудил его. Он вскочил и, протирая глаза, кинулся к двери.
«Что это? Ещё утро?.. Да нет! Красное зарево заливает усадьбу. Это вечер».








