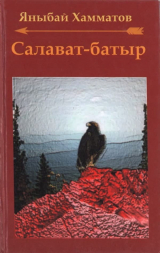
Текст книги "Салават-батыр (СИ)"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
IX
Из-за постоянных допросов, следовавших один за другим, в Симбирске Пугачева продержали едва ли не весь октябрь, и поэтому в Москву он прибыл лишь в начале ноября. Два месяца арестанта продержали в специально оборудованном помещении на Монетном дворе прикованным к стене. В таком унизительном положении, сломленный, он дожидался решения своей участи.
Приговор, вынесенный генерал-прокурором Сената Вяземским и утвержденный Екатериной, был более чем суров. Пугачеву должны были отрубить голову, насадить на кол, тело его четвертовать, а расчлененные части разнести по четырем частям города и сжечь.
К четвертованию был приговорен и захваченный в плен за несколько дней до заговора пугачевский генерал-аншеф Афанасий Перфильев.
Не избежали смертного приговора Тимофей Падуров, Максим Шигаев и крещеный иранец Василий Торнов.
Досталось также близким Емельяна Пугачева. Его семья и вторая жена «императрица» Устинья были отправлены на вечное поселение в Кексгольмскую крепость.
Пять организаторов заговора против Пугачева были помилованы и от наказания освобождены. Восемнадцать других пугачевцев были приговорены к наказанию кнутом. Кроме того, им должны были вырезать ноздри, после чего их ожидала отправка на каторгу.
Морозным утром десятого января 1775 года к выбранной в качестве места проведения публичной казни Болотной площади повалили толпы народа. Отовсюду был виден сооруженный ночью высокий эшафот, оцепленный воинскими частями. Посреди помоста возведен столб с колесом и острой железной спицей наверху. Здесь же стояли три виселицы, предназначенные для Торнова, Шигаева и Падурова.
Следя за последними приготовлениями, огромная толпа, изрыгая пар и притопывая, с нетерпением ожидала начала «всенародного зрелища».
Представление началось, когда людское море всколыхнулось от чьего-то возгласа, эхом прокатившегося по огромной площади:
– Везут! Везут!..
– Где, где? – нетерпеливо спрашивали друг у друга взволнованные зрители, привставая на цыпочки и выворачивая шеи.
– Да вон же, вон – в той стороне, откуда кирасиры идут!
– И что? Кирасир-то я вижу, а Пугачева – нет, – беспокоился кто-то.
– Ну, как же! Как раз за кирасирами сани едут, вишь? – откликнулся стоявший поблизости рослый детина.
– Ну?!
– А в санях вроде как три мужика сидят. Который без шапки да в белом тулупе, на все стороны кланяется.
– А другие?
– Один – барской наружности, в шубе, а второй боле на попа смахивает.
– Стало быть, простоволосый и есть самозванец.
– Похоже, что так.
– И каков он из себя, не видать? – полюбопытствовала немолодая женщина, потирая шерстяными рукавицами нос и щеки.
– Чернявый, с бородой, по-казацки стриженый.
– Ой, ты господи, а чего это он такой худющий, ажно скулы торчат! – воскликнули с другой стороны.
– А ты посиди-ка на цепи четыре месяца, точно пес… – донеслось откуда-то сзади.
Тем временем сани подъехали к лобному месту и остановились. Сопровождавшая их конница тоже встала. Рядом сгрудились закоченевшие от долгого пребывания на морозе полуодетые арестанты, пригнанные для лицезрения казни. Среди них находились бывшие пугачевские военачальники Каранай Муратов и Иван Зарубин, по прозвищу Чика.
Прибывший вместе с Пугачевым чиновник Тайной экспедиции возвел его по ступенькам крыльца на эшафот. Вместе с ними взошли на помост Перфильев, духовник и еще один чиновник.
Встав на указанное ему место, самозванец обвел внимательным взглядом собравшуюся у его ног, как бывало, огромную толпу и отвесил низкий поклон. Никогда не видевшие его доселе люди с трудом верили, что этот смиренно кланяющийся им суховатый бородатый мужичонка с изможденным лицом и есть тот самый Емельян Пугачев, который претендовал на царский трон и целый год держал в страхе вельмож, равно как и государыню-императрицу. Знавшие его прежде тоже были разочарованы. Они молча переглядывались, как бы говоря друг другу: да, сдал наш батюшка, а ведь было время…
Зато все заметили, каким живым блеском играли его жгучие черные глаза!
После того как раздалась команда «На караул!», один из чиновников, который стоял поближе к Пугачеву, выступил вперед и принялся зачитывать приговор Сената.
Толпа, затаив дыхание, ловила каждое произносимое им слово и время от времени ойкала.
Сам Пугачев как будто и не слушал. Он бубнил себе что-то под нос и беспрестанно крестился. Глядя на него, осеняли себя крестом люди в толпе и некоторые солдаты. Одни робко надеялись на помилование, другие с нетерпением ждали казни.
Наступившее после оглашения приговора тягостное молчание нарушил сам Пугачев.
– Смилуйтесь надо мной, православные! Простите мне прегрешения мои… – захрипел он, отказываясь верить в то, что это были последние мгновения его жизни, и все еще на что-то надеясь. – А все ради вас, – вдруг крикнул он срывающимся голосом. – За то, что вольностей для вас хотел…
Наблюдавший за ним в окружении своих ординарцев и чиновников обер-полицмейстер Архаров испугался, что Пугачев, увлекшись, вот-вот объявит себя императором Петром Федоровичем и начнет баламутить недозволенными речами толпу, и резво подскочил к нему.
– Ты лучше правду скажи. Подтверди перед всеми, что ты есть казак донской Емелька Пугачев! – потребовал он и замер, с напряжением ожидая ответа.
– Так, государь, я – донской казак Зимовейской станицы Емельян Иванович Пугачев, – послушавшись его, громко и внятно произнес знаменитый предводитель бунтовщиков.
Пока огласивший приговор чиновник со священником сходили вниз, он, воспользовавшись моментом, размашисто перекрестился, поклонился на четыре стороны и еще раз скорбно произнес:
– Прости, народ православный! Прощайте, люди добрые!..
С одного конца площади до другого прокатился гул.
– Гляди, гляди! – тут и там толкали локтями друг друга люди.
– А чаво? – спросил, завертев головой, один зазевавшийся мужик.
– Чаво, чаво! Пугач с нами прощается, вот чаво!..
Заметив, как заволновалась толпа, экзекутор нетерпеливо взмахнул рукой, и в тот же миг зазвучала барабанная дробь, заглушая Пугачева, продолжавшего еще что-то бормотать и неистово кланяться.
Экзекутор грозно взглянул на замешкавшихся палачей и тряхнул головой. Подскочив к Пугачеву, они легко сорвали с него тулуп и, схватив за руки, подтащили к плахе. Тот оказал им сопротивление, попытавшись вырваться. Стараясь покрепче его ухватить, палачи разодрали на нем новенький малиновый полукафтан. Сбитый с ног, Пугачев рухнул на эшафот. Тогда-то все и свершилось. Блеснув на солнце острым и плоским клинком, секира резко поднялась и тут же опустилась…
Народ охнул. Не выдержав движения массы, обрушилась одна из закрепленных над канавой опор. Цепляясь друг за друга, люди старались как можно быстрее выкарабкаться, чтобы досмотреть драму до конца.
Палач с торжествующим видом поднял за волосы окровавленную голову, и со всех сторон раздались душераздирающие вопли.
– Пугачу башку отрубили!
– Кончали Емельку!..
Затем настал черед Афанасия Перфильева, обезумевшего от только что пережитой им вблизи страшной казни близкого товарища. В отличие от раскисшего под конец Пугачева, гордый казак отверг духовника и за всю церемонию не проронил ни звука.
В тот же день увезли в Башкортостан приговоренного к отсечению головы Ивана Зарубина-Чику. Кому-то взбрело в голову казнить его в том самом месте за Агиделью, откуда он год тому назад грозил Уфе. Власти изощрялись…
* * *
Узнав о казни Емельяна Пугачева, престолонаследник Павел Петрович впал в уныние. Его мать, Екатерина Алексеевна, напротив, испытала немалое облегчение и на радостях села писать письмо Вольтеру:
«…Маркиз Пугачев, о котором вы опять пишете в письме от 16 декабря, жил как злодей и кончил жизнь трусом. Он казался таким робким и слабым в тюрьме, что пришлось осторожно приготовить его к приговору из боязни, чтобы он сразу не умер от страха…»
Екатерина перечитала эти строчки и задумалась: а не осудят ли ее в просвещенной и боготворимой ею Европе за то, что она столь беспощадно обошлась с морально уничтоженным человеком, тем более что смертная казнь в России была отменена Елизаветой уже лет двадцать тому назад… Что ж, придется изобразить что-нибудь эдакое, что непременно оправдает ее в глазах ученого друга, склонит оного не к осуждению, а к оправданию и уважению совершаемых ею поступков…
Она провела несколько раз по носу растрепанным кончиком гусиного пера, потом обмакнула его в чернильницу и начертала: «Если б он оскорбил одну меня… я бы его простила. Но это дело – дело империи, у которой свои законы…»
После расправы над Пугачевым и его ближайшими сподвижниками императрица рассчитывала заняться Салаватом Юлаевым.
X
В начале февраля в казанскую секретную комиссию был доставлен Юлай Азналин. Туда же перевели и Салавата.
Встретившись с любимым сыном после трех мучительных месяцев разлуки, вдали от родного дома, среди чужих, враждебных им людей, Юлай не смог даже прижать его к сердцу.
Потрясенные, в первую минуту оба не в состоянии были вымолвить ни слова.
– Салауат, улым, что они с тобой сделали?! – с болью выдавил из себя Юлай, кое-как оправившись от шока, и по впалым, изможденным его щекам потекли из глаз мутные и едкие от горя струйки.
Тот тоже не мог смотреть на отца без слез.
– Не думал, что увижу тебя здесь, атакай. Как я погляжу, тебе тоже досталось, бахыркайым[92]92
Бедненький мой.
[Закрыть]…
– Что поделаешь… Тимаш помиловать обещал. Купился я, ахмак, на его посулы.
– А все из-за меня, атай.
– Не говори так, улым. Это судьба… Да я ведь и сам тебя таким воспитал… Ладно хоть, что теперь мы вместе.
Через неделю, следуя распоряжению Панина, казанский губернатор Мещерский отправил закованных в кандалы отца и сына под усиленным конвоем в Москву, куда их привезли девятнадцатого февраля. А уже двадцать пятого сняли первый допрос.
Председателем следственной комиссии по делу Салавата Юлаева и Юлая Азналина был назначен московский генерал-губернатор князь Михаил Никитич Волконский, общее руководство судебно-следственным процессом возложено на генерал-прокурора Сената Александра Алексеевича Вяземского.
Во время своей первой встречи с Салаватом князь Вяземский был настроен к нему достаточно благожелательно и держался как истинный аристократ. Но убеждаясь с каждым разом, насколько тот непреклонен, он все более ожесточался.
Не отрицая своего участия в восстании, Салават настаивал на том, что искренне верил в царское происхождение Пугачева, и упорно отметал обвинения в предумышленных убийствах. Даже обер-секретарю Тайной экспедиции Сената известному «инквизитору» Шешковскому не удалось выбить из него необходимых следствию признаний.
Тайная комиссия была вынуждена передать дело в Оренбург на доследование. Решив поручить подследственных генерал-губернатору Рейнсдорпу, Вяземский подготовил для него пакет с уже имеющимися документами, подробными инструкциями и посланием, где он выразил свои пожелания и рекомендации: 1) провести специальное расследование в отношении Юлая Азналина, выяснить, причастен ли он к деяниям Пугачева; если доказать причастность не удастся, то наказание не применять, а в случае виновности наказать, «равняясь преступлениям его и… обстоятельствам» 2) касаемо Салавата Юлаева указывалось на необходимость сбора улик и свидетельств, кои подтверждали бы его злодеяния и жестокие убийства, и от которых он не смог бы отпереться; при наличии доказательств следовало прибегнуть к такому суровому наказанию, чтобы навечно поселить в башкирском народе страх; при отсутствии таковых генерал-губернатору рекомендовано было самому определить меру наказания.
В послании подчеркивалось: сколь бы ни были велики злодеяния и прегрешения арестованного, потребно выяснить все до конца, дабы судить обвиняемых по справедливости, и решение выносить лишь при наличии подтверждающих вину документов…
На бумаге все выглядело благопристойно, а между тем участь Салавата была предрешена, ибо проект приговора уже имелся.
Семнадцатого марта закованных по рукам и ногам Салавата и Юлая вывезли из Москвы. Девятого апреля они были в Оренбурге.
Рейнсдорп пребывал в растерянности. У него на руках было два противоречащих друг другу документа, подписанных с разницей всего лишь в один день. Первый из них представлял собой определение Тайной канцелярии – фактический приговор, вторым был манифест императрицы об амнистии участникам восстания.
Оренбургский губернатор не стал брать на себя ответственность и уже через две недели препроводил «немаловажных колодников» в Уфу – «по ближайшему жительства их состоянию» и «по месту, где их злодейства происходили».
Уфимские провинциальные власти как будто только этого и ждали. Незадолго до прибытия Салавата в Уфу Панину была отправлена жалоба местного дворянства на башкирский народ, донимавший их беспрестанными бунтами. И то, что главный его предводитель оказался вскоре у них в руках, было расценено как ответ главнокомандующего на их обращение. Воевода Борисов и его помощники проявили при выполнении поручения Рейнсдорпа большое рвение.
Пока они занимались расследованием, Салават и Юлай дожидались приговора в тюрьме, под которую специально для важных преступников было приспособлено здание магистрата. Их содержали порознь и под усиленной охраной. По отдельности вызывали и на допросы.
Во время допросов Салават вел себя осторожно, разумно, взвешивая каждое слово. Он никого не оговаривал и не выдавал. Когда возникала необходимость оправдаться, Салават ссылался лишь на тех из своих соратников, которым ничего не угрожало: кого уже не было в живых и кто сумел вовремя бежать и надежно укрыться.
Томясь в полном одиночестве в одном из тюремных помещений, Салават задыхался от удушливого смрада и страдал от мучительных болей, причиненных побоями. Но еще невыносимее была тоска по воле. Она рвалась из истерзанной души батыра печальной песней:
Эх, вернулся бы я в дом родной,
Да вот снегом занесло мой путь.
То не снег запорошил путь мой,
Угодил я в руки к лютому врагу.
Нет Салавату дороги домой. Да и кто его там ждет… Салават знал, что гнездо его разорено. Самые близкие ему люди стали заложниками. Страшно подумать, что ждет их впереди – если не гибель, то рабство. Жен отдадут, как водится, к господам в услужение – к тем, кто особенно отличился во время расправы над повстанцами. Детей окрестят, нарекут русскими именами, и следующие поколения потомков Салавата уже не только не будут знать, каких они кровей, их воспитают так, что они, как никто другой, будут ненавидеть башкирский народ. Какой бы приговор ни вынесли ему и его отцу, из всех наказаний это – самое изощренное, подлое и жестокое…
Думая об участи своей семьи, Салават метался по своей клетке, не находя себе места. Нет, он не допустит, чтобы из его детей сделали кафыров и манкуртов. Надо что-то делать. И Салават решил обратиться за помощью к одному из охранников.
– Эй, солдат. Тебя как звать? – окликнул он.
– Мне не велено с арестантами балакать, – нарочито громко ответил тот.
Салават не отважился заговорить с ним вновь. Но караульного разобрало любопытство. Он подумал немного и, понизив голос, сказал:
– Так вот, значит… Яков Федорович меня кличут. А тебе зачем? Можа, нужда какая?
– Нужда, Яков Федорыч, большая-большая нужда, – встрепенулся Салават. – Письмо хочу брату написать.
– Ну?
– Харчи надо, деньги, одежку. Сам видишь, платье мое шибко истрепалось…
– Да уж, что и говорить, от таких харчей и ноги протянуть недолго. Шутка ли – четыре копейки на день, – посочувствовал ему сердобольный солдат Чудинов. – Что ж, бедолага, возьмусь пособить тебе, пожалуй, – согласился он и в следующий раз тайком передал Салавату бумагу, перо и чернила.
Они условились, что при первой же возможности Чудинов вручит письмо нужному человеку. И случай такой вскоре представился.
Постоянно дежуривший у окошка Салават заприметил как-то снаружи своего родственника. Он тут же дал знать об этом Чудинову:
– Яков Федорыч. На улице один башкорт стоит. Передай ему мое письмо.
– Понял. Токмо пускай твой человек малость подождет, покуда смена моя не явится.
Чуть позже, сдав пост сменщику, он вышел на улицу и, увидав неподалеку не одного, а сразу нескольких башкир, растерялся, не зная, кому из них вручить послание.
Он походил-походил и, плюнув, подошел к самому крайнему. Им оказался житель аула Мухамметово Сибирской дороги Мухаммат Кусюков.
– Послухай, ты часом не знаешь Салаватку Юлаева? – отведя его в сторонку, спросил он.
– Как не знать.
– А братца его старшого?
– Хм, братца? – удивился было Кусюков и, вдруг опомнившись, поправился: – Ну да, точно. Брата тоже знаю. Он ведь мой сосед.
Мухаммат Кусюков так ловко выкрутился, что Чудинов, ничего не заподозрив, отдал ему письмо с просьбой передать брату Салавата.
– Будь покоен. Передам прямо в руки, – заверил тот охранника.
Когда Чудинов ушел, Кусюков вскрыл письмо и, пробежав глазами написанный арабской вязью текст, хитро прищурился. Наблюдавший за всем издалека родственник Салавата по имени Сагыр бросился к нему с расспросами. Земляки разговорились. Сагыр агай хотел забрать письмо, но Мухаммат сообщил, что как раз собирается ехать домой и сказал, что мог бы завести его кому следует. Сагыр обрадовался такой оказии и попросил передать послание их общему знакомому Абдрашиту Алкееву, проживавшему по соседству с Шайтан-Кудейской волостью, с тем чтобы тот переслал его родственникам Салавата.
Кусюков твердо обещал исполнить поручение, а сам тем временем помчался к штабу Фреймана.
– Ваша высока пре… прес…хадительства, – трепеща от волнения, угодливо обратился Кусюков к генерал-майору, когда его к нему впустили, и протянул письмо. – Читайте, чего Салаватка пишет.
– Положим, прочесть я сие послание не сумею, – снисходительно произнес тот, пытаясь скрыть, насколько он в нем заинтересован. – Ты уж лучше сам, голубчик, переведи его, ничего не утаивая, и скажи, кому оное адресовано.
Вначале Мухаммат Кусюков поведал, при каких обстоятельствах к нему попало письмо и для кого оно предназначено. Потом объяснил, что Салават учит в нем оставшихся в его волости сородичей, как вызволить его семью, прося их обратиться в Оренбург, в губернскую канцелярию, и через нее – в Сенат, чтобы сообщить о незаконном их задержании. Судя по содержанию послания, для Салавата было большим ударом оказаться в руках уфимских чиновников и узнать, что от их произвола будет зависеть его с отцом участь и дальнейшая судьба их близких.
Распорядившись о розыске всех, кто оказался замешанным в этом деле, генерал Фрейман передал письмо воеводе Борисову. Оно было приобщено к делу как важная улика, несмотря на то, что Салават авторство свое не признал. Он отлично понимал, к каким последствиям это может привести, не только для него самого, но и для бескорыстного солдата Чудинова.
Уфимские власти приложили все усилия, чтобы выставить Салавата перед всем миром в наихудшем свете, показать его отъявленным злодеем и душегубом, об амнистировании которого не могло быть и речи. Такова была их конечная цель. И они успешно справились с поставленной перед ними задачей, не пренебрегая никакими средствами. Все было искусно подогнано под заранее составленный приговор, который был скреплен подписью губернатора Рейнсдорпа пятнадцатого июля 1775 года.
Уфимским провинциальным властям надлежало его в точности исполнить.
XI
Приведение приговора в исполнение было начато, когда Салавата и Юлая, с соблюдением всех мер предосторожности, привезли в их родную Шайтан-Кудейскую волость на Симский завод. Насильно возвращенные к тому времени подневольные крестьяне стали первыми свидетелями их мучений.
После оглашения приговора отца и сына прилюдно отстегали кнутом. Салават получил в тот раз двадцать пять ударов, его родитель – на двадцать больше.
Затем были Усть-Катавский завод, деревня Орловка и не покоренный повстанцами Катав-Ивановск, где Юлая тоже истязали на глазах у сына. После положенных ста семидесяти пяти ударов ему вырвали ноздри и выбили на лице клеймо – буквы 3, Б, И, обозначавшие злодея, бунтовщика и изменника. В результате всех этих пыток Юлай оказался в таком состоянии, что никто не решился везти его дальше. Оставив его, истерзанного и обессилевшего, до конца лета на Катав-Ивановском заводе, палачи прошлись по местам, связанным с активной повстанческой деятельностью Салавата.
С особой жестокостью его высекли на глазах земляков и сородичей в ауле Юлаево. Навсегда запомнили, как наказывали Салавата, жители Ылаклы.
Через Златоуст, Катав-Тамак, Авзян, Инзер, Зигазы и Белорецк его повезли в северном направлении.
Ожидая экзекуции на площади Красноуфимска, батыр стоял с гордо поднятой головой посреди помоста. Он пристально вглядывался в собравшуюся на городской площади толпу, выискивая знакомые лица. Наконец взгляд его остановился на непоседливом чернявом мальчонке, которого держала на руках молодая русоволосая женщина.
Сердце Салавата екнуло. А в глазах Натальи застыл ужас. Заметив, что бывший дружок узнал ее, женщина изо всех сил прижала малыша к груди. Тот стал дергаться. «Мой сын, – с нежностью отметил про себя Салават. – Весь в меня. Такой же непокорный, как я…».
Ему вспомнилось, как во время последней встречи с Натальей он попросил ее назвать их будущего сына Хасаном. Вряд ли она его послушалась. Что ж, уж если законным его детям суждено быть крещеными, разве смог бы он ей запретить сделать все по-своему…
Вынеся без единого стона публичную порку, окровавленный Салават с трудом приподнял голову и посмотрел туда, где он видел Наталью. Но ее в том месте не оказалось. «Все правильно, – подумал Салават, закрывая глаза. – Хватит и того, что я насмотрелся на страдания моего атая… Жив ли он еще?..». Эти мысли горькими слезами просочились из-под его сомкнутых век.
После Красноуфимска свидетелями расправы над Салаватом стали Кунгур, Оса и Елдяк. У деревни Нуркино, где Салават год тому назад сражался с командой Рылеева, ему, как и Юлаю, вырвали ноздри и поставили клеймо. С такой меткой и печатью любой смог бы легко опознать в нем бунтовщика. Но кровавые раны на ноздрях у обоих быстро затянулись. От букв на лице Юлая остались лишь еле заметные шрамы.
Шестнадцатого сентября 1775 года коллежский асессор и переводчик канцелярии Третьяков, которому было поручено провести экзекуцию, рапортовал вышестоящему начальству о проделанной им «работе». Однако, придирчиво осмотрев доставленных в Уфу Салавата и Юлая, чиновники канцелярии выразили свое неудовольствие ее качеством.
– Что это такое?! Почему знаков не видно? Да и кто так ноздри вырезает?! – разорялся генерал Фрейман.
– Никому ничего нельзя доверить, – вторил помощник воеводы Аничков.
– Послать немедля за экзекутором Сусловым! – взвизгнул Борисов, ударив по столу кулачищем. – Ишь, сердобольный какой, разбойников пожалел!
– На мой взгляд, Суслов и сам заслуживает хорошей порки, – заметил секретарь канцелярии Черкашенинов.
– Не извольте беспокоиться, господа, он ее получит, – заверил всех Фрейман.
– А с Третьяковым как поступим? – поинтересовался комендант Мясоедов, приведя в ужас переводчика, с трепетом выслушивавшего высказываемые ему претензии.
– На первый раз ограничимся строгим предупреждением…
Третьяков облегченно вздохнул и, вытащив дрожащей рукой из кармана носовой платок, обтер им взопревший лоб и перекрестился.
– Ну, а с этими что будем делать? – спросил воевода Борисов, кивая в сторону Салавата и Юлая. – Оставлять злодеев в таком виде никак нельзя.
– А мы их еще раз пометим, дабы в случае побега всякий этих сволочей опознать мог, – проговорил с надменным видом Фрейман и грозно добавил: – Да непременно при народе!
Спустя некоторое время приговоренных вывели на городскую площадь, чтобы прилюдно повторить наказание.
Исполосованного, с обезображенным заплывшим лицом Салавата невозможно было узнать. Он еле держался на ногах после перенесенной им пытки. Терпя ужасные муки, он поскрипывал стиснутыми зубами, стараясь не проронить ни звука. Даже когда батыру клещами выдирали до основания ноздри, он и то лишь еле слышно постанывал. Но самым тяжелым испытанием для него было видеть, как издеваются над его отцом.
Клейменные заново, с незажившими ранами Салават и Юлай были отправлены на каторгу.
Из Уфы их вывезли второго октября 1775 года. Путь предстоял долгий, сложный и мучительный: Уфа – Мензелинск – Казань – Нижний Новгород – Москва – Тверь – Великий Новгород – Псков – Дерпт – Ревель – балтийская морская крепость Рогервик.
Конвоировал арестантов конный отряд под командованием поручика Бушмана.
Лежа в повозке под приглядом солдат, Салават страдал под тяжестью стиснувших ему израненные руки и ноги кандалов, но пуще всего разрывала ему сердце предстоящая разлука с горячо любимой родиной.
Коня гнедого я к воротам подпущу.
Я гриву пышную ему в косу сплету.
Отпустить меня домой солдат прошу,
Чтоб проведать смог я семью свою.
Завидев на краю какого-то безвестного башкирского селения толпу, поручик Бушман затрусил вперед и, подъехав к Салавату, напевавшему свою заунывную песню, грубо прикрикнул:
– Мол-ча-а-айть!
После этого два конных конвоира помчались разгонять по его приказу собравшихся людей.
На какое-то время Салават замолк, но едва поравнявшись с отогнанной от дороги толпой, не выдержал и снова запел:
Гордый орел будет вить гнездо,
Даже если застрелят птенцов его.
Подобные мне не склонят головы,
Даже если их заковать в кандалы…
Песня затихла лишь в тот момент, когда драгуны огрели нескольких людей ружейными прикладами.
Провожать Салавата и Юлая выходили и в других башкирских аулах.








