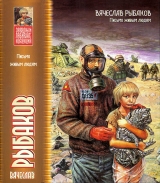
Текст книги "Письмо живым людям"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 62 страниц)
После того, как я все это отговорил – не так гладко, разумеется, как тут написано, и гораздо короче – но, во всяком случае, громко, – началось обсуждение.
Разумеется, на меня немедленно нарисовали карикатуру. Увы, никто от этого не застрахован, даже на академика Сахарова демокруха нарисовала уже несколько карикатур; по крайней мере две их них благодаря телевидению мы все знаем в лицо. Вскочил, размахивая руками, всклокоченный щуплый товарищ и надрывно закричал: «Вот! Вы правильно все сказали! Только русская идея нас спасет! Я тут принес книжку про тайные общества, так в ней прямо написано, что они ихними компьютерами наших детушек нарочно…» Радостный Косарев толкнул меня локтем в бок: «Смотрите-ка, Вячеслав Михалыч, у вас единомышленник появился…»
Потом поднялся поджарый красавец с бородкой, лет чуть поболее среднего: «Милые вы мои! Да о чем тут спорить! В нашем институте уже создана установка, выполняющая те функции, которые должна была бы выполнять, но выполнить не способна, операция крещения. Милые вы мои, у нас уже семь человек вступали в непосредственный контакт с Богом! Они могут подтвердить это сертификатами!»
Потом поднялся пожилой человек с честным, открытым лицом и скромными орденскими планками на сером пиджаке. «Я тридцать лет преподаю основы безопасности жизни и десять лет назад издал брошюрочку про компьютеры, так вот я все уже написал! вы почитайте, почитайте, я там все уже написал!»
Дом ученых – не хухры-мухры.
Впрочем, были выступления и по существу. В основном по такому: все-таки можно или нельзя вставить человеку чип? Вот в чем вопрос! Нужно или не нужно – это за кадром. Можно или нельзя – вот что самое важное для разработки сценариев XXI века!
И тогда я понял, почему мне сразу показались подозрительными несколько лет назад появившиеся в новомодных телефонах-автоматах, работающих не от жетона, а от карточки, надписи «Вставлять чипом вперед». Потому что именно в этой позиции, судя по всему, будут размножаться киборги.
Болонкин утверждает, что искусственный интеллект будет куда более самостоятелен и склонен к неограниченному духовному поиску, чем интеллект человеческий, так что все попытки поставить ему заранее какие-то нравственные рамки, чтобы он не губил людей, бессмысленно. Я от всей души желаю апологетам киборгизации дожить до того сладостного мига, когда какой-нибудь киборг-извращенец, зашедший в своем духовном поиске дальше других, вставит одному из них свой угловатый никелированный чип туда, куда обычно вставляют друг другу все извращенцы. А остальные пусть поют при этом: «Всех, кто мне правильно вставит, встречаю приветственным гимном!»
Какое время – таковы пророкиАпрель 1997,Ленинград
Научная фантастика в собственном смысле этого словосочетания возникла совсем недавно. Жизнь призвала ее к существованию, когда начала набирать обороты промышленная революция, и мало кому понятная индустрия принялась заглатывать и переваривать множество людей – практически неграмотных, со страхом и подозрительностью к этой индустрии относящихся. Мир менялся, а массовое сознание катастрофически не поспевало за этими переменами и не принимало их. Научно-популярной литературы в то время не существовало. Навыков к общеобразовательному чтению – тем более. В этих условиях оказалась чрезвычайно плодотворной идея создания беллетристических произведений, где на витки по возможности занимательного действия нанизывались бы сюжетно мотивированные изложения тех или иных научных и технических сведений и доказывалась бы, опять-таки сюжетными перипетиями, их нестрашность и даже бытовая полезность.
Потребность в популяризации основ научно-технических достижений возникает, когда культурный уровень большинства населения еще чудовищно низок, практически – феодален, но нужды промышленной революции уже подталкивают это большинство к начаткам естественных знаний и минимальной тренировке ума, минимальному привыканию к механизации жизни. Для Франции, например, этот период пришелся на вторую четверть XIX века (классическим примером писателя, удовлетворившего этот никем не названный, но от того не менее ощутимый социальный заказ, является Жюль Верн), для России – главным образом на время первых пятилеток.
Главными героями таких произведений становятся не люди (хотя Жюлю Верну или Александру Беляеву в своих наиболее художественных произведениях удавалось создавать запоминающиеся человеческие образы), но много-много разрозненных научных и технических данных. Сюжеты и персонажи диктуются не человековедческой задачей, не эмоциональной авторской потребностью, а являются лишь средствами сшить эти разрозненные данные воедино и продемонстрировать их прагматическую ценность и результативность. Поэтому громадную роль начинает играть фактор облегченной, даже инфантильной занимательности, развлекательности сюжета.
Как только совершается культурная революция, популяризаторская роль научной фантастики отмирает. Строго говоря, она остается нужной только младшим школьникам, да и то совсем не в той мере, что прежде. Да и то – наиболее ленивым из них; тем, кому скучно читать настоящую научно-популярную литературу.
Когда-то, много веков назад, бытописательская литература, уделяя психологии людей минимальное внимание, чуть ли не сводилась к описанию нарядов, обрядов, насечек на рукоятках мечей и узоров на попонах – но закономернейшим образом переросла эти рамки, как только возросли и трансформировались духовные потребности общества. Точно так же фантастика переросла популяризацию, которая, в сущности, призвала ее на свет в модификации «научной фантастики». Сызнова навязывать ей эту роль так, как это происходило еще совсем недавно, – то же самое, что, скажем, всю так называемую реалистическую литературу загонять в рамки этнографических зарисовок. Тогда, например, от «Анны Карениной», тряся неумолимыми редакторскими ножницами, пришлось бы требовать, чтобы она не с одним Вронским изменила своему старику, а проехалась бы, меняя любовников, по всей России, дабы занимательный сюжет дал возможность неназойливо ознакомить читателя с бытом и нравом российского народа в различных губерниях, в столице и в провинции, на хуторе близ Диканьки и на острове Сахалин…
Однако с отмиранием призвавшей ее на свет популяризаторской функции НФ не умерла. Ибо очень быстро выяснилось, что сюжеты, главным объектом которых является воздействие научно-технических новаций на повседневную жизнь, позволяют авторам показывать не только локальные изменения и улучшения этой жизни, но и, что гораздо интереснее, тотальные, глобальные ее изменения. Показывать, как под воздействием науки и техники трансформируется общество в целом. Показывать общества, возникшие как следствие прогресса – и людей, возникших как следствие появления этих обществ. Уже Жюль Верн нащупал это – вспомним «Пятьсот миллионов бегумы», где сталкиваются два совершенно разных мира, проросших из одной и той же новой техники, различно ориентированной по целям и задачам применения. Но на качественно иной уровень поднял этот прием Уэллс. Его «Сон», его «Освобожденный мир», его «Люди как боги» стали невиданными до той поры образцами утопий, сконструированных не просто по принципу «во как здорово!», а как варианты будущего, закономерно и сознательно созданного людьми из настоящего. Но, начав брать в качестве места действия целиком преображенные общества, фантастика неизбежно вынуждена была отказаться от детальной проработки каждого из научных достижений и каждого привносимого им в мир изменения – и с этого момента перестала быть научной и начала становиться метафоричной.
Уэллс сделал еще одно открытие, чрезвычайно ценное для формирования арсенала приемов фантастики. Он впервые по-настоящему всерьез и по-настоящему художественно показал, что воздействие науки на человечество совсем не обязательно будет положительным. Все зависит от целей, для достижения которых используются новые, искусственно созданные средства. Все зависит от состояния общества, в котором возникают те или иные новации. Так родился жанр антиутопии. И если, скажем, в «Войне в воздухе» крах человечества связывался с конкретным техническим достижением, то в знаменитой «Машине времени» он описывался как результат пошедшего «не в ту степь» прогресса в целом. Антиутопии практически сразу абстрагировались от научных частностей и от промежуточных стадий трансформации общества из того, где живут читатели, в то, где живут персонажи. Началось описание самого результата – и людей, действующих внутри него.
Как только объектом фантастики стали не ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВ, а ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ МИРЫ, виток спирали оказался полностью пройден и, уже на новом уровне, вооруженная беспрецедентным арсеналом приемов создания разнообразнейших сцен для действия, фантастика безвозвратно ушла из той области литературы, где толковали о том, что бы надо и чего бы не надо изменять, и вернулась в ту великую область, где толкуют о том, как бы надо и как бы не надо жить.
Сказать, что после этого она встала в ряд с такими произведениями, как великие утопии Средневековья (теперь воспринимаемые скорее как антиутопии) или положительными и отрицательными мирами Свифта, значит почти ничего не сказать. Во-первых, и сами эти произведения лежат в русле древнейшей традиции, загадочным образом присущей нашему духу. Дескать, стоит только убедительно и заманчиво описать что-либо желаемое, как оно уже тем самым отчасти создается реально, во всяком случае, резко повышается вероятность его реального возникновения в ближайшем будущем; а стоит убедительно и отталкивающе описать что-либо нежелаемое, как оно предотвращается, ему перекрывается вход в реальный мир. Мы тащим эту убежденность еще из пещер, где наши пращуры прокалывали черточками копий нарисованных мамонтов, уверенные, что это поможет на реальной охоте завтра, и твердо верили, что стоит только узнать подлинное имя злого духа и произнести его, окаянный тут же подчинится и станет безопасен. Когда Брэдбери произнес свою знаменитую фразу «Фантасты не предсказывают будущее, они его предотвращают», он совсем не кокетничал; более или менее сознательно он имел в виду именно это шаманство и заклинательство. Но, коль скоро предполагается, что фантастике доступно ПРЕДОТВРАЩАТЬ то, что автор считает плохим, ровно с той же степенью вероятности можно предположить, что ей доступно и СОЗИДАТЬ то, что автор считает хорошим, не так ли?
А во-вторых, апофеозом этой традиции для европейской культуры явились такие произведения, как Евангелия и Апокалипсис. Книга о царствии небесном и о том, как жить, чтобы в него войти, – и книга об аде конца света и о том, как жить, чтобы через него пройти.
И вот тут придется поговорить уже о религии.
История развития религий – в огромной мере есть история развития составляющих их основу потусторонних суперавторитетов. А эти последние развиваются – во всяком случае, до сих пор развивались – едва ли не в первую очередь по своей способности считать «своими» как можно больше людей, все меньше внимания обращая на их племенную, национальную, профессиональную, классовую и даже конфессиональную – до обращения – принадлежность. Дело в том, что этика, обеспечивающая ненасильственное взаимодействие индивидуумов в обществе, была доселе только религиозной – скорее всего в нашем культурном регионе она уже и может быть только религиозной. Почему нельзя дать в глаз ползущей из булочной бабульке и отобрать у нее свежекупленный черствый батон? Ни логика, ни здравый смысл не дают на этот вопрос ответа. Но если большинство людей начнет вытворять все, что разрешает здравый смысл, общество быстро превратится в ад. Ибо здравый смысл есть не более чем срабатывающий на сиюминутном, бытовом уровне инстинкт самосохранения. Спасает от такого ада лишь необсуждаемое, с молоком матери впитанное ощущение, что бить бабушек в глаз нехорошо. Но, собственно, каким образом такой запрет впитывается с молоком матери? И, даже если запрет впитался, вдруг человек, повзрослев, от большого ума все ж таки задастся вопросом: что такое «нехорошо»? Тут-то и нужен ориентирующий, дающий критерий нравственной оценки действий суперавторитет. Запрет бить бабушек – иррационален, он не от мира сего, он как бы противоречит здравому смыслу. Значит, и поддерживающий его суперавторитет неизбежно должен быть иррационален, внелогичен. И чем сложнее становятся требования этики, чем более они расходятся с требованиями функционирующего вне добра и зла прагматизма – тем более суперавторитет должен становиться не от мира сего. Верую, ибо абсурдно.
На родоплеменной стадии – это первопредок, напридумывавший массу всякого рода табу: то нельзя, это нельзя… Но только по отношению к людям, то есть членам рода. Остальные двуногие и людьми-то не называются, обозначаются совсем иными словами. Но по отношению к своим – многое нельзя. Нельзя, потому что запретил великий предок. А совершишь, что нельзя, – такого перцу предок задаст из того, потустороннего мира!.. свету не взвидишь! Бог в это время еще не спаситель, а только наказыватель. Он не зовет вверх, а лишь ставит в строй и командует: левой! Правой! Охоться! Паши! Делись! И невдомек дикарям, что именно так, стреноживая эгоизм этикой, срабатывает на высшем, уже не сиюминутно-ситуационном, а долговременно-социальном уровне, нащупанном после многовековых проб и ошибок, все тот же инстинкт самосохранения. Раз человек не способен жить вне общества, значит, общество должно жить, а коли так, человеку в обществе многое нельзя. Но это мы словами формулируем; в основе же поступков лежат не слова и даже не соображения, а главным образом переживания, которые всегда предметны: по отношению к тому, и к тому, и вот к этому конкретному человеку – ко всем, кто ощущается как входящий в общество, как «свой» – многое нельзя.
Однако стоит обществу усложниться настолько, что представители различных племен начинают взаимодействовать более или менее постоянно, архаичные племенные суперавторитеты выходят в тираж, ибо вместо того, чтобы склеивать массу трущихся бок о бок индивидуумов в совокупность этически взаимозащищенных единиц, дробят их на «своих» и «чужих». А это чревато взаимоистреблением. Жизнь зовет новых, интегрирующих богов. И они приходят. Постепенно появляются и завоевывают мир этические религии, для которых «несть ни эллина, ни иудея». Критерием «своего» делается братство уже не по крови, а по вере – и, таким образом, братства размыкаются и перестают быть жестко и навечно отграниченными друг от друга. Теперь вход в братство открыт каждому. И возникает новый мощнейший манок – посмертное спасение. Но зато «нельзя» становится гораздо больше, потому что интегральный Бог превращается из наказывателя, главным образом, в спасителя. Наказание остается лишь как нежелательный, вспомогательный, побочный момент его деятельности. Бог, в отличие от первобытных божков и первопредков, тянет человека возвыситься над самим собой. Он ориентирует не на давно уже существующий реальный общий распорядок, нарушения которого однозначно греховны, но на обобщенный и в то же время каждым индивидуально переживаемый идеал, которого практически невозможно достичь, но к которому обязательно с максимальным личным напряжением стремиться. И за это напряжение воздастся вам.
Потребность в очередном скачке такого же рода возникла как следствие секуляризации и затем обвальной атеизации европейского общества в XVIII и в особенности в XIX веках. Выбив авторитет Христа из-под морали, развитие культуры фактически сделало мораль недееспособной, превратило ее в набор мертвых словесных штампов, совершенно беззащитных перед издевательствами живущих здравым смыслом прагматиков. Это поставило общество перед ужасной перспективой, сформулированной Достоевским: если Бога нет, то все дозволено. Позволить этой перспективе реализоваться культура, безусловно, не могла.
Вне зависимости от желания тех или иных тогдашних философов, разрабатывавших те или иные учения, ни один из них не мог пройти мимо этой проблемы. Сознательно или нет, они просто не могли не попытаться отыскать некий новый суперавторитет, который, став для каждого уверовавшего в него человека ценностью большей, нежели собственное «я» с его разгульными и бессовестными запросами, подкрепил бы мораль и сделал ее заповеди непререкаемыми, не подверженными индивидуалистическому размыванию и искажению.
И, разумеется, появились другие – те, кто искал суперавторитет именно в изолированном «я», вырвавшемся из пут этики, и сознательно атаковал интегрирующие суперавторитеты, объявляя веру в любой из них унизительной, словно рабьи цепи, словно костыли, на которых покорно ковыляют те, кто не хочет даже попробовать ковылять без них. «Я» действительно в ту пору вырвалось – и не могли не появиться гении, ополоумевшие при виде забродившего по Европе призрака индивидуальной свободы, которые постарались возвести это «я» на пьедестал. Мораль для них превратилась в как можно более полную реализацию личной воли того, кто достаточной волей обладает.
Именно в это время европейская цивилизация выдвинула совершенно новую концепцию истории. Согласно ей, история не есть топтание на месте или бег по кругу, но поступательный и в значительной степени управляемый процесс восхождения из мира менее совершенного в мир более совершенный. Не стоит сейчас касаться вопроса о том, верна ли вообще эта концепция. Для нас сейчас важно лишь то, что именно она позволила начать отыскивать качественно новые, секуляризованные суперавторитеты, объединяющие людей в способные к беспредельному расширению братства по совершенно новому принципу. Суперавторитеты эти – модели посюстороннего будущего.
Стоит предложить некий вариант будущего общественного устройства, с той или иной степенью наукообразной убедительности доказать его возможность и желательность – и, буде найдутся люди, для которых это будущее окажется эмоционально притягательным, которые захотят общими усилиями попытаться достичь его, все они окажутся братьями по этой новой вере, дающей, как и всякая чисто религиозная вера, столь необходимый индивидууму надындивидуальный смысл бытия. И если брат поведет себя по отношению к брату аморально, суперавторитет накажет: желаемое всеми братьями будущее может не сбыться.
Очень показательно, что эти, так сказать, религии третьего уровня возникли именно в христианском регионе, с одной стороны, знавшем только сверхъестественную опору морали, а с другой – докатившемся до массового безбожия. Дальнему Востоку новая секуляризованная этика была ни к чему, она испокон веков там существовала, разработанная еще конфуцианством, и опиралась на двуединый посюсторонний суперавторитет государство/семья. Мусульманскому региону секуляризованная этика тоже была не нужна – там не произошло обвальной атеизации. А вот европейская цивилизация оказалась в безвыходном положении; кружить по плоскости стало уже негде, пришлось вспрыгивать на новую ступень – а там, разумеется, поджидали новые проблемы. Как и при всяком качественном скачке, предвидеть их заранее было невозможно. И тем более невозможно было разработать заблаговременно методики их разрешения.
Кстати, и серьезная фантастика – тоже практически исключительно детище христианского культурного региона. По-моему, это не может быть простым совпадением.
Прекрасно прослеживается связь этики с суперавторитетами даже на таком простеньком примере, как категорический императив. Не делай никому того, чего не хочешь себе – ведь это краеугольный камень любой этики, и все мы его помним. Но в канонических текстах мировых религий, насколько я могу судить, фраза, где он формулируется, никогда не оставляет его в изоляции, не провозглашает в голой беззащитности и бездоказательности. Делается иначе.
«Не делай человеку того, чего не желаешь себе, и тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье». Конфуций, «Луньюй».
«И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12.
Даже ислам, насквозь, казалось бы, простеганный угрозами в адрес иноверцев, благоговеет перед тою же самой истиной. «Не злословь тех богов, которых призывают они опричь Аллаха, дабы и они, по вражде, по неразумию, не стали злословить Аллаха». Коран, сура «Скот», стих 108.
Как сплетены простенькая, но абсолютно интегральная, общечеловеческая истина категорического императива и суперавторитеты, присущие только данной цивилизации! В христианстве – закон и пророки. Уже здесь, в одной этой фразе, похоже, заключена неизбежность распада на католическую и православную ветви и, соответственно, на евроатлантическую и византийско-восточнославянско-советскую цивилизации. На чем сделаешь акцент – на том и будет держаться главный регулятор совместного существования. Закон – и получишь в итоге правовое общество, ибо в нем, в законе – религиозном ли, светском ли, – гарантия того, что тебе никто не сделает того, чего ты не хочешь себе. Пророки – получим общество, где главным хранителем и защитником этического императива, главной его опорой служит харизматический лидер. А затем тот или иной подход стремительно пропитывают культуру, формируют ее под себя, ибо без оглядки – пусть и бессознательной, только в ощущениях – на эту истину в обществе и шагу не ступишь…
Казалось бы, и конфуцианство чревато подобной же двойственностью. Семья или государство? Государство или семья? Но идеологи имперского Китая ухитрились преодолеть это противоречие, срастив то и другое воедино; государство есть лишь очень большая семья, семья есть минимально возможное государство. И тогда обе ипостаси суперавторитета не раздирают императив, а, наоборот, поддерживают с двух сторон, под обе рученьки.
А вот в исламе – полная теократия. И конечный субъект, и конечный объект этического императива – по ту сторону обыденной реальности.
Какие разные культуры и народы! Но в какой-то момент все, все приходили к универсальному принципу ненасильственного взаимодействия индивидуумов в обществе: если хочешь, чтобы тебя не резали, прежде всего не режь сам. А потом этот принцип возводился в ранг священного посредством жесткой увязки его с основным для данной цивилизации суперавторитетом. И дальше начиналась взаимная энергетическая подпитка. Выстраданная десятками поколений поведенческая истина, прагматичная и земная в самом лучшем смысле этих слов, с полной очевидностью доказывала доброту и справедливость суперавторитета, то, что он плохого не посоветует. А суперавторитет освящал простенькую бытовую истину с горних высей, с полной очевидностью доказывая, что ни в каких рациональных оправданиях и подпорках она не нуждается, она – свята и вечна, как Поднебесная, Христос, Аллах…
Два члена этих драгоценных формул становились парой ангельских крыл, согласными взмахами несущих общество над кровавым, брызжущим отравленными стрелами, греческим огнем, «эрликонами» и «стингерами» варевом сведения счетов всех со всеми. И какие устойчивые, несмотря на все превратности истории, цивилизации возникали!
Конечно, они не становились раем. Полностью гарантировать, что человек не станет совершать действий, способных причинить кому-то вред, может только заблаговременный расстрел. Но взаимонакачка императива и суперавторитета делала возможным статистическое преобладание социально ориентированных поступков над асоциально ориентированными, этически ориентированных над ориентированными эгоистически – а большего от коллектива человеков и требовать нельзя, состоит ли он из двух единиц, или из двадцати миллионов… Потому что только оно, это преобладание, способно сделать коллектив устойчивым – а следовательно, сделать вероятной его положительную перспективу.








