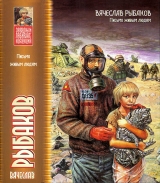
Текст книги "Письмо живым людям"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 62 страниц)
Этот сборник я постарался выстроить в реальной хронологической последовательности – то есть произведения в нем расположены так, как возникали их ПЕРВЫЕ варианты, становившиеся (порой – через много лет) основами для текстов, в конце концов выходившими в свет. Для сравнения я оставляю и ту датировку, которая уже стала известной благодаря предыдущим изданиям.
Вот, например, «Вода и кораблики». Да, тот текст, который был в итоге опубликован и который продолжает время от времени публиковаться, был написан в декабре 1990 года, когда я сидел в Доме творчества писателей в Комарове, бегал в меру своих скудных спортивных дарований на лыжах, а набегавшись, присаживался к столу. Но история этой не слишком-то гениальной повести долга и почетна.
Первый вариант ее был написан мною на зимних каникулах второго курса университета (январь 1973 г.). Текст этот не сохранился – не могу вспомнить, куда я его дел. Одно время у меня была привычка жечь собственные рукописи, которые по тем или иным причинам вдруг начинали казаться мне устаревшими. Но сжег я первый вариант, называвшийся «Мотылек и свеча», или подарил кому-то на память, или еще что – я не могу вспомнить. Слишком уж много лет прошло. В сущности – целая жизнь.
Толчком для возникновения замысла явились, как это у меня частенько бывало в молодости, впечатления не жизненные (их в ту пору, как легко понять, катастрофически не хватало – увы, не хватает и теперь, но уже не по причине молодости, а по причине занятости), а читательские, литературные. Тогда, едва сдав зимнюю сессию, я приник к только что купленному 24-му тому «Библиотеки современной фантастики», в коем и прочел бестеровского «Человека без лица». Помимо того, что вещь эта мне очень понравилась, у меня блеснула мысль: а если наоборот? У Бестера мельком упоминается одно из наказаний, которым общество телепатов подвергало проштрафившихся своих членов: изгнание из своих рядов; человек, который слышит мысли других, оказывался обречен на жизнь среди нетелепатов и, по мысли Бестера, страшно страдал в одиночестве. А я подумал: а если один-единственный нетелепат оказался бы в обществе телепатов, каково пришлось бы ему?
Первый вариант кончался тем, что мой герой с чувством глубокого удовлетворения тонул-таки в болоте.
Годом раньше моя школьная преподавательница математики, Тамара Григорьевна Дрибинская, учитель божьей милостью (она ухитрилась на какое-то время даже мне, гуманитарию до мозга костей, привить любовь к математике, и я временами по сию пору жалею, что уже не могу с легкостью и интересом почитывать на сон грядущий, скажем, Фихтенгольца; впрочем, дело было не только в математике – достаточно сказать, что именно из рук Тамары Григорьевны я еще в десятом классе получил на прочит нелегальный даже с виду, толстый, на фотобумаге, что ли, исполненный и переплетенный вручную экземпляр «Гадких лебедей»), познакомила меня с молодым, но уже публикующимся фантастом Андреем Дмитриевичем Балабухой. Андрей, таким образом, оказался первым настоящим писателем, с которым я имел счастье общаться вживе. Он прочел мою рукопись и, помимо множества замечаний, которых я сейчас, конечно, уже не помню, сказал вещь, которая вожглась мне в сердце. Это было примерно следующее: «Нет ничего проще, чем закончить вещь, угробив главного героя».
Легких путей я никогда не искал. Мне стало невыносимо стыдно. Я осознал свое убожество всеми фибрами души и переписал вещь от начала до, главное, конца.
Именно Андрей привел меня весной 1974 г. в семинар молодых фантастов под руководством Бориса Натановича Стругацкого. Тогда там заседала такая молодежь, как Саша Щербаков, Оля Ларионова, Фел Суркис, Галя Панизовская, двое столь непохожих Романовских… ну, сам Андрей Балабуха, конечно… Через полгода, осенью 1974-го, я дебютировал на семинаре с новым вариантом повести (она все еще называлась «Мотылек и свеча») и был принят в его действительные члены.
Опубликовать ее, разумеется, не было ни малейшей возможности. Ничего в ней не было антисоветского даже тогда, ничего крамольного… Просто – ну кому он был нужен, этот Васька?
А может, так оно выглядело только с моей точки зрения, а на самом деле антисоветизм там вполне наличествовал. Сексуальные заморочки при коммунизме – это, наверное, воспринималось как потрясение всех основ…
«Мотылек» пылился в ящике моего стола шестнадцать лет.
Следом за ним были написаны «Достоин свободы», «Дерни за веревочку», «Доверие»… Собственно говоря, все крупные вещи до «Гравилета «Цесаревич»» (1992) были мною написаны еще в университетскую пору: соответственно в 1974, 1975 и 1976 гг… и чуть позже, в первый год аспирантуры – «Очаг на башне» (1978). Разумеется, речь идет о первых вариантах. Потом наступил длиннейший период, когда по ряду причин (не последней из коих была полная недостижимость публикаций) я мог подняться только на рассказы. Кажется, опять-таки Андрей подсказал: рассказ пробить все-таки легче… хотя тоже почти невероятно, но все же.
Это оказалось именно так. Именно: почти невероятно, но все-таки вероятно. Чудо есть вещь не невозможная, а лишь крайне маловероятная.
Настала перестройка, я мало-помалу начал публиковать куда более жесткие и страшные свои рассказы, получил Госпремию за сценарий «Писем мертвого человека»… Году в 86-м я подумал, что пришла долгожданная пора раскопать своих подвалов и шкафов перетрясти.
В 1986–1987 гг. я переписал лучшую свою на тот момент вещь – «Очаг». В 1988-м – «Доверие». В декабре 1989-го, тоже в Комарове – «Веревочку». В 1990-м дошла очередь и до самой слабенькой из университетских вещей, самой ранней, почти детской – «Мотылька и свечи». Но поскольку главный персонаж не сгорал (то бишь не тонул в болоте), на роль мотылька он явно не тянул. Пришлось менять название, и я сделал это, подобрав и отыграв в названии эпиграф, взятый мною (только не смейтесь!) с магнитофонной ленты, на которой еще в восьмом, если память меня не ошибает, классе записал песни из бесследно сгинувшего телеспектакля «Белая перчатка». Кто их написал, что за группа исполняла, прерывая время от времени действие и выпрыгивая с электрогитарами из-за рамки экрана – убей бог, не вспомню уже никогда и ни за какие гонорары.
Честно говоря, эта в среднем пятнадцатилетняя пауза пошла – и текстам, и мне лично – на пользу. Я за истекшие годы стал писать лучше; более-менее научился не просто вываливать на бумагу сюжет и диалог, а вытачивать их из бесформенной словесной массы (или по крайней мере понял необходимость поступать именно так). Переписанные вещи стали гораздо лучше. Даже «Кораблики», при всех их очевидных недостатках.
А к тому же, если бы я начал печататься сразу и всерьез, я бы, разумеется, ошалел от немереных бабок, принялся молотить роман за романом, бросил бы востоковедение – и сейчас был бы куда самоувереннее и, главное, глупее, чем есть.
Так что нет в истории ни совершенно черного, ни совершенно белого.
Если бы меня опубликовали сразу – не быть бы мне приличным писателем.
Достоин свободыС высоты Европа напоминала черепаху. Фонтаны тумана и ветра взлетали от синтезаторов и раскручивались циклическими спиралями, а в сумеречные просветы между витками просматривались многоугольные щитки городов. Изъеденные атмосферными окислами Баварские Альпы туманно громоздились на юге – жутко было смотреть на них. Но я смотрел. Потому что целых три года перед моими глазами маячили лишь коридоры станции Оберон да хаос скал, освещенных то искрой Солнца, то грязно-зеленой опухолью Урана.
Города утонули во мгле позади. Под нами простиралось бурое пространство без пятнышка зелени; изредка взблескивала вода, отражая прорвавшийся солнечный луч. Балтика пряталась в молочном месиве слева; там тоже ревели ураганы, ежеминутно выбрасывая в атмосферу десятки кубокилометров воздуха первозданной чистоты.
Кресло мягко, предохранительно охватило меня с боков, и тут же снижающийся лайнер буквально запрыгал – на малых высотах турбуленции были особенно сильны. Мы почти падали, облака уносились вверх; снизу, как взрывы, взлетали другие. И вдруг отовсюду сразу надвинулось нечто огромное. Свет в иллюминаторах пресекся, а потом возник вновь – уже искусственный, и лайнер невесомо опустился в гнездо. Я прилетел.
Получилось удачно – мой двухнедельный карантин закончился ровно в тот день, как Соломину вручали Нобелевскую; церемонию вручения я смотрел по евровидению, а к вечеру уже смог попробовать свалиться Соломину как снег на голову. Как снег на голову. Он часто повторял эту фразу своим гортанным, занудным голосом – так невкусно, что угасал весь ее снежный блеск. Как сингулярные локусы на восьмимерной проекции пучностей континуума.
Подобного рода фразы он произносил ровно с той же интонацией – свесив голову ниже покатых плеч и подперев костистый нос карандашом. Все, что нарушало ритм работы, было для него снегом на голову. Наверное, и Нобелевка.
И при всем том – я не знал человека добрее и мягче. Когда быт вытряхивал его на часок-другой из-за письменного стола, он так трогательно, так нелепо пытался сделать что-нибудь хорошее любому первому встречному. К счастью, обычно это сходило незамеченным. Если замечали – смотрели странно. Он катастрофически ничего не умел – только, сидя за письменным столом, бродить где-то в безмерной глуби мира… и то, что он время от времени, непонятно как – скорее интуитивно, нежели логически, – находил там, падало как снег на голову всем. Всем, кто мог понять. До моего отлета на Оберон я года два работал с ним в паре и слишком хорошо узнал, как трудно бывает понять его, угнаться за ним в его безднах…
Но вот смысл его последней находки понял каждый. Все-таки это справедливо, думал я, медленно идя в толпе спешащих, смеющихся, встречающихся, глядя на их воскрешенные лица. Справедливо, что это нашел именно Соломин. Он наконец сделал хорошее для всех. Три года я не видел толпы, казалось, забыл, как она выглядит – но сейчас понимал, что она изменилась. Прежде лица были темны. Нет, не все кусали губы или мрачно смотрели в пустоту – конечно, и щурились, и зевали, и улыбались, но как-то темно. Как бы на миг забыв о вечной заботе. Это уже не замечалось. А вот теперь загорелся свет. Я вспоминаю – полвека назад, в детстве, я видел такие лица, когда человечество, припертое к стенке экологической катастрофой, начало наконец разоружаться. Тогда казалось, стоит лишь уничтожить запасы смертей, утечка которых в среду возрастала пропорционально возрастанию запасов, стоит лишь остановить военную промышленность, сжиравшую две трети ресурсов и мощностей, прекратить бесконечные учения и маневры – и сами собою вернутся голубое небо, бабочки, кувшинки в озерах… Наверное, в прошлом веке такие лица были у людей, когда кончались мировые войны. Но оказалось, что последняя мировая война – война с наследием тех, кто ставил на войну, – еще впереди. Никто не заметил, когда лица мало-помалу вновь угасли. Война оказалась долгой.
И только когда заработал первый соломинский синтезатор, как снег на голову, она свалилась – Победа, не менее важная, чем та, которую русские до сих пор называют просто: Победа, и любой сразу понимает, о чем зашла речь… Это справедливо, думал я, идя по полю аэродрома, залитому искусственным светом. Меня обгоняли сверкающие лица; улыбки и взгляды яркими цветами летели мимо, время от времени в мельтешне голосов, наскакивающих справа-слева, слышалась его фамилия. То с французским ударением на последний слог, то юлящая как-то по-скандинавски, то спетая в китайских тонированных слогах: Солуо-мин… но чаще – по-русски, вбиваемая, как свая, одним увесистым азартным взмахом: Сал-ломин!.. Потом я остался один, толпа схлынула – кто вверх, кто вниз, кто к цоколю соседнего гнезда, уходящему в потолок; глухо рокотали моторы верхнего яруса, отправляя воздушные корабли в атмосферу, бьющуюся в судорогах долгожданного вдоха; порывы теплого, пахнущего механизмами воздуха то и дело окатывали меня – я шагал неприкаянный и счастливый. Когда жизнь всех меняется к лучшему, даже собственная бесприютность, давно заледеневшая в крови, вдруг кажется преходящей и уютно неважной, как база однодневного отдыха. Это справедливо, что именно Соломин нашел Победу.
Я и не подозревал, что войны кончаются не для всех.
…В квартире было тихо и темно. Я застыл у стены, беззвучно замкнувшейся за моей спиной.
– Добрый вечер, коллега Гюнтер, – раздался из темноты знакомый голос. Я облегченно вздохнул. – От души рад вашему приходу.
Телеокно вдруг замерцало, и в комнату упал холодный свет полной луны из прозрачно-черного неба. Он был рассечен пополам узким силуэтом человека, сидящего ко мне лицом.
– Мне особенно лестно, что время для визита вы смогли выкроить именно сегодня, в день моего триумфа. Прошу пройти. Как вы поживаете, как ваши изыскания?
– Вполне, вполне, вполне, – стараясь говорить ему в тон, ответствовал я и, пройдя, опустился в подлетевшее ко мне кресло. – Итак, я поздравляю вас, коллега. Прошу вас принять мои самые искренние…
– Соболезнования, – глухо уронил он и встал – вырос из кресла, словно телескопическая антенна. Сутулясь, приволакивая ноги, пошел к синтезатору. – Вы отужинаете со мною, коллега?
– Я буду рад разделить вашу трапезу, коллега.
Он нагнулся над пультом, выпавшим из стены. И отключился, застыв в противоестественной позе. Я подождал, потом спросил тихо: – Что с тобой сегодня?
Он вздохнул и, обернувшись, ответил надменно:
– Я отдыхаю.
– А-а, – сказал я понимающе. Он пошевелил пальцами над пультом.
– Что бы вы хотели съесть, коллега?
– Возьми, что себе.
Выпятив цыплячью грудь, он гордо распрямился.
– Сомневаюсь, что вы стали бы ужинать из одной тарелки со мною!
Коротко пропел синтезатор.
– Не сочтите за труд, коллега, свое возьмите сами, – сказал Соломин, идя к столу – в одной руке тарелка со столовой массой (у меня глаза полезли на лоб), точь-в-точь такой, какую все мы ели еще так недавно, в другой – бокал с молоком.
– Вот те раз. – Я пошел к синтезатору, взял свою тарелку. Соломин заказал мне отличнейший ростбиф. – Ты так привык к… к этому?
Он не ответил, сосредоточенно набивая рот густыми кусками брикета. На его гладкой могучей лысине лежал отчетливый лунный блик. Я вернулся к столу, с наслаждением вдыхая аромат, испускаемый моей тарелкой. Изображая домашнюю непринужденность и раскованность, я с чуть нарочитым азартом вонзил вилку и нож в сочный кусок. Брызнула кровь.
Соломин подскочил, уронив наполненную ложку, лицо его страшно исказилось.
– Вы меня обрызгали, Гюнтер! – с гортанным надсадом крикнул он, остервенело отряхивая рукав свитера. – Кровью!!
– Прости, – ответил я так кротко, как только позволял мой баварский акцент. Мне уже становилось не по себе.
Неуловимо быстрым движением Соломин канул под стол и тут же возник с ложкой, крепко стиснутой в кулаке.
Некоторое время мы молча насыщались. Потом я сказал задорным голосом:
– Замечательный ростбиф! Что же ты – сам придумал из вакуума ростбифы, а теперь отравиться боишься? Так и брикет твой теперь ведь из того же вакуума…
Он поперхнулся. Он кашлял долго, с бульканьем и хрипом, корчась, а потом вытер пальцами слезы и, надтреснуто дыша, объяснил:
– Пенка в молоке…
– Какой ужас, – сказал я.
Он поставил локти на стол и вцепился длинными пальцами себе в щеки; с минуту сидел так, едва заметно раскачиваясь из стороны в сторону, и глядел мимо меня. Потом сказал:
– Вот и все.
– Что – все?
Не глядя, он точным движением коснулся стены своей длинной рукой, тонкой и ломкой, как два шарниром скрепленных шеста. Беззвучно раскрылся телекамин, красные отсветы задышали на стенах, и лицо Соломина, налившись оранжевым светом, выдвинулось из лунной тьмы. Пылающие поленья трещали, выбрасывая клубящиеся облака искр, – корчилось, кричало пламя, заживо сгорая в самом себе. Иллюзорное. Соломин, не мигая, чуть раскачиваясь и скомкав щеки, смотрел в огонь. В меня вдруг вошла его страшная усталость.
Как он не выгнал меня за мой шутовской тон…
– Все – и есть все, коллега, – проговорил он. – Странно.
– Еще бы, – медленно ответил я. – Девятнадцать лет…
– С перерывами, – сказал он и, подумав, добавил: – Двадцать три.
Я только головой покачал. Он откинулся на спинку кресла, оставив руки на столе, – лицо ушло из оранжевого полыхания.
– Впрочем, тогда я и не подозревал, что из этого выскочит синтез. Просто хотелось разобраться с вакуумом наконец.
– Вот и разобрался наконец, – сказал я.
– Да, разобрался. Подарить только уже некому.
– Некому?! Да всем!
– О, конечно. – Он вздохнул. – Знаете, коллега… порой мне хочется быть… музыкантом…
Я знал это давным-давно.
– Правда? – спросил я.
– Пассакалия ля минор. – Он словно творил заклинания. – Хоральная прелюдия номер семь… Знаете, коллега, даже снилось, будто выхожу на сцену. – Он запнулся. – Сколько раз. Клавиши, клавиши… и острия вверх. Трубы. Они ведь серые, да?
– Свинец.
– Свинец…
Мне хотелось его обнять.
– Мортон звал меня на Трансмеркурий, – проговорил я. Соломин передернулся от отвращения и закрыл камин. – Ты не знаешь? – спросил я в темноту, на миг словно высосавшую глаза. – Он очень интересно говорил… Назревает локальный пространственно-временной прогиб, сегодня ждут. Взаимодействие собственного поля Солнца с полем Галактики под каким-то редкостным углом – раз в тысячу лет, что ли… Совершенно непочатый край. Вот где для твоей головы…
Черный силуэт беззвучно вздыбился передо мной – узкий, длинный, как подводная лодка из глубины.
– Вот!! – выкрикнул Соломин. – Четыре полки!!! – Он сделал шаг и прильнул к полчищам книг. Медленно, любовно провел плоскими ладонями по корешкам своих работ. – Поле… Континуум, локальные вихри… синтез… Синтез!!! – Он хрипло, с каким-то гортанным звоном дышал. – Неужели вам мало?!
Он качнулся – свет луны упал ему на щеку и словно бы взорвался на ней, окутав все лицо мгновенным сверкающим туманом. Я увидел безумные белые глаза и провал заглатывающего воздух рта.
– Мало?!
Я молчал. Меня трясло от волнения. Соломин пошел поперек комнаты, распарывая, словно катящееся лезвие, поток зябкого лунного света.
– Я мог бы стать музыкантом… Я мог бы стать… баскетболистом… Но я всего лишь физик, – надменно и отрывисто вещал он и ходил, ходил по комнате, пытаясь горделиво распрямить сутулую спину, узкие, зализанные плечи. – Простой физик. Я умею только это. Имеет смысл делать только то, что умеешь. – Дыхание сухо вхрустывалось в тишину. Я ловил каждое слово и все пытался заглянуть ему в лицо – но было темно. Только черный силуэт двигался взад-вперед.
Потом он остановился и поник.
– Останьтесь до завтра, коллега, – раздался тихий, чуть сорванный голос. – Я постелю вам здесь. – Соломин протянул было руку к контактной панели, чтобы вырастить постель, и опять застыл с протянутой рукой. – Скажите… прошу простить, если вопрос мой покажется вам несколько бестактным… ваша… – он коротко втянул воздух, – подруга… она не любила вас или вашу работу?
– Она не любила нас с работой, – ответил я. – У тебя лирическое настроение? Позвони Пелетье, поговори с ним. Я слышал, он ушел от очередной жены. – Я изобразил грустно-сладкий проникновенный голос шефа лаборатории слабых взаимодействий. – Она тоже не сумела стать настоящим другом…
– Я постелю вам здесь, – сухо сказал Соломин.
Когда стена спальни закрылась за ним, я прикрыл глаза, обнял подушку и в течение получаса честно и старательно пытался заснуть. Конечно, ничего не получилось. Соломин потряс меня. Ему было плохо. Я никогда не подозревал, что ему может быть настолько плохо.
Я сел на постели, спустив ноги на пушистый теплый пол. В голове был сумбур. Потянулся к висящей на спинке кресла куртке, достал из кармана радиофон и несколько секунд держал его в кулаке, тщась понять, имею ли я право сделать то, что хотел. Вызвать информаторий Академии Чести и Права кодом «нужно другу» было не сложнее, чем любое другое учреждение или любого человека. Но я не делал этого ни разу в жизни, да и никто практически не пользовался правом на информацию о близком человеке. Жутко и стыдно было знать, что через минуту экстракт сведений, которые с самого дня рождения Соломина собирала и хранила электроника, будет предоставлен в мое распоряжение.
Но Соломину было очень плохо.
Я проснулся довольно поздно, оттого что задремал лишь под утро. Вяло оделся, подошел к столу, допил холодный чай, оставшийся с ночи. Я был омерзителен себе. Я влез в чужую жизнь, не имея ни малейшего права на это, потому что ничем не мог помочь. Как теперь смотреть Соломину в глаза?
За спиной у меня приглушенный женский голос произнес: «Буди, буди, а то непременно опоздаешь на тренировку». Я обернулся. Это напоминало бред. Стена была приоткрыта, в щель выглядывал растерянный, разлохмаченный Соломин. Секунду он смотрел на мою пустую постель, потом повел взглядом по комнате, увидел меня и расплылся в улыбке. У меня пересохло во рту.
– Доброе утро, – нежно проворковал Соломин добродушным, мягким басом. Стена раскрылась настежь; выхлестнуло солнце, путаясь в белобрысой Женькиной гриве, окружая его голову неистово сверкающим нимбом. Я улыбнулся Соломину, отчетливо чувствуя дрожание своих губ.
– Как спалось? – Женька высился, блистая загорелой гладкой кожей, будто обшитая листовой медью дозорная башня, – ирреально широкоплечий, широкогрудый, бугристый от мышц.
– Да… – невпопад выдавил я. Он засмеялся. Из залитой солнцем спальни в тон Женьке зазвенел женский смех, и женщина показалась на пороге.
– Познакомьтесь – проговорил искрящийся от удовольствия и гордости Женька. – Это Марина. А это достославный Энди Гюнтер.
– Очень рада. – Она улыбнулась дружелюбно, но чуть напряженно. Я молчал.
– Позавтракаешь с нами? – спросил Женька. – У нас гостевой резерв не израсходован, так что пожалуйста…
Я молчал.
– Маринушка… – сказал он, чуть повернув к ней голову, и мускулы шеи и плеч его веско шевельнулись. Она пересекла комнату и прошла на кухню, сразу замурлыкав там что-то весьма музыкальное.
– Слушай, Энди, я после завтрака ускачу сразу, не обижайся. И не уходи. Тренировка, понимаешь, пропускать ну никак…
– Баскетбол? – спросил я. Молчать дальше было невозможно.
– Не-ет. – Он заулыбался. Он все время улыбался. – Верно, была такая мысль. Попробовал поначалу, да без толку.
– С твоим-то ростом? – изумился я.
– Ну! И мячик точно вкладывал, а все прахом. Нету чувства команды. Торчал посреди поля дурак дураком… Прыгаю в длину теперь. – Он вдруг принялся вздергивать на уровень своей головы то одну, то другую необозримую ногу. По комнате пошел прохладный ветерок. – Через месяц мировые!.. – Он застенчиво улыбнулся и трижды плюнул через левое плечо. – Очень замечательно, что ты заглянул, – сообщил Женька, произнося слова чуть отрывисто, в такт своим могучим махам. – Мы тут с Маришкой живем бобылями совсем. Серега с группой в турпоходе на Большом Невольничьем, там приличный оазис сохранился… Полный восторг! Больше года ждали… – Он перестал пинать воздух, и речь его вновь стала плавной. Но все равно какой-то дерганой. – Впервые, знаешь, человек увидел зелень под открытым небом. А карапуз в дошкольном лагере. В городе, знаешь, как ни крути – нельзя расти детям. Хоть куда-то надо на простор… Маришка-то, конечно, все бы их при себе держала, что восьмилетнего, что восемнадцатилетнего, но я настоял!
У меня обмякли ноги. Я нащупал кресло и сел.
– И, конечно, сам тоже, знаешь, скучаю. Однако! – Он назидательно тряхнул вытянутым пальцем: – Мало ли чего мы хотим. Важно, что им надо. Я тут столько учебников по педагогике проработал… – застенчиво сказал он и улыбнулся. – Ой, давно тебя не видел, столько рассказать всего хочется! Мысли скачут… Вчера-то толком и не поговорили…
– Господа! Кушать подано! – раздался с кухни звонкий голос.
На тарелках неаппетитно дымился завтрак.
Марина сунула полную ложку себе в рот и сказала:
– М-м, какая вкуснотель!
Эта реплика явно предназначалась Женьке, который, присев на краешек стула, недоверчиво принюхивался.
– Да… – пробормотал он. – Конечно, это еще ничего. С молочком. – Он осторожно прихлебнул молока из бокала.
– На тренировку опоздаешь, – заметила Марина.
Женька стрельнул глазами на часы и, ахнув, заработал ложкой. Марина улыбалась, взглядывая на него исподлобья, потом глянула на меня, приглашая поулыбаться тоже. Я поулыбался тоже. Ее улыбка была почти материнской. Женька, отставив пустую тарелку и бокал, поднялся и растерянно замер, вертя в нерешительности головой.
– Что-то ведь еще я хотел…
– Побриться, – уронила Марина, не поднимая головы и продолжая аккуратно есть.
– Ой, точно! – простонал он и улетел в ванную. Там сразу что-то громко упало и раскатилось по полу, потом раздался шелест бритвы. Марина стала собирать посуду. Я смотрел. Стоило смотреть. Стоило только и делать, что смотреть на нее.
– И так вот каждый день, – произнесла она, а руки ее между тем что-то открывали, закрывали, включали; широкое солнце телеокна льнуло к ее гибкой спине, смуглым ногам. – Дитятко, ей-богу… – Она глянула на меня и тут же отвернулась. Я вдруг понял, что она меня боится.
– Побежал! – крикнул Женька, просовывая голову в кухню на какой-то нечеловеческой высоте. – Энди, не уходи! Все мне расскажешь про Оберон!
– Счастливо! – хором крикнули мы с Мариной, и он исчез.
– Вечно опаздывает, – недовольно сказала Марина.
– Почему? – спросил я. Соломин никогда никуда не опаздывал. По нему можно было проверять часы. – Это я его немного задержал…
– Немного, – усмехнулась она. – Ох, Энди. Это самый несобранный человек на свете – неужели вы не замечали? Я ничего не могу поделать. Сегодня из-за вас… Сидит на кровати и бурчит: будить нельзя… устал с дороги… будить нельзя… а сам косит на часы, косит, ерзает… Завтра из-за мальчишки на улице, который попросит его снять планер с карниза, или из-за соседки, одинокой старушки, которая любит с ним болтать, или с детьми будет возиться, сюсюкать, словно не сыновья у него, а дочки, или… да мало ли, мне и в голову не придет. – Она помрачнела. – Увидит, например, очередной номер «Вакуума» или «Физикл» в киоске и станет, кусая губы, крутиться возле, а потом с отчаяния возьмет «Моды» и принесет мне: «Посмотри, родная, что я тебе принес!»
– Он был талантливый физик, Марина, – сказал я после паузы.
Она словно ждала, что я заговорю об этом. Ответила сразу:
– Гениальный, – и повернулась ко мне спиной. – Да, к сожалению. Все ему мешали, все было не так. Это ведь тоже от громадной внутренней несобранности. Почему я могу, почему все могут и работать с интересом, и оставаться нормальными людьми!
– Что это – нормальные?
– Вы… – Она повернулась ко мне. Несколько секунд молча смотрела мне в глаза. – Видеться раз в неделю – это нормально? Я все помню… Тысячи самых прекрасных слов, преданность удивительная, женская почти – а потом опять дни и ночи ни слова, ни звука от него – и сама-то боишься позвонить, как же, помешать не дай Бог! Это нормально? Три месяца не решалась сказать, что жду ребенка… сам – не замечал… Это нормально по-вашему, Энди? Наверное, по-вашему это нормально – ведь вы одни. И он был бы один. Если бы я его не спасла – засох бы. До меня он всегда был один. Это – нормально?
– Он сам вам сказал?
Она усмехнулась:
– Конечно нет. Хорохорился. Но когда… я же не девчонка, это понятно сразу…
– Вы не уважаете его, Марина? – тихо спросил я.
У нее сверкнули глаза.
– Я его люблю. Вы знаете, что это?
– Думаю, что знаю, – проговорил я.
– Думаю, что не знаете, – проговорила она. – Вы хороший человек, я сразу поняла. Но этого вы не знаете.
Я улыбнулся. Некоторое время мы молчали, потом она вдруг засмеялась, смущенно махнув рукой:
– Что это я развоевалась? Простите, Энди!.. Представляю, какое у вас сложится впечатление о Женькиной семейной идиллии…
Я облегченно засмеялся с нею вместе.
– Просто я струсила, – призналась она.
– Я догадался. Но умыкать вашего мужа в пользу теоретической физики мне даже в голову не приходило…
– Глупо, да? Хотите, я вас кофейком угощу?
– Хочу, – сказал я. Если бы она предложила мне машинного масла или жидкой глины, я все равно согласился бы. Она протянула руку к комбайну и нажала несколько кнопок.
– Вы не думайте, я им ужасно гордилась. Даже свысока на всех посматривала: вот, мол, какая я, что такой человек меня любит. И очень старалась… не мешать. Но это же не могло длиться вечно.
– Марина, не надо. Я все понимаю. А вы будто прощения просите у меня.
– Не-ет, – ответила она. – Я права. Это вы просите у меня прощения, потому что, наверное, когда-то были не правы с женщиной, – вот и соглашаетесь со всем, что я говорю. Вам сколько сахару?
Я даже не помню, о чем мы, собственно, с нею дальше беседовали. Мне было удивительно хорошо. Удивительно. Странно – еще лучше, чем вчера на аэродроме. Я как-то даже забыл, что ничего не понимаю. Кажется, она рассказывала про детей, про Женьку – как он побеждает всех других прыгунов в своей возрастной категории, как трудно бывает вытащить его в филармонию, хотя ему нравится старая музыка, особенно – органная; как он часами возится с детьми, с таким удовольствием, словно сам ребенок, играющий с друзьями-сверстниками, как о нем, будто и впрямь о маленьком, надо заботиться и как ей нравится о нем заботиться… Я тоже болтал – про космос, наверное. Помню, она ахала с замиранием: «Да неужто?» И мне было хорошо.
…Только мы с Женькой уселись в комнате, предвкушая беседу и обед, как запел вызов. «Елки зеленые, – раздраженно пробормотал Женька, идя к экрану. – С Маришкиной работы, что ли…»
На экране появился мужчина с красным, блестящим от пота лицом. Ворот его рубашки был расстегнут.
– Товарищ Соломин, здравствуйте, – выдохнул он. – Директор детского лагеря «Рассвет» Патрик Мирзоев.
– Узнал. – Женька встревоженно подобрался. – Что… Вадька?
Мирзоев судорожно кивнул. Женька вцепился в спинку кресла.
– Нет-нет, ничего не случилось! Просто Вадик и еще один мальчик покинули лагерь. С ними был третий, но он испугался и отстал. От него мы узнали, что они ушли… хотели уйти… в горы.
Женька желтел на глазах. Мирзоев с мукой смотрел на него.
– Предгорья прочесывают двенадцать орнитоптеров. К сожалению, одоролокаторы почти неприменимы – идет дождь…
– Дождь… – бессмысленно повторил Женька. – Постойте, орнитоптеры… Как же видимость?
Мирзоев пожевал толстыми коричневыми губами и смолчал.
– Все камни скользкие!.. – пробормотал Женька. – Вы… да это же… Я лечу к вам!
Из кухни, пробиваясь сквозь шум текущей воды, доносилось мирное пение.
– Марина! – неверным голосом позвал Женька.
– Аушки? – ответила она. – Изголодались? Уже скоро.








