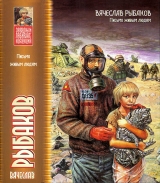
Текст книги "Письмо живым людям"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 62 страниц)
Пламя с ревом встало едва не по всему дому сразу. С опаленным лицом человек скатился с крыльца в сугроб у самой границы гигантского гремящего костра. Стало светло как днем; оранжевая, мохнатая толща стремительного снега просматривалась далеко-далеко. Увидел, как затлела, задымилась одежда, и подумал: холодно.
Март 1984,Ленинград
Ну, вот. Началась эпоха сценария к «Письмам мертвого человека» и литературных ответвлений от него.
Историю своего участия в создании фильма я вполне исчерпывающе изложил в статье «Письмо живым людям», с этим все ясно. Однако я настолько вошел в тему, настолько прожил мировую катастрофу и ее последствия лично, в себе самом, что сценария, несмотря на то, что вариантов его было не счесть, мне не хватило. Спорить с режиссером по принципиальным вопросам бессмысленно и даже глупо: ему фильм снимать. Ему надо получить в тексте то, что он хочет показать на экране, – и баста. То, что он уже, по сути дела, видит – только не знает, по поводу чего он это видит. Надо просто стараться как можно лучше делать то, что он велит – на определенных этапах, разумеется, споря и высказываясь нелицеприятно; но ежели не сумел его заразить своей концепцией или хотя бы своим видением того или иного эпизода, то надо заткнуться и помогать ему делать его дело.
Лучше всего – параллельно делая при этом свое.
Я так и поступил.
Вечер пятницы– На сегодня, видимо, все, – изобразив интеллигентное неудовольствие, произнес Гулякин.
Похоже было на то. Тяжелый останов – штука довольно обычная, но выбивает из колеи и людей, и машину. Свирский принялся сворачивать длинную бумажную простыню. Простыня была сверху донизу исписана на языке, который эвээмствующие снобы именуют, как монарха, «пи-эль первый», а люди деловые называют просто «поел один». Шизофренически однообразный мелкий узор бледно-сиреневого цвета шуршащими рывками передергивался по столу. Постников звонко захлопнул «дипломат» и сказал:
– Может, и к лучшему.
– Да, Дмитрий, – отозвался Гулякин. – Ты правда какой-то серый.
– Душно, – несмело вступился за смолчавшего Постникова его недавний аспирант Свирский. Аккуратно пропуская друг друга в дверь по антиранжиру, они покинули терминальный зал: кандидат Свирский, доктор Постников, профессор Гулякин.
– За выходные, Борис, я просил бы вас сызнова проверить программу.
– Конечно. Разумеется, Сергей Константинович.
– Это все не дело. У меня буквально коченеют клешни, когда машина не пашет! – После пятидесятилетнего юбилея элегантный профессор вдруг принялся обогащать свою речь молодежной лексикой. Ученый Совет был у него теперь не иначе как тусовкой. Постников коротко покосился на шефа. Тот, уловив блеснувшую сбоку веселую искру, сказал с напором: – Да, да!
Если что – звоните мне прямо на дачу.
Крутя ключи на пальце, Гулякин шустро сбежал сквозь густую городскую духоту по ступеням парадного крыльца к своему «жигульку» – изящные австрийские туфли твердо, как копытца, щелкали по асфальту. В полуприседе, упираясь в колени руками и свесив белоснежные космы на лоб, Гулякин несколько раз обошел вокруг машины, пристально вглядываясь куда-то под нее.
– Что вы там ищете, Сергей Константинович? – спросил сразу вспотевший на вечернем припеке Свирский. – Золото и брильянты?
– Уран, – ответил Гулякин и с едва уловимой натужинкой распрямился. Перевел дух и вдруг, открывая дверцу, заорал высоцким голосом: – Я б в Москве с киркой уран нашел при такой повышенной зарплате!.. Тачка не нужна?
Свирский пожал плечами, стеснительно улыбаясь. Постников сказал ехидно:
– Куда нам спешить в такую жару. Дачи нету. Погуляем тут.
– Завистник! – засмеялся Гулякин. – Придется завещать дачу с мебелью и незамужней дочерью тебе, Дмитрий… Нет, кроме шуток! Борис, заткните уши субординативно!
Свирский четко выронил портфель и, растопырив локти, сунул в уши свои длинные, покрытые черными волосками пальцы. На какой-то миг Постникову показалось, что пальцы войдут на всю длину.
– Правда, поехали, – негромко попросил Гулякин. – Ты, ей-богу, серый. Плюнь на все. Мы по тебе соскучились как-то… посидим, похохочем, в речке выкупаемся… Лида нам споет. Мои плавки тебе подходят, помнишь?
– Спасибо. – Постников неловко покосился на застывшего с пальцами в ушах Свирского. – Подумать надо. Скоро Совет, мне докладывать.
– Черт. Эта тема сожжет тебя ощущением ответственности. Дмитрий, плюнь, надорвешься. Один неловкий шаг – и Губанов тебя проглотит вместе и с потрохами, и с заботами о человечестве, даже я не прикрою. Я уж не тот, Дмитрий.
Постников усмехнулся и сделал Свирскому знак вытащить пальцы. Свирский вытащил, подцепил опрокинувшийся портфель. Мимо текли к остановкам усталые, распаренные, предвкушающие отдых люди. Фырча, разъезжались машины со стоянки. Все спешили – вечер пятницы, погода блеск…
– Вольно, – сдался Гулякин. – Вверяю вам учителя, Борис. Берегите его. Он нужен людям. – Провалился, складываясь в коленях и в поясе, в кабину, и «жигуленок», хрюкнув, ровно заурчал, а поток, загодя помаргивая левым поворотом, покатил к Карусельной. Некоторое время шли молча.
– Что за ритуал у Сергея Константиновича? – спросил затем Свирский. – Который раз вижу, как он вприсядку ходит у машины…
– А… – сказал Постников. – Это уж три года как ритуал. Купите машину если – поймете.
Какой-то шутник подставил под колесо одной из стоявших машин – случайно это оказалась машина Гулякина – обрезок наточенной стальной проволоки. Минут через двадцать езды обрезок, впившийся, едва машина тронулась, в протектор, дошел до камеры. Машину на полном ходу швырнуло на тротуар, на катившую коляску женщину. Постников, сидевший сзади, так и не понял, каким виртуозным усилием профессор ухитрился ее не убить. Но к вечеру у Гулякина уже был инфаркт.
Молча Постников и Свирский протолкались сквозь толпу на остановке. Толпа нервничала, завидев накрененный, наезжающий с натужным воем усталый ящик троллейбуса; все старались выбраться поближе к краю тротуара.
– Надежды юношей питают… – пробормотал Свирский, когда его пихнул острым углом сложенного велосипеда молодой человек, мрачно рвавшийся к той точке пространства, где, по его расчетам, долженствовал оказаться вход. Переполненный троллейбус даже не стал останавливаться – чуть притормозил у остановки, а потом, взвыв, опять наддал и бросился наутек. Так и казалось, что он прячет глаза от стыда. Стайка девиц, протянувших было юные руки вцепляться в склеенные напластования тел, вываливающиеся из дверей, с остервенелым хохотом завопила ему вслед: «Я в синий троллейбус сажусь на ходу!..»
– А что, Дмитрий Иваныч, – вдруг как бы запросто сказал Свирский, – вы ведь не спешите?
– Нет, – улыбнулся Постников, – совершенно не спешу. Сын, напротив, просил прийти как можно позже.
– Как это?
– Ну, как… Вспомните себя в девятнадцать лет. Подрос молодой хищник, имеет полное право – и даже биологическую обязанность – владеть своим уголком прайда. А у нас вся саванна – тридцать четыре квадратных метра.
– Пойдемте ко мне, – решился Свирский. – Две остановки всего. Чай. Цейлонский.
– Спасибо, Борис, – виновато сказал Постников. – Знаете, я лучше пройдусь. Подумать надо.
– Об этом?
– О чем же еще? Сергей сказал сейчас: тема эта может сжечь ощущением ответственности. Верно. Знание дает силу, но не только силу, а еще и ответственность…
– Как и любая сила.
– Да, но тут еще сложнее. Умножая знания, умножаешь скорбь, так, кажется?
– Не помню. – Свирский пожал плечами.
– Словом, если понимать скорбь как ответственность, которую вполне можешь осознать, знаний хватает, но совершенно нет сил эту ответственность реализовать…
– Поди-ка реализуй! – с неожиданной болью выкрикнул Свирский.
Постников покивал.
– Правда. Природе ведь все равно. Это только нам кажется, что у человека по сравнению с другими ее творениями есть особые привилегии. Вымерли динозавры, вымерли панцирные рыбы, вымерли мамонты. Кто только не вымер! Адаптационные способности вида ниже потребных при данном изменении среды, и… как говаривал в ранней молодости мой сын: хоп, и все. Какая разница, что человек, в отличие от прочих, изменения среды создает себе сам. Но фатального состояния модели все же не демонстрируют, Борис, я прошу вас это отметить и не забывать.
– А! – Свирский махнул рукой. На углу Карусельной и Шостаковича, возле окруженного пятислойной очередью лотка с мороженым, он втиснулся в «четверку» и уже из дверей помахал Постникову. А Постников тоже помахал и некоторое время смотрел вслед трамваю, с грохотом набиравшему скорость. Первоначальная сущность разума, думал Постников, была более чем скромна: стараться получать, не отдавая. Стать сильнее сильного. Извернуться. Вот главное. Перехитрить – не только зверя, но и человека другого племени, воспринимавшегося как зверь, как камень, как любой предмет противостоящей природы. Даже обозначался-то словом «человек» лишь человек своего племени. Вот. Остальное – от лукавого, остальное – выдумки самого разума. И только время и практика показывают, какие выдумки верны. Обыденная жизнь первобытного стада превратила стадо в общество. Среда обитания – социальная среда – изменилась. Человек вынужден был приспособиться – возникли мораль, право, нравственность. Иначе общество рухнуло бы из-за нескончаемой грызни людей, получивших вместе с разумом амбиции и подлость. В сущности, думал Постников, после оледенения социальная среда до сих пор являлась единственным фактором, вызывавшим приспособительные реакции вида Хомо Сапиенс. Правда, теперь вот – антропогенное воздействие на климат, будь оно неладно, бессмысленно количественная индустриальная гонка: больше, больше, больше!.. А в перспективе вообще уничтожение биосферы. Но это тоже социальные явления. Интересно, в древности природные условия определяли тип социума: кочевое общество, ирригационное общество, полисное общество… а теперь наоборот уже – тип социума определяет природные условия, в которых социум пребывает. Хотя, конечно, громко сказано: определяет. Очень сильно портит или не очень сильно портит – вот и вся разница…
Его толкнули – он извинился. Это один из двух проходивших мимо мальчиков задел его, размахивая руками в горячем споре. Мальчикам было лет по двенадцать. «Дубина, только в салоне стригись! Да не во всяком, я тебе покажу. Переплатить, конечно, придется – да что, предки тебе лишний чирик пожалеют?» Чирик, отметил незнакомое слово Постников. Вероятно, это червонец. Он попытался вспомнить, о чем мог говорить с такой горячностью в двенадцать лет. Про спутники? Нет, это было еще до спутников. Двенадцать мне стукнуло в пятьдесят шестом, с некоторым усилием сообразил он. Эх, пятьдесят шестой, пятьдесят шестой… Спутники, спутники…
Сколько раз мне приходилось участвовать в спорах о наличии или отсутствии нравственного прогресса! Дескать, интеллектуальный есть, а нравственного нету, все мы, пусти нас на волю, питекантропы. Очень модно. Но, во-первых, пусти нас на волю – то есть не учи, – мы и в интеллектуальном смысле будем питекантропы, научная литература сама по себе, а мозги – сами по себе. А во-вторых, можно шесть тысяч лет долдонить: будьте добрее, будьте хоть чуточку умнее!.. – но, пока это реально не требуется, пока можно выжить без этого, люди, натурально, живут без этого, а кому не живется, тот и впрямь урод. Невозможно забегание вперед большинства особей вида. Могли разве водяные твари еще до выхода на сушу отрастить – или заставить своих детенышей отрастить – крылья или шерсть из тех соображений, что это прогрессивно и обязательно произойдет в будущем? Все преждевременные мутанты беспощадно уничтожаются природой. Общество для человека такая же среда обитания, как и природа. Возможны мутации, в результате которых возникают присущие другой социальной среде психотипы, – но, коль скоро среда эта еще не существует, мутация не закрепляется… и такие люди гибнут, как погиб бы любой земной зверек, вдруг родившись на планете с утроенной тяжестью или хлорной атмосферой, – ничего не понимая и ничего никому не в состоянии объяснить…
Он провел рукой по голове, обследуя волосы. Жена, кстати, уже месяц жужжит, чтобы подстригся, да еще десять дней, как уехала… Спешить все равно некуда. Постников завертелся, пытаясь вспомнить, где может быть ближайшая парикмахерская. Салон за лишний чирик уж пускай пацаны ищут…
Мы пытались определить условия, при которых возникла бы неизбежность общего подъема на новый уровень нравственности. Весь спектр стабильных состояний оказался в этом смысле бесплоден. Это подтверждается: за шесть тысяч лет государственности, за исключением моментов некоторых социальных потрясений, принцип утилитарного отношения людей друг к другу и групп людей к группам людей, меняя формы, обеспечивал оптимальные отношения с социальной средой. От эгоизма Заратуштры до эгоизма Карнеги. Моделировали мы и глобальные катастрофы. Не помогает. Либо катастрофа непреодолима, тогда… хоп, и все. Либо преодолима на пределе сил, тогда результат прямо противоположен желаемому – полное обесценивание культуры и человеческой жизни, фашистский прагматизм, а после пирровой победы некоторое «раскисание», «гуманизация» возникшей структуры, но не до прежнего уровня.
Попытки проанализировать с этой точки зрения реально существующую угрозу вначале казались… кощунственными, что ли. Но соблазн пересилил – слишком уж уникальна она по генезису. Она пришла не извне и даже не вследствие отдельных злодейств и просчетов, а из самой жизни человечества, из всей направленности техногенного развития, она – результат жизнедеятельности вида. Очевидно, она не могла не возникнуть. Она вновь резко изменила социальную среду обитания и вызвала необходимость приспособительной реакции. Какой?
В парикмахерской млела очередь. Немногочисленные стулья все были заняты. За стеклянной дверью жужжали машинки, звякали ножницы, посмеивались, переговариваясь, мастерицы. Под окном рокотал широченный проспект Королева, дымясь черными выхлопами стартующих с остановки «Икарусов». Постников прислонился к стене, и сразу за ним вошел пожилой, прихрамывающий мужчина. К его поношенному пиджаку были прикреплены скромные орденские планки, Ему уступили место, и он сразу развернул газету. Парень в мощных очках и куцей бороде, углубленный в манфредовского «Наполеона», – тарлевского «Наполеона» с торчащими бесчисленными закладками он, встав, зажал под мышкой, – отошел к окну и положил на подоконник свой пластиковый пакет, из которого торчали зеленые хвостики лука и коричневый край круглого хлеба. Значит, я еще с виду ничего, не старый, подумал Постников без особой радости. Сесть бы… Уйти бы. Он заколебался, но не ушел. Надо, раз уж собрался, а то когда еще… Ноги у него гудели, по спине текло. Сердце шевелилось нехотя и как бы в тесноте.
«…Беспрецедентный рост преступности, – говорило радио в соседнем зале, где маялись женщины. – Новым подтверждением этому служит трагедия, произошедшая в одной из школ города Пьюласки, штат Теннеси. В прошлый вторник ученики всех восьми ее классов одновременно облили бензином и подожгли вошедших в классы для проведения занятий учителей. Семеро педагогов погибло, в их числе одна женщина, двадцатичетырехлетняя преподавательница литературы Джорджия Холлис…»
Утилитарный принцип, думал Постников, предполагает деление на «своих» и «чужих». В существовании «своих» индивидуум заинтересован, «чужих» он воспринимает как одно из явлений противостоящей ему природы. В отношениях со «своими» норма – эквивалентный обмен. Подъем над нею – бескорыстие, самопожертвование – подавляет утилитарный принцип и издавна воспевается как образец для подражания. В отношениях с «чужими» этическим идеалом служит уже эквивалентный обмен всего лишь, а нормой – стремление урвать, сколько удастся. Получить, не отдавая. Извернуться, перехитрить. То есть – использовать, как используется любой иной предмет природы. Подавление утилитарного принципа не вызывает здесь восхищения – оно воспринимается как измена «своим». Адаптационные возможности утилитарного принципа исчерпаны именно потому, что он подразумевает наличие «чужих», он не может «чужих» не выискивать, – а действия, обычные в отношениях с «чужими», впервые в истории стали чреваты уничтожением всего вида. Но эмоции всегда предметны. «Чужих» мы выискиваем себе только вживе, в быту. А уж потом переносим сложившиеся эмоциональные клише на тех, кого непосредственно не ощущаем, но заведомо мыслим как «чужих». Опасность гибели будет сохраняться, покуда сохраняется ярлык «чужой», а возникает-то он в сфере личных контактов!
Вот и ответ. Нравственный прогресс существует, и он, как и всякий прогресс, скачкообразен. Скачки происходят только тогда, когда возникает реальная угроза общей гибели, и являются единственным спасением от этой гибели. Первый крупный скачок совершился в эпоху становления общественных структур. Второй, давно вызревавший, лишь теперь получает объективную предпосылку. Рукотворная угроза уничтожения либо реализуется, либо выдавит массовое сознание на новый уровень, на который до сих пор выпрыгивали лишь отдельные мутантные особи… Парадоксально, конечно…
Вошел, попыхивая трубкой, смуглый верзила лет двадцати семи, в тугих кожаных штанах и распертом мощной грудью кожаном пиджаке с непонятным большим значком в виде вензеля из двух заглавных латинских «Н». Сладкий запах табака медленно пропитал духоту, обогащенную выхлопными газами открытого окна. Ни слова не говоря, пиджак встал у входа в зал.
– Я – последний, – неуверенно сообщил ему на всякий случай пожилой мужчина с газетой. Пиджак рассеянно кивнул. Куцебородый бонапартист положил книги на подоконник и подошел к кожаному, стоявшему с сомнамбулически опущенными веками, тронул его за локоть и молча указал на акварельную надпись «У нас не курят».
– А у нас курят, – ответил кожаный, не вынимая трубки.
– Здесь же дети.
– Дети – будущие взрослые.
Бонапартист, пунцовея, глянул по сторонам. Все занимались своими делами. Молодая мама разворачивала перед сыном книжку: «Смотри сюда. Что это? Пра-авильно, пожарная машина. Сюда, сюда смотри!» Пожилой мужчина с газетой, которому бонапартист уступил стул, яростно тыча в колонку международных новостей, говорил своему седовласому соседу: «Ведь что опять устроили, паразиты! Вконец распоясались! Мы-то что смотрим?! Как будто нас это не касается!» Седовласый степенно кивал, уложив руки на стоящую между колен резную трость. Постников оттолкнулся было от стены на помощь бонапартисту, но тут дверь в зал открылась, выпустив благоухающего артиллерийского капитана с осколочным шрамом на улыбающемся лице. Кожаный широким жестом показал публике удостоверение инвалида первой группы и вошел в распахнутую дверь.
– Вы за мной! – озадаченно вскинулся пожилой, и газета хрустнула в его больших, жилистых руках. Бонапартист злобно хохотнул и вернулся к окну, открыл было книгу, но через секунду издал громкий плюющий звук, сунул, сминая лук, «Наполеонов» в продуктовый пакет и почти выбежал вон.
Постников опять прислонился к стене.
– Как вас стричь? – спросила, заворачивая его в простынку, изящная мастерица. Лет девятнадцать ей было, не больше, но парикмахерский инвентарь так и порхал в ее руках. – Канадка?
– Она самая, – кивнул Постников. Он так и не выучил ни одного стрижечного названия и всегда, чтобы не выглядеть дураком, соглашался на любые предложения.
Зажужжала над ухом машинка.
– Так что неси свою коробку, – сказала вторая девочка, энергично запихивая седую голову клиента в раковину и брызгая на нее шампунем. – Опять горячая по ниточке течет… куда они, гады, ее девают к вечеру? Буду лопать конфеты и радоваться жизни. А то просто вот подумать не о чем, чтобы приятно стало.
– Опять растолстеешь, – сказала изящная постниковская девочка, выстригая из его головы сивые клочья. Клочья падали на простынку и сухо рассыпались, словно опилки. – Уши открыть?
– Не надо, – сказал Постников. – Торчат, как у пионера.
– Не буду. Ты сейчас сколько?
– Пьсят семь. Для кого худеть-то? Стимула нет. Стимулятора нет!
– Да плюнь ты! Вот слушай дальше. Прихожу…
– Ну да, ну да.
– Плаща скинуть не успела, он говорит: раздевайся или уходи. Я, как с сеткой была, а там хлеб, колбаса кооперативная по восемь сорок, он же, зараза, колбасу любит, – так сеткой и засветила ему.
– Фен работает у тебя?
– Как бы работает. Вон, возьми… Вылетела на улицу – иду и реву.
– Из-за него?
– Как же! Яйца ведь! Весь десяток побила! А как выбирала-то, как наряд подвенечный, по рубль тридцать…
– А колбаса?
– Колбасу мы с мамой съели… Ой, так не держи, волосы пересушишь! – Постниковская девочка непроизвольно качнулась в сторону подруги и на миг прижалась животом к локтю Постникова. Неожиданно для себя Постников вздрогнул сладко, как мальчишка. Девочка отдернула руку с ножницами от его затылка:
– Что, больно сделала?
– Нет, что вы…
– Простите… Никогда не смей так фен держать! Из-за тебя чуть голову человеку не снесла… А вы опять военный? – вдруг спросила она Постникова, и обе почему-то снова засмеялись.
– Нет, – ответил Постников с сожалением. – Я научник.
Он до сих пор как-то стеснялся называть себя ученым.
– Ой, – обрадовалась девочка, – придумайте мне стул, чтобы сам ездил кругом кресла и когда надо поднимался. А то все гены да атомы – а к вечеру так ноги отстоишь, что никакая колбаса не радует…
Они опять засмеялись, и Постников засмеялся тоже.
– Обязательно, – пообещал он. Под простыней он совсем задохнулся, и сердце ощущалось все сильнее. Зря пошел, думал он. Надо было до холодов подождать.
Седовласый встал, сунул своей девочке мятую бумажку и сказал отчетливо:
– С вас десять копеек. Я смотрел прейскурант.
Последнее слово он произнес зачем-то с претензией на прононс: «прайскуран». Девочка фыркнула, сунулась в ящик стола и дала ему гривенник. Седовласый, с какой-то гневливой силой ударяя своей породистой тростью в пол, прошагал к двери, а там обернулся и звенящим от негодования голосом выкрикнул:
– Срам!! Общество изнемогает от вашей проституции! Как можете вы жить без морали – вы, молодые девушки! Лучшие люди России всегда видели в вас хранительниц чистоты! А вы! Хоть бы помалкивали!
И вышел. Девчата оторопели на миг, потом засмеялись. Ножницы снова бодро запрыгали, позвякивая, вокруг головы Постникова.
– Вот олух старый! Башки себе помыть не может, а туда же…
– Они везде так, – сказала постниковская девочка хладнокровно. – Сами всю жизнь помалкивали, теперь всех заткнуть рады – вот и вся их мораль. Плюнь. Старики подают хорошие советы, вознаграждая себя за то, что уже не могут подавать дурных примеров.
– Это кто изрек? – спросил изумленный Постников.
– Ларошфуко, – ответила девочка. – Освежить?
Час «пик» давно отхлынул, и в автобусе можно было стоять довольно свободно. Постников поозирался-поозирался и остался в конце салона, протянув руку к поручню и посасывая сразу две таблетки валидола. Думать он уже не мог и только смотрел вокруг. Мысли – все как одна – казались в этой духоте и суете нестерпимо скучными и лишними, выдуманными какими-то. Когда автобус замирал у светофоров, становилось совсем нечем дышать. Надо было на дачу, снуло тосковал Постников.
– Нет, ну ты послушай, чего пишет! – громко сказал, потрясая листком письма, сидевший напротив Постникова потный мужчина в черном бархатном костюме, по меньшей мере английском, и толкнул локтем пребывавшую между ним и окном увешанную фирменной одеждой женщину. Женщина со скукой смотрела в окно, а на коленях у нее сидела маленькая импортная принцесса лет семи. На коленях у принцессы стояла авоська джинсовой ткани с изображением какой-то монтаны, вся в ярких наклейках с пальмами; из авоськи единообразно, как патроны из обоймы, чуть наклонно торчали четыре горлышка портвейна розового крепкого. Дефицит где-то выбросили, глядя на горлышки, мельком подумал Постников. Принцесса увлеченно ковыряла пробки пальчиком. Женщина степенно повернула к мужчине увенчанную странной прической голову. Крупная золотая серьга, колыхнувшись в ее ухе, окатила глаза Постникова горячим лучом. Мужчина принялся читать:
– «С Колюхой не встречаюсь, не могу видеть. Но если нарвусь, полжизни точно отниму. А было так, они с Вовиком добра насадились, а до этого еще с Людой с лесопильни выпили по бутылке. Сел на мой мотоцикл и газанул. Мотоцикл и встал на дыбы. То есть врезался в забор. Короче, побили стекло лобовое, фару, зеркала, аккумулятор вытек весь. Батя озверел, да после плюнул». – Мужчина опять громко засмеялся, мотая лысеющей, лоснящейся от пота головой. Женщина, не издав ни звука, столь же плавно отвернулась.
Сын был дома, но куда-то собирался. Губы его были пунцовыми и чуть припухли. В воздухе мерцал осторожный запах незнакомых Постникову духов.
– А, привет! – сказал сын обрадованно. – А я уж думаю, куда ты запропал. Мать звонила из своей Тьмутаракани – я сказал, ты еще не пришел.
– Правильно сказал, – одобрил Постников. Он был едва живой от усталости. – Всегда говори правду.
Сын довольно хохотнул.
– Как она там? Что говорила?
– Здорова… Куда пиджак? Пиджаку на вешалке место, он же так форму теряет!
– Плевать, пускай теряет… Что мама сказала?
– Командировку ей продлили, – сказал сын, аккуратно увешивая на вешалку постниковский пиджак.
– Надолго?
– На неделю.
– Ничего себе! Почему?
– Да я толком не понял… некогда было вникать, знаешь.
– Ясно.
– Мясо там еще осталось, мы не все съели. Так что ужинай.
– Спасибо. Мне мама ничего не передавала?
– М-м-м… Что-то она такое говорила, погоди…
– Вспомни, пожалуйста. – Постников в одних трусах плюхнулся в кресло у раскрытого настежь окна. В окно заглядывали молодые березки, любовно посаженные жильцами лет десять назад. Мне тогда было сколько Свирскому сейчас, подумал Постников и с омерзением провел ладонью по своему влажному животу. Живот был небольшой еще, но уже трясущийся и какой-то голубоватый – такого цвета, наверное, будет синтетическое молоко, когда всемогущая наука подарит его людям. Постникову смертельно захотелось, чтобы жена передала ему нечто бессмысленно лирическое, десятилетней давности. А еще лучше – двадцатилетней. Например: я ужасно соскучилась, без тебя уснуть не могу, а если задремываю – вижу тебя во сне… И чтобы Павка вспомнил.
– Из башки вон, – сказал Павка. – Слушай, я уйду сейчас.
– Куда?
– К Вальке. У него дээсовская выставка на квартире сегодня. Социальные акварели.
– Когда вернешься?
– Да я, может, не вернусь. Ты ложись, не жди меня. А! – Павка хлопнул себя по лбу. – Велела белье не занашивать. Если, говорит, сами простирнуть не соберемся, складировать в таз под раковиной – приедет, обработает. А то, говорит, никакой отбеливатель не возьмет.
– Ясно, – сказал Постников бравым голосом. – Ты исполнил?
– А то! Трудно, что ли?
– Молоток. Беги, ладно. Позвони только, когда сообразишь, вернешься или нет. А то я волноваться буду, Павка.
– Ой, да плюнь! Зануда ты, отец. Как тебя любовницы терпят?
Постников подумал, что надо бы вспылить, но ни желания, ни сил на это не обнаружил. Да и сын засмеялся, показывая, что шутит, подошел к Постникову и ткнул вертящимся пальцем ему в живот. Живот уже просох, почувствовал Постников, тоже засмеялся и хлопнул сына по руке.
– Утром когда вернешься?
– Ну ты что, склероз совсем? Утром же у меня тренировка.
– Тьфу, черт, суббота, – вспомнил Постников.
Павка бросил себе на спину свитер, завязал рукава на груди.
– Это… там тебе еще письмо из Штатов.
– От Эшби?
– Да я не смотрел. Пока! – Дверь лязгнула. Это действительно было письмо от Фрэнка Эшби. Постников познакомился с Фрэнком на конгрессе социомодельеров четыре года назад. С длинным, непривычного вида конвертом в руке Постников пристроился обратно в свое кресло. Из распахнутых окон дома напротив как недорезанные верещали по-английски какие-то новые, совсем уже неведомые Постникову группы, громко открывала душу женщина Пугачева, Боб Расческин доверительно сообщал, что он змея и сохраняет покой, устарелый Жарр булькал «Магнитными полями». Вечер пятницы. Хлопнула дверь внизу, и раздались громкие голоса – Павки и Вальки. Валька, оказывается, ждал где-то здесь – то ли на лестничной площадке, то ли в кустах под окном. «У нас у самих рыльце в пушку!» – «У всех в пушку! Не об этом речь, не о количестве пушка, а о наличии рыл как таковых!» – «Демагогия. Мы всех будем ругать, а нас никто не смей, мир сразу развалится…» – «Ой, да плевали все…» Постников прислушивался, пока голоса не пропали, но так и не понял, о чем речь. Какие-то их дела. Сигнал с другой планеты, обрывок чужой шифровки. «Дешифровать к утру, ротмистр, или расстанетесь с погонами!..»
«…Мы перебрали два десятка сценариев, – писал Фрэнк. – При любом из них получается, что должно смениться еще не менее семи поколений, прежде чем станут ощутимы изменения. Да и то мы принимали за константу интенсивность человеконенавистнической пропаганды, которая на самом деле, несмотря на поверхностные политические сдвиги, растет, сознательно нагнетается средствами массовой информации и, видимо, сводит на нет эволюционный процесс. Прогнозы самые неутешительные. Очевидно, что у человечества нет такого запаса времени…» Постников посмотрел еще раз на конверт, на штамп «Эйр мэйл». Больше двух месяцев этот плоский дружеский кулечек полз поперек планеты, преодолевая расстояние, которое какая-нибудь никому здесь не нужная «МХ» покроет за тридцать семь минут. Парадоксально, конечно… Надо марку Свирскому отнести в понедельник, мельком подумал Постников.
Хлестнул телефонный звонок. Жена, вскинулся Постников, срывая трубку:
– Алло?
На том конце – тишина, затем изумленный женский вздох и отбой. Конечно, Анна. От поспешности едва попадая пальцем в дырку диска, Постников набрал номер. Не отвечали очень долго. Испытывая жгучее желание плюнуть на все это, Постников тем не менее терпеливо ждал.
– Да?
– Это ты звонила?
Пауза.
– Я.
– А трубку-то зачем бросила?
Анна опять вздохнула.
– Просто хотела услышать твой голос, потому что испугалась, что с тобой что-то случилось. Ты всегда чувствуешь, когда мне худо, а тут я жду, жду, ты не едешь и не звонишь, хотя уже скоро девять. Я испугалась.
– Я только сейчас с работы, прости. Что с тобой?
– Не знаю. Не спала совсем… в половине третьего проснулась – нет, даже раньше, наверное, в четверть. И уже больше не смогла уснуть. Такое ясное небо, как зимой, все звезды заглядывают в окно, как зимой, а они не должны быть как зимой, ведь лето, правда? Лето… – Она надолго замолчала. Постников ждал. – Поэтому очень страшно… такие острые, что хотелось кричать.








