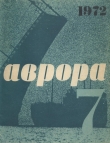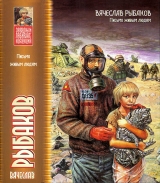
Текст книги "Письмо живым людям"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 62 страниц)
Оттаивание российской литературы во время хрущевской «оттепели» выразилось, помимо прочего, в том, что объективно вечная, не прекращающаяся никогда погоня общества за идеальным образом себя, никем из литераторов сталинского замеса искренне уже не ощущаемая и не переживаемая, превратившаяся у них в набор чисто ритуальных заклинаний, вновь стала наполняться живыми переживаниями.
Конечно, процесс творчества у разных людей протекает по-разному, но, думаю, можно сказать вот что: естественным образом работающий писатель нарочно своих книг никогда не придумывает. Рациональное придумывание, конструирование начинается уже на последней стадии – как лучше расположить эпизоды, как назвать персонажей и т. д. Прежде всего писатель совершенно непроизвольно – так, как вообще люди ищут общения, просто здесь поиск проходит в специфической форме – отвечает миру, вызывающему в нем те или иные эмоции, попытками создать тексты, которые оказались бы способны вызвать те же самые эмоции у любого, кто эти тексты читает. На поверку, конечно, выходит слегка наоборот: эти тексты читаются и находят отклик только у тех, кто уже сам, сознавая это или нет, испытывает аналогичные эмоции.
Если писатель переживает только за себя и о себе или даже еще о двух-трех ближних своих, то и основных персонажей у него, как правило, окажется один-два-три, а остальной мир останется почти не фигурирующей, узнаваемой сразу обыкновенностью. Если писателя Бог сподобил переживать еще и за все общество разом, за то, что в нем происходило, происходит или, как он чувствует, может произойти – тогда общество так или иначе оказывается среди основных персонажей. Россияне традиционно были к таким переживаниям весьма склонны.
Великолепным и, не побоюсь этого слова, уникальным инструментом для претворения в тексты переживаний такого рода стала в ту пору так называемая научная фантастика. Именно она оказалась созвучным эпохе приемом описания общества не как фона, а как равноправного, привлекательного или отталкивающего персонажа произведения.
Вообще говоря, изначально словесность была именно как раз фантастикой. Ритуальные песнопения, заклинания и прочие продукты тогдашнего творчества призваны были не столько описывать мир, сколько воздействовать на него. Они оперировали не индивидуальными переживаниями, а коллективными целями и желаниями. Так называемый реализм возник только тогда, когда разрушилась первобытная нерасчлененность людского коллектива и индивидуальные мысли и чувства стали значимыми, а следовательно – интересными. Античные трагедии – самый яркий тому пример; в фокусе едва ли не любой из них находился конфликт личности и общества, личного и общественного. Светский роман с его вниманием к индивидуальному смог возникнуть в Средние века только благодаря тому, что диалог с коллективным подсознанием надолго взяла на себя религия. Но с размыванием религиозности, особенно интенсивным в Европе в XIX веке, возникла новая литература, научно-фантастическая, снова сфокусированная не столько на индивидуальных переживаниях, сколько на коллективных представлениях о том, что для коллектива плохо и что – хорошо. В СССР, где небеса особенно яростно опустошались государством, а индивидуум особенно яростно впрессовывался в коллектив, научная фантастика стала основным видом литературы, адресованным к коллективному бессознательному.
Отбросив навязанную ей в 30-х – 50-х годах – как и всей, впрочем, литературе, только еще более жестко – роль коллективного пропагандиста и коллективного организатора, обязанного изображать всех врагов уже поверженными, все победы уже одержанными, а всех героев уже увенчанными – посмертно или нет, не важно, – она оказалась способной взять на себя роль, к которой так называемая реалистическая литература была мало приспособлена: овеществлять, словесно материализовывать реально существующие коллективные мечты и реально существующие коллективные страхи.
Определение «научная» тут сразу стало анахронизмом, атавистическим хвостиком, отросшим две эпохи назад, в жюль-верновские времена, когда, в условиях полного отсутствия научно-популярной литературы НФ лучше всех прочих видов словесности смогла удовлетворить возникший на нее спрос.
Каким бы крупным палеонтологом ни был Иван Ефремов, астрономом – Борис Стругацкий, востоковедом – Игорь Можейко, от случая к случаю встречающиеся в их произведениях наукообразности кардинально отличаются от научного текста. Научный текст внеэмоционален, он апеллирует только к рассудку и убедителен только на рассудочном уровне. Наукообразности – с конца 50-х почти исключительно социологические – суть только попытки найти словесное оформление, придать рациональную убедительность социальным чувствам и взглядам. Все, что требовалось теперь от наукообразностей – это не быть явной чепухой, да и то лишь потому, что чепуха, разрушая ощущение достоверности, парализует эмоциональный резонанс. Хотя среди апеллирующих к рассудку тирад вполне могли иметь место здравые, информативные и даже новаторские мысли и концепции, что только увеличивало воздействие, потому что расширяло область резонанса. Иван Антонович Ефремов, например, с одинаковой легкостью – и с одинаковой целью! – цитировал и Маркса, и придуманного им самим великого историка Кина Руха; и, честное слово, Кин Рух по этим цитатам выглядел по меньшей мере не глупее основоположника. А вот там, где, скажем, тот же Иван Антонович принимался напрямую поучать, пусть даже вещал он абсолютно справедливые вещи, – резонанс угасал.
Творчество двух крупнейших фантастов той эпохи – писателя Ефремова и писателя братьев Стругацких – при всей их несхожести позволяет очень четко проследить эволюцию Сверх-Я советского общества; особенно удобно это делать по творчеству братьев Стругацких, потому что этот писатель писал больше, публиковался чаще и прожил на восемнадцать лет дольше. Но переживания и у того, и у другого были явно однотипными и развивались параллельно переживаниям общества, в чем-то предвосхищая, в чем-то стимулируя их. Под обществом здесь имеется в виду та его часть, которая вообще способна к переживаниям подобного рода.
Поначалу главным аффектом является ожидание рая. Ожидание страстное, нетерпеливое, активное. Вошедшее в плоть и кровь православной культуры упование на скорое пришествие царствия небесного, трансформированное европейской доктриной обретения этого царствия в посюсторонней жизни и помноженное на советскую яростную надежду построить его быстро, своею собственной рукой. Вот оно, в двух шагах, общество хороших людей, которым никто и ничто в этом обществе не мешает быть хорошими и даже становиться еще лучше – ни аппарат подавления, ни преступность, ни война.
Но сразу выявляется фатальная слабина овеществляющего желание быть хорошими мира. Что нужно перешагнуть, чтобы сделать эти два шага? Что за порог? Что за бездну? Ведь очевидно же, что мир реальный и мир изображенный отличаются друг от друга качественно, принципиально, и даже люди, населяющие текст, вопреки стругацковской максиме «почти такие же», тоже отличаются от реальных качественно: они лишены комплексов, агрессивности, лености, косности…
Здесь, между прочим, явственнейшим образом просматривается водораздел двух культур. В западной фантастике для изображения светлого будущего, как правило, достаточно простого количественного увеличения уже существующего. Там иной миф: нет таких неприятностей и бед, против коих не выступил бы простой славный американский парень, который, поднапрягшись как следует, даже получив пару раз по сопатке и даже – страшно подумать о таких лишениях! – как-то утром не сумев обеспечить любимой девушке, стоящей с ним плечом к плечу, горячего душа и мытья головы правильным шампунем, не ликвидировал бы локальное ухудшение в целом не требующего улучшений мира. Только если мир изменен качественно, простой славный парень ничего не может поделать (смотри, например, «1984»). Качественные изменения существующего мира всегда к худу. У нас же улучшение мира может быть только качественным; о количественном улучшении уже существующего лучше было не думать. Да и не думалось.
Формально все это было еще допустимо. Методику движения ногами на протяжении вышеупомянутых двух шагов четко обозначила Партия в своей грандиозной программе, так что господа литераторы могли о переходном периоде не беспокоиться. Но объектом переживания эти два шага не стали и не могли стать. Вся Программа сводилась к вековечной фразе «По щучьему велению…». Что было переживать, кроме отчаянного желания оказаться наконец по ту сторону нескончаемого мгновения, на протяжении которого щука исполняет свой магический взмах хвостом? И это казалось естественным, потому что, каким бы новым и умным ни считали тогда жанр НФ, он прекрасно уложился в традиционные мифологемы; в сказание о граде Китеже, например. Поднырнуть под мерзость неодолимой реальности, а через промежуток времени, сколь угодно короткий, или сколь угодно долгий – ведь в озере время останавливается, как в коллапсаре – когда беды увянут, всплыть обновленными, и все же «почти такими же»…
Но искренне переживающие и честно думающие люди в озере долго не могут. Дышать нечем. Или уж тонуть насовсем – или всплывать, не дождавшись благорастворения воздухов. Все попытки нащупать эмоционально непротиворечивый, единый образ, составляющими которого являлись бы прекрасное завтра и день ото дня все более унылое сегодня, проваливались. Нитки лопались. Или – или. Абстрагироваться от переходного периода уже не удавалось, он начинал вызывать беспокойство, то есть сам становился объектом переживаний.
Да как же так, братцы! Ведь там хорошо! Там никто нас не унижает, никто не давит, там нет госграниц, там все уважают, обожают и прощают друг друга, там не воруют и не стреляют, там летают к звездам, там открывают анамезон и нуль-Т, там нет ничего ценнее, чем любовь к человеку и познание великих, таких манящих, столько сулящих тайн природы, мы так туда хотим! И вы хотите! Ведь не может человек этого не хотеть! Ах, может? Ах, есть такие, кому на все это плевать? Да кто же это?
Мещане.
«Мещанин… – Человек с мелкими интересами и узким кругозором» (С.И. Ожегов, «Словарь русского языка»).
У Ефремова этот момент несколько смазан – хотя и он в «Сердце Змеи», избрав овеществляющим все дурное объектом негодования какого-то Богом забытого американца с его фантастическим рассказом, показал ему, а заодно и всему миру, как на самом деле надо. Стругацкие же всей мощью своего таланта обрушились на мещанина. И раз, и два, и три…
Да если бы только фантастика на него, беднягу, окрысилась! Все искусство середины 60-х, казалось, нашло врага унутреннего, который сорвал Семилетку. От «Иду на грозу» до кретинических частушек про ханыг в узких брючках, увиливающих от ударных сибирских строек… Гореть нужно, товарищи, гореть душой и телом, не думая ни о себе, ни о ближних своих, ни о завтрашнем дне – только о светлом будущем, и тогда оно наступит непременно! Спать на раскисшей глине, есть помои – но задуть домну на пять дней раньше планового срока! А от домны, вы же понимаете, и до светлого будущего рукой подать…
И какие-то страшно знакомые нотки звучали в этом хоре.
«Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах…»
И – дальше, глубже… «Но недаром сказ ведется, что лишь дурням клад дается…» Старшие братья Ивана-дурака, живущие только обыденным трудом и потому проспавшие маму Конька-Горбунка… Зажиточные соседи Емели, никак не верившие, что печка поедет… Не верившие.
«И по вере вашей воздастся вам…» «Не любите мира, ни того, что в мире…» «Кто миру друг, тот Богу враг, и кто миру враг, тот Богу друг…»
Ох, архетипы, архетипы.
Отчего одни и те же новозаветные тексты оказали на православную и западноевропейскую цивилизации столь разное воздействие – отдельный вопрос, и не в нем нам сейчас разбираться. Но факт остается фактом: пригвождая к позорному столбу каких-нибудь рыбарей, Стругацкие, овеществляя свое к ним отношение, так изображали их, что неизменно оказывались правы, рыбари не заслуживали ничего, кроме позорного столба; но на деле Стругацкие воевали против советского аналога тех самых славных простых ребят со всеми их слабостями, которые в американской фантастике – у Саймака, например, – столь же неизменно раз за разом спасали мир.
Но ведь чем-то же отличаются, как ни крути, эти аналоги? Отличаются Гай Гаал из «Обитаемого острова» или Гаг из «Парня из преисподней» от саймаковских Паркера из «Почти как люди» или Картера из «Все живое»?
Да. Тысячу раз да. Они одурманены тоталитарной пропагандой.
Ага.
Значит, мещанин не сам по себе мешает достичь светлого будущего – которое год от года становилось не то что менее светлым, но явно более далеким, проваливаясь куда-то в невидимость. С мещанином как таковым мы бы справились. В крайнем случае сманили бы у него детей в какой-нибудь звездный лепрозорий… закрытый пионерлагерь «Квант»… Мещанин страшен потому, что тоталитарное общество не может без него, оно паразитирует на нем и потому культивирует его. Пока существует тоталитарное общество, оно будет плодить, множить и оберегать от немещан тех, кто не любит любить, а любит стрелять, не любит познавать, а любит унижать познающих, не любит создавать, а любит разрушать…
Конечно, не Стругацкие это открыли. Уже были Солженицын и Сахаров, уже были Новочеркасск и Чехословакия. Но – для единиц. А на рубеже 70-х уже и массовое сознание той части интеллигенции, которая сохранила способность болеть за страну, стало медленно поворачиваться в этом направлении. Тоска по социальному идеалу неизбежно начинала вызывать ненависть к той системе, которая не дает идеала достичь.
Колесо судьбы свершило свой оборот. Долой самодержавие. А еще дальше в глубь веков: Антихрист на троне.
Ефремов пишет «Час Быка».
Уникальный, удивительный по эмоциональной убедительности и привлекательности XXII век Стругацких нечувствительнейшим образом трансформируется. В «Жуке в муравейнике» все светлые детали, перекочевавшие из «Возвращения», «Далекой Радуги», «Парня» выглядят как кумачовые транспаранты из «Победителей недр» какого-нибудь Адамова; они начисто лишены эмоционального насыщения. Основной аффект теперь – противостояние Службы Безопасности и того, что она соблаговолила счесть опасностью. А в «Волнах» текст сразу, одними лишь бесконечными отсылками на документы и протоколы, напоминает уже несколько раз всей страной просмотренные «Семнадцать мгновений весны»; рейх, ну чистый рейх; и те, кто перерастает этот тварный мир, мир приспособленных к тоталитаризму тварей, и уходит в горние выси, кладут с прибором на всех друзей и подруг, на все, что делали прежде и обещали сделать потом, и это описывается с сочувствием, с печальной симпатией… Светлое будущее окончательно ушло туда, откуда оно веком раньше пришло в философию и литературу – за облака.
Что дало, между прочим, милейшей Майе Каганской возможность («22», август – сентябрь, 1987) с маниакальной дотошностью доказывать из Иерусалима, что все последние вещи Стругацких – это сложнейшим образом закодированный призыв к евреям покинуть варварскую Россию и эмигрировать в Израиль. Слово «люден», оказывается, нужно понимать как «юден», клеймо Странников, напоминающее то ли стилизованное «Ж», то ли иероглиф «сандзю», нужно понимать как «жид», имя «Махиро Синода» нужно понимать как «Махровый Синод», инопланетное имя «Итрч» нужно понимать как аббревиатуру словосочетания «истинно русский человек»… Помню, Борис Натанович смеялся по этому поводу: «Уж тогда надо было расшифровывать как «истинно-таки русский человек»!
Кстати, в этом же пыталась убедить меня одна врачиха, когда я валялся с воспалением легких в больнице Академии наук. И, кстати, в то же году, в 87-м. «Это они своих жидов в Израиловку скликают. Не верите? А вот посмотрите: если в этой фразе «прогрессор» заменить на «еврей»… А вот здесь «люден» заменить на «еврей»… А «звездолет» заменить на «еврей»…»
Противоположности действительно сходятся – но только на уровне паранойи.
Очередное прогнившее самодержавие в очередной раз рухнуло в 91-м году. Осенью этого года писатель братья Стругацкие перестал существовать. Светлая ему память.
Остальная фантастика к этому времени влачила довольно жалкое существование. Ефремов своей ранней смертью и цепью совершенных в последние годы жизни чисто человеческих ошибок, формулируемых одной стандартной фразой «пригрел змею», невольно дал возможность провозгласить себя апологетом системы в противовес ее очернителям Стругацким; возникла – уж не сама собой, разумеется, не бесплатно! – так называемая «ефремовская школа», где бездарности и полубездарности пытались описывать светлое будущее, наворачивать сопли в сиропе по поводу конфликтов добра и добра так, будто с 56-го по 82-й ровно ничего не изменилось. Но социальная ситуация и вызываемые ею переживания трансформировались принципиально и необратимо.
Произошло то, что в психологии называется, кажется, «сдвигом на цель». Если то, что воспринимается как препятствие на пути реализации некоей сверхценной, неотменяемой цели оказывается непреодолимым, борьба с этим препятствием сама становится сверхценной целью, источником основных переживаний, оттесняя прежнюю цель далеко на периферию сознания и выпаривая из ожидания встречи с нею все живые эмоции. Так испарилась жизнь из «Возвращения» и «Далекой Радуги» ко времени «Жука»; ведь снятие государственных пут с личности, которое поначалу просто подразумевалось как вполне доступное средство построения лучшего общества обернулось основной, финальной задачей, а что после – не важно; после – облака.
Поэтому то, что в годы реабилитаций, «Востоков» и Черемушек воспринималось бы как пусть не очень талантливое и все же греющее душу изображение мечты, которая вот-вот станет былью, в годы талонов, орденов и психушек, в годы, когда молодым героям пришлось лететь не на Луну и не на Марс, а на Прагу и на Кабул, превратилось в обыкновенное вранье. И даже невоодушевляющее. Скорее, издевающееся над мечтой. Те, кто пытался обмануть, сами ни на грош не «верили в обман», и это чувствовал с первой же страницы каждый. И потому вранье «ефремовской школы» было злобным, агрессивным; ему не на что было опереться, кроме как на спекуляцию той или иной рознью. Лишь одухотворение ненавистью давало текстам какой-то эмоциональный заряд. Ненавистью хоть к кому-нибудь. К отвратительным американцам, к подлым диссидентам, к злокозненным нацменьшинствам. Забавно, но анахроничной тупостью своей и своей бесчеловечностью подобные произведения превращались в полнейшую антисоветчину, ибо доводили до полного абсурда, до смехотворного идиотизма все якобы отстаиваемые ими идеи и вдобавок до наивности неприкрыто демонстрировали, что фундамент всех этих идей – нетерпимость.
Сдвиг на цель привел к тому, что основным реальным страхом стало: нас загоняют совсем не в наш идеал. А основным реальным желанием – желание смести тех, кто загоняет. Это было как инфекционное безумие; дальше не заглядывали ни чувства, ни мысли. Литературно самые непритязательные, подчас – не лучше опусов «ефремовской школы» рукописи, покусывающие тоталитаризм, были обречены на резонанс с читателем. Реалистичным стало только овеществление страхов. Как грибы, росли под каждым кустом образы катастроф, всепланетных концлагерей, глобальных войн. Иногда они даже пробивались в печать…
Сверх-Я клокотало вхолостую, тщетно пытаясь соткать единый эмоциональный ковер из Афгана и запусков зондов к Венере, из Чернобыля и братства народов… Полотно рвалось.
И разорвалось наконец.
И снова, в который раз, вместе с ним разорвались объединяющие скрепы, вот уже многие года ощущавшиеся как рабьи цепи; светлый образ будущего, как воздушный шар, от которого оторвалась корзина с пассажирами, стремительно растаял в синеве, а мы грянулись о грешную землю – и обернулись… кем?
Кто кем.
Во-первых, этот крах очень у многих напрочь отбил охоту мыслить социальными категориями и, паче того, всерьез переживать по их поводу. Не до них, детей бы прокормить. И потом, думай не думай, переживай не переживай – все равно не угадаешь, какую завтра в Кремле очередную хохму отмочат.
Во-вторых, накопленный потенциал негодования никуда не делся, он не смог выплеснуться в массовой социальной судороге. К счастью, да, тысячу раз да. Но зато он раздробился; вместо одного-двух-трех масштабных противников он получил теперь тысячи разрозненных адресатов. Эмоционально – всяк сам за себя. И это бы еще ничего, по слухам, весь, мягко говоря, цивилизованный мир так живет, но наш накал ему и не снился; едва ли не каждая группочка, едва ли не каждый хмырь мнят себя, как велит знать не знающая о возможности столь мелкой социальной шинковки традиция, махусенькой святой империей во вражеском окружении, абсолютно праведным градом Китежем, которому вот-вот воздастся наконец за все страдания, а поганые – но поганых-то чуть не вся собственная страна! – изыдут.
В-третьих, оба ведущих аффекта – страх за себя и за ближних своих и множество бытовых микроненавистей – месяц от месяца усугубляются видимо нарастающей и все более кровавой дезорганизацией, отсутствием явных, устойчивых авторитетов и стремительной имущественной поляризацией. И то, и другое, и третье находится в давнем, традиционном противоречии с архетипами коллективного Сверх-Я православной культуры, помимо которого даже атеисты не имеют здесь никакого иного.
Переживать за общество в целом стало более чем затруднительно. Ну какое там общество – в нашем-то, исконном понимании, где синонимом слову «общество» еще так недавно было слово «мир»? Какой, елки-палки, мир из сидящего в переходе метро безногого старика и в «мерседесе» проносящегося по Невскому над ним толстолобика, да еще при явной неспособности и почти столь же явном нежелании государства создать механизмы обратной перекачки части доходов от мерседесников к безногим? Какие переживания охватывают – угадайте с трех раз! – живущего на четыреста тысяч в месяц профессора, основного кормильца семьи, когда он видит по телевизору сладкоголосого публициста, с микрофоном скачущего вокруг какой-то шмакозявки: «Скажите нашим зрителям, кто вы?» – «Студентка второго курса». – «Что привело вас сюда?» – «Я купила акций на двадцать семь миллионов и очень довольна…» Можно было переживать за Тухачевского, пусть даже в самом широком спектре, от «Собаке – собачья смерть!» до «Несчастная жертва кровавого режима…». Но переживать за Грачева?
А за государство – категорию столь ценную для нашего, извините за выражение, менталитета еще со времен зажатой в кольцо иноверческими державами Византии? Тут остается переживать только то, что государства нет. Это не фраза. Государство существует лишь в той степени, в какой оно осуществляет на роду ему написанные функции: оборонительную, правоохранительную, регулирующую. Не буду отвлекаться – хотя очень хочется, уж больно накипело – разбирая, насколько каждая из них выполняется Россией – наконец-то свободной, наконец-то независимой от Украины с ее исконно украинским Крымом, от Казахстана с его знаменитой целиной… Можно только догадываться, как эти края мешали в свое время Бурбулису: ни зарплата, ни жилплощадь от них не увеличиваются, а хлопот из-за них полон рот. Не меньше, чем у Ельцина из-за Горбачева. Вот оба и освободились разом. А мы теперь празднуем.
И в то же время те, кто искренне переживает все эти, мягко говоря, несообразности и честно, в меру своих интеллектуальных способностей, ищет пути их преодоления, лишены всякой возможности в очередной раз взвыть «пусть сильнее грянет буря!» – в отличие от разнообразнейших групп и группочек рвущихся к власти демагогов, никем, кроме себя, не взволнованных, но зато, пользуясь выражением Стругацких, прекрасно знающих, с какой стороны у бутерброда масло, и от бесноватых стариков и старух, переживающих всей душой, но зато не видящих дальше собственного носа. Лишены, ибо, во-первых, прекрасно знают, что творят и чем кончаются у нас бури. И, во-вторых, ибо не знают, что бы такое принципиально новое предложить всем взамен. Разумной альтернативы эволюционному, по крупицам, шажочками выправлению несообразностей нет.
Ох, да конечно, хорошо бы взять и в одну ночь расстрелять всех преступников! Как об этом мечтал еще в 60-х настоящий мужчина Иван Антонович! Ничего не мог с собой поделать, мечтал. «Страшные неизвлекаемые ножи торчали из скрюченных тел. Ген Ши и Ка Луф понесли заслуженную кару… Наказаны смертельно еще двадцать главных виновников… Вы не представляете, сколько накопилось у нас человеческой дряни за много веков истребления лучших людей, когда преимущественно выживали мелкодушные приспособленцы, доносчики, палачи, угнетатели! Мы должны руководствоваться этим, а не слепо подражать вам (не одобряющим террора землянам из светлого будущего – В.Р.). Когда тайно и бесславно начнут погибать тысячи «змееносцев» и их подручных – палачей «лиловых» – тогда высокое положение в государстве перестанет привлекать негодяев» («Час Быка»). «Я могла бы убивать всех, причиняющих страдания, и тех, кто ложным словом ведет людей в бездну жестокости, учит убивать и разрушать якобы для человеческого блага. Я верю, будет время, когда станет много таких, как я, и каждый убьет по десятку негодяев. Река человеческих поколений с каждым столетием будет все чище, пока не превратится в хрустальный поток» («Таис Афинская»).
Но раз за разом, с железной закономерностью, исключающей все иные варианты, уже через пять минут после объявления очередной очистительной бури расстреливать начинают как раз те самые преступники, те самые приспособленцы и доносчики, от коих так хотелось, и так следовало бы, очиститься. Чтобы думать, будто вот наконец настало время, когда очищение сложится иначе, надо рехнуться. Или очень уж хотеть от кого-то конкретно избавиться под шумок – от соседей по коммуналке, от любовника жены, от конкурента…
Фантастика в очередной раз оказалась уязвимее многих иных видов искусства. Ровно в той степени, в какой парализовано разрывом социальных связей и рассыпанием общества коллективное Сверх-Я, ровно в той степени, в какой расколоты и раздроблены образы того, каким общество хочет быть, и того, каким общество быть не хочет, того, как достичь желаемого, и того, как избежать нежелаемого, – фантастика лишена прежнего, в течение десятилетий бывшего основным, смысла своего существования.
Затруднительность текстуального построения хоть сколько-нибудь приемлемого эмоционального единства усугубляется еще и тем, что в мозгу пусть даже порядочных людей продолжают искрить – иногда осознаваемо, чаще же только для окружающих заметным образом – вековечные сшибки, полярности и разломы; никуда от них не деться за десять, тридцать, сто лет. Пример навскидку – ну, скажем, прекрасная песня «Офицеры», действительно воодушевляющим образом точащая из слушателей живую слезу. Но: «Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца». Отдавал ли себе отчет автор текста песни, что свобода не может заставить, а если она заставляет (я уж не говорю про «унисон», который искать нужно скорее где-нибудь на плацу, во время факельного шествия), то она уже не свобода? «Свобода» – это понятие, с радищевских и пушкинских времен прилетевшее к нам как смысловой антоним и ценностный соперник прогнившему самодержавию. А «заставить», если заставляют делать то, что считается в данное время ценным и надлежащим, – это просто как вывих вправить; это наше, глубинное, абсолютно естественное, ведь мы все – одно тело, да еще единое с самим Христом… А вот – поставлены рядом.
Мелочь, конечно. Но сколько таких мелочей происходит по стране ежесекундно! И потом, хорошо, если только песня. А коль дойдет до дела? Ах, тебя свобода не заставляет звучать в унисон? Значит, ты враг свободы? Вяжи его, братва!
В силу этой массы факторов фантастике все больше приходится переключаться на индивидуальную беседу, на поиск контакта со структурами психики отдельно взятого индивидуума, в конечном счете – эмоциональную и адаптивную подпитку индивидуальных чаяний и отвращений.
Это кардинальным образом меняет ее облик.