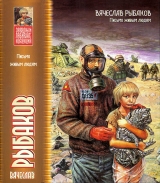
Текст книги "Письмо живым людям"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 62 страниц)
– Мэл… а Мэл…
Открыл глаза, и она, увидев, что он вернулся к миру, громко велела:
– А ну, поднимайся! Спать ночью надо, как все!
Сама она была уже вполне дневная. Мэлор сладко потянулся и сказал барственно:
– Подайте, голубушка, завтрак мне в постель.
– Что? – возмутилась Бекки. Она всегда очень смешно возмущалась – округляя глаза и округляя рот на букве «о». – Давай поднимайся шустро! Из-за чего теперь-то не спал?
– Да все из-за того же. Новый детектор сочинить хочу. Понимаешь, совсем в ином спектре, где-то даже к нейтрино ближе… – Он потрусил в ванную, открыл кран и начал с удовольствием швырять горсти воды себе в лицо.
– Что за дичь… – Бекки, прищурившись, заглянула к нему, да так и прислонилась к косяку, глядя Мэлору в согнутую спину. Мэлор фыркал тюленем и пускал фонтаны брызг, которые веерами рассыпались по объему; можно было принять их за полыхающий ореол. Мэлор всегда очень живописно умывался, и Бекки всегда любила смотреть на полыхающий ореол – только вот пол в ванной от ореола делался мокрым. Наконец удовлетворившись, Мэлор качнулся к полотенцу, запихал в него лицо и стал ожесточенно вытираться.
– Не то ловим, понимаешь? – пробубнил он из полотенца.
– Понимаю. Все понимаю. Синий стал, под глазами мешки.
– Я мешочник. – Мэлор вылез из полотенца влажный, всклокоченный, действительно с мешками, но отнюдь не синий, а умильно розовый. – В мешках-то главный ум и спрятан… Знаешь, кто такие есть мешочники?
– Слышала… какой-то был старый фильм.
– Генераторы уже врубили?
– Как всегда. С девяти до девяти.
– Зря энергию жгут. Теперь я точно знаю! После завтрака сразу звоню Косте…
Костя пришел сам, когда Мэлор торопливо допивал кофе, а Бекки, которая, никогда не торопясь, всегда все успевала вдвое быстрее, уютно сидела рядом в кресле, поджав под себя колени и уложив подбородок на кулачок.
– Однако спать вы горазды, – укорил Костя.
– A-а! М-м! – ответил Мэлор и едва не подавился.
– Не торопись, жуй радостно! – замахал руками Костя. – Я слышал, ты нынче в ночь мировую науку перевернул?
Бекки при этих его словах покраснела и отвернулась.
– Женщина продала? – спросил Мэлор, поспешно доглатывая. Костя кивнул. – И-эх! – сказал Мэлор горестно и придвинул к себе здоровенную кипу исписанных листков. – Весь эффект поломала… Ну, получай тогда. Вот. Как я догадался, что декваркованные полосы спадаются именно так – я и сам не помню, но потом железно вышло, что ряд уходит в нейтринную область. Да что я тебе буду – ты сам смотри. – Он стал махать бумагой у Кости перед глазами, но тот поймал его руку, зафиксировал и стал читать по порядку, что-то присвистывая едва слышно. Брови его поползли вверх. Мэлор ерзал, порывался что-то объяснить, показать, ткнуть пальцем, но Бекки незаметно его придерживала, и он лишь увлеченно, сопереживающе дышал широко раскрытым ртом да заглядывал посмотреть, до чего уже дочитал Костя.
Костя дочитал до конца и некоторое время молчал. Зачем-то похлопал себя по карманам куртки, бессмысленно озирая при этом стены.
– Тебе бы раньше жениться… – пробормотал он потом. – А то сколько времени ходил вокруг да около…
– Так? – изнывал Мэлор. – Ну ведь так, скажи?
– Чем ты его кормила последнее время? – спросил Костя, повернувшись к Бекки всем корпусом.
– Собой! – заорал Мэлор, и Бекки мгновенно покраснела снова. – Ее порывы благотворны! – Мэлор сиял. – Что, уел я тебя?
– Мало, что уел… – все еще несколько ошалело пробормотал Костя и опять зачем-то похлопал себя по карманам. – И как изящненько, простенько-то как… Черт, впервые за шесть лет опять курить захотел.
– И посему предлагается такая вот схема детектора! – затрубил Мэлор. Схватил чистый лист бумаги и карандаш, стал ожесточенно черкать вдоль и поперек. – Здесь мы отсеем фон… рекваркуем… разделим право – и левоспиральные…
– Знаешь, что у тебя получилось? – засмеялся Костя, вглядываясь в чертеж. – Нейтринный запал для гиперсветового двигателя, только навыворот.
Мэлор перестал чертить; рука его увяла.
– Врешь, – потерянно сказал он.
– Кто врет, тот помрет, – ответил Костя. Возбуждение Мэлора передалось ему. – Да что ты испугался-то? Тебе по потолку бегать положено! Даже приборы новые измышлять не надо, просто затребуем запал, перемонтируем чуток, и будет тебе приемник, это дело недели!
– Так значит… – Голос Мэлора пресекся. – Ты все-таки думаешь, я правильно это придумал?
Костя поднялся.
– Побегу на радио. Нет, к Карелу сначала… Надо послать запрос. Прямо Астахову.
– Костя, – позвала Бекки. – И знаешь… Ведь Мэлоровы генераторы мы уж неделю гоняем на этих самых режимах. Надо запросить заодно, не было ли замечено каких-то странностей во время стартов.
– Во! – закричал восторженный Мэлор. – Вот кто у нас голова! Вот идея! Конечно, они же должны буквально захлебываться нейтринными обломками! Там же надо сначала виртуал рекварковать по л-п осям…
– Да вы спятили, – пробормотал Костя, ошеломленно пятясь под натиском кричащего, пылающего, размахивающего руками Мэлора. – Больше десяти миллионов километров… Мы же всего ничего даем на входе…
– Что ты понимаешь! – звенел Мэлор, захлебываясь. – Ведь на то связь и рассчитана, чтобы малой энергией достреливать до других галактик!
– Да ты что? Всерьез уверен, что уже имеешь связь?
– Конечно! И это называется, человек читал мой бессмертный труд! Бекки, ласонька, ты приберись тут, а я к Карелу побегу…
Счастливая Бекки поднялась на цыпочки и звонко поцеловала Мэлора в щеку.
Ринальдо
Ринальдо остановился, не решаясь встать на ступеньку. Когда-то ступени скрипели, и Ринальдо любил их скрип, оттого что это приходила Айрис. Ветви кленов удлинились и окрепли, резные листья стояли в тихом воздухе вокруг крыльца.
Ринальдо сорвал один из них и размял в пальцах; на позеленевшей коже остались пахучие волокнистые комочки. Вот Земля, подумал Ринальдо и, осторожно отведя ветку в сторону, шагнул и сел на ступеньку. Ступенька промолчала. Конечно, подумал Ринальдо. А вон там, на полянке, я ставил орнитоптер. Теперь нельзя, теперь там цветы. Красивые. Не знаю, как называются. Опять хотелось плакать. Когда-то, когда-то я сидел на этой ступеньке, слушал, как гудят в этом шиповнике пчелы, и думал, что у меня есть будущее. Что мое будущее – не арифметическое распухание настоящего, но – прорыв в принципиально иные просторы… Принципиально иные просторы себя.
Потом он увидел скользившую сквозь кустарник девушку в импровизированной набедренной повязке из цветастого полотенца. Она действительно скользила – ни одна ветка не вздрагивала, ни один листок. Ринальдо узнал ее сразу, хотя прежде видел не иначе как на стереофото, – и неловко встал, хватаясь за резные деревянные опоры по сторонам лесенки.
Девушка увидела его и смущенно съежилась.
– Здравствуй, Чари, – произнес он.
– Здравствуйте, а я вас не знаю, – ответила она. – Вы к маме?
– Разумеется, – ответил Ринальдо и улыбнулся своей половинчатой улыбкой. – И не стесняйся ты…
Девушка, презрительно фыркнув, мгновенно перелилась в гусарски свободную позу – отставила одну ногу, уперла кулак в слабенькое, мальчишеское еще бедро.
– Вот еще! – сказала она. – Я только никак не ожидала, что тут кто-то есть. А что вы в дом не идете? Мама там, я знаю.
– Сидел и смотрел. Я только что пришел, а здесь у вас замечательно. Тебе нравится?
Она кивнула, и волосы влажным клоком навалились ей на лоб – черные, смолянистые, жесткие. Чанаргвановы. Она сердито отшвырнула их к затылку. На левом ухе ее массивно раскачивалась длинная золотая капля – клипс кристаллофона.
– Да… Только вот Дахр улетел, без него скучно. Я ему так завидую. Мне еще года два ждать, а он через отца выклянчил, улетел вне очереди… Я вот так никогда не умею. – Она безнадежно шевельнула рукой. – А вы кто?
Ринальдо прикинул, кто же он.
– Да так, знаешь… старый знакомый. А что это за цветы?
– Где? – Она обернулась. – А… Орхидеи… специальные, для этих широт. Мама сама выводила, вы разве не слышали? Об этом писали.
Ринальдо виновато развел руками.
– Не довелось как-то. Знаешь, за всем не уследишь. Ты не замерзла?
– Вот еще! – опять возмутилась она. – Я зимой купаюсь! С Дахром вместе. Это брат мой, – спохватилась она. – Везунчик. Вы с нами поужинаете?
– Если не стесню.
– Стесню… – Яркие губы ее недоуменно надулись. – Этакий домина на двоих. Гость каждый на вес даже не золота, а я уж и не знаю чего. Горючего для гиперсветовых кораблей, вот чего. Маме-то никто не нужен, а я… она хочет, чтобы я все время при ней сидела, вот буквально все время. Вы уж заходите, пожалуйста. – Она просительно взглянула на Ринальдо сквозь длинную блестящую челку, опять навалившуюся на глаза. Глаза огромные, пламенные, черные, как сливины, – отцовские глаза…
– Почту за счастье, – сказал Ринальдо.
Чари мягко и точно, как рысь, вспрыгнула к двери, минуя ступени. Ее плечо пронеслось мимо лица Ринальдо – круглое и светлое, блестящее не успевшими высохнуть каплями близкого озера. Ринальдо улыбнулся половиной лица и на миг прикрыл глаза. Плечо от матери.
– Надо же… – пробормотала Чари удовлетворенно. – Вот так идешь, идешь – и вдруг человека встретишь… Ма-ам! – звонко крикнула она и ударом ноги распахнула дощатую дверь. Изнутри густо и сладко пахнуло дачей. – Ма-ам! Тут к тебе ужинать пришли!
Ринальдо осторожно двинулся вслед за девушкой. Она раскачивала бедрами, стараясь казаться взрослее, и полотенце ее, как хвост, моталось вправо-влево. Ринальдо поймал себя на совершенно инфантильном желании дернуть за этот хвост.
– Не споткнитесь, тут доска из пола оттопырилась, – предупредила Чари, и Ринальдо споткнулся. Чари поддержала его ловко и небрежно. – Ну я же предупредила! – укоризненно сказала она.
– До старика долго доходит, – невнятно от смущения попытался оправдаться Ринальдо. Чари воззрилась на него – в сумраке коридора казалось, что глаза у нее светятся собственным светом.
– А вы что, разве старик? – удивленно сказала она.
Рука ее была прохладной; тонкой, но крепкой. Отцовская рука.
Чари открыла еще какую-то дверь – на этот раз на себя, изящно и нарочито манерно потянув за ручку мизинцем и безымянным, – и стало светло.
– Я уж проголодалась, пока ты… – сказала Айрис, поднимая голову к открывшейся двери. И подняла. И перестала говорить, и провела ладонью по задрожавшим губам.
– Здравствуй, – сказал Ринальдо и, подойдя, поспешно подал ей руку – он очень боялся, что она захочет чмокнуть его в щеку. Прежде Айрис со всеми здоровалась и прощалась так. Впрочем, Ринальдо сразу понял, что опасался зря. Айрис секунду помедлила, потом ответила на рукопожатие и произнесла:
– Здравствуй, Ринальдо… – глотнула. Как Чанаргван. Надо же, подумал Ринальдо, как Чанаргван над шифрограммой. Сроднились. – Ты давно здесь не был. Садись.
– Давно. Все, знаешь, недосуг…
– Вас можно поздравить? – спросила она. – Чари, детка, закажи нам что-нибудь на свой вкус.
Она сильно изменилась, подумал Ринальдо, садясь. Раньше она ни за что не показала бы волнения.
Да раньше она и волноваться бы не стала.
– С чем поздравить? – спросил Ринальдо, жадно рассматривая ее лицо. Она настолько изменилась, что смутилась, отвела взгляд и поправила воротник, а затем подняла его, чтобы не видны были молочно-белые, слегка украшенные веснушками плечи. Чари стояла у двери и смотрела не дыша.
– Ну, как же, – сказала Айрис. – Дело запущено наконец. Третий корабль пошел.
– А, – сказал Ринальдо, – ты об этом… – На стене висело стереофото Чанаргвана времени школы: ослепительная улыбка, блестящий летный комбинезон в обтяжку, в руках – необъятная охапка полевых цветов, он держал ее, как держат младенца; позади – небо с веселыми облачками. – Да, мы не зря потрудились, – подтвердил он, издеваясь. – Жизнь прожита не напрасно. Теперь можем позволить себе ежедневные старты, а в будущем – до трех, а то и четырех в сутки. Колонизация началась замечательно.
– Я поздравляю искренне, – сказала Айрис. – Чан тебе здорово мешает?
– Нет, что ты. Мы отлично сработались.
– Чари, я просила ужин.
– А… а что вы любите? – нерешительно спросила Чари из-за спины Ринальдо. Ринальдо повернулся к ней:
– Я всеядный.
– А больше-больше всего?
– Да как сказать… – Ринальдо покосился на Айрис.
На Чари прямо-таки написано было: хоть режьте, а я принесу самое ваше любимое. Но не в коня корм. Ринальдо давно забыл, что именно он любит. Любить было некогда, он или думал, не замечая поспешно заглатываемой пиши, или что-то кому-то доказывал и во время обедов, и во время ужинов, и во время завтраков тоже. И всегда похваливал: ого, как вкусно сегодня готовят.
– В такую жару наш гость даже вечером запросил бы окрошку. Ну, еще ломоть буженины и бокал грейпфрутового сока. Вот такая мешанина. У него странные вкусы, детка.
– Ты так считаешь? – искренне удивился Ринальдо. – Я думал, у меня вовсе нет вкусов.
– Тебе только кажется. На самом деле ты очень привередлив. – Ее губы уже перестали дрожать.
Вот эти губы…
– Я поняла, – сказала Чари робко.
Айрис принялась изучать платье у себя на коленях. Потом принялась тщательно разглаживать его ладонью. Чари тихо вышла.
– Ты зачем приехал? – спросила Айрис, не поднимая глаз.
– Просто так, – ответил Ринальдо асимметрично улыбнувшись. – Давно хотел – а теперь появилось свободное время.
Это была неправда. Он приехал не просто так. Третий корабль погиб сегодня, несмотря на ночную проверку, взорвался на старте в четыре часа дня, как и первые два, и на нем были убиты еще сто тысяч тщательно отобранных замечательных людей. Будто и впрямь куражился и хохотал над бессилием слегка разумных муравьев божок-садист. Ринальдо приехал оттого, что опустились руки. Приехал вспомнить. Воскресить. Вновь полюбить и вновь возненавидеть. Он давно уже не любил и не ненавидел – только спасал; и теперь спасать, не любя, не хватало сил.
– Детей нет? – спросила она. Ринальдо не ответил. – Почему ты украл у меня Дахра?
– Я ничего никогда не крал, Айрис. Даже безделушек. Тем более того, что мне дорого.
– Что?
– Я говорю, украсть, что любишь и в чем нуждаешься, куда труднее, чем то, что безразлично… ты так не считаешь? Это как бы капитуляция. Как бы сам признаешь, что недостоин того, что любишь. И никогда уже не будешь достоин, никогда уже не сможешь добиться естественным путем.
– Что за вздор, Ринальдо! Я просто не могу понять твоих вечных максим! Сколько же можно всех воспитывать?
Он хотел ответить, но не успел.
– Как ты мстишь. Сколько злобы, ненависти… Неужели можно столько лет любить и желать зла?
– Не знаю, – сказал он. – Про зло – разумеется, чушь, а вот любить… – Он пожал плечами. – Просто без тебя мне как-то бессмысленно. Как-то скудно, понимаешь?
– Скудно… – задумчиво повторила она. – Понимаю…
Она не понимает, подумал Ринальдо. Она знает лишь свое «скудно»: Чан в Совете, Чан в Коорцентре, Чан на испытаниях. Чан в рейсе. Чан с друзьями. Чан с подругами… Потом налетит вдруг – топот, смех, крик, грай, нечеловеческий клекот; а поутру – на молочно-белой коже смуглые пятна его поцелуев и тающая в сиянии неба точка его орнитоптера. Разве это скудно? Это просто смешно.
– Почему ты позволила ему вновь… прилетать?
– Откуда знаешь? – вскинулась она и сразу поникла. – Он?! – Она не произнесла, а почти всхлипнула это короткое слово, настолько унизительной была догадка. Ринальдо не ответил, даже не кивнул, но его глаза никогда не умели врать; конечно, он, ответили они за Ринальдо. – Потому что он добрый! – в отчаянии крикнула Айрис.
Ринальдо улыбнулся половиной лица.
Третий курс оказался критическим для Чанаргвана. Ринальдо ишачил на него как мог, но Чан был уже совершенно не в состоянии заниматься чем-либо, кроме тренажера, он находился на грани исключения и только клял судьбу. Ринальдо делал за него вычисления, а Чан сидел рядом и клял судьбу. И тогда хитроумный Ринальдо отказался что-либо делать и стал говорить: «Бездарь!» Он говорил: «Ты никогда не оторвешься от Земли, разве что пассажиром!» Он говорил: «Тебе пасти коров!» Чанаргван возненавидел его, и Айрис возненавидела тоже: «Как ты можешь сейчас! Твоему другу плохо! Надо помочь, а уж потом указывать на какие-то недостатки…» Только на ненависти к Ринальдо Чанаргван выпрямился; только чтобы доказать Ринальдо, и себе, и всем, что он – не бездарь и что Ринальдо – не настоящий друг. Тогда они еще мыслили подобными формулировками. Полгода спустя Ринальдо, уже собиравшийся все рассказать Чанаргвану, попал в аварию на тренажере. Авария была редчайшей и крупной, почти невероятной, отчасти Ринальдо был виноват в ней сам. Он так и остался полукалекой на всю жизнь, но, пока он валялся по госпиталям и реабилитационным центрам, слава подлеца, бросившего талантливого, но разбрасывающегося друга в тяжкий момент, приклеилась к нему навечно; скоро уж все и забыли, почему Ринальдо подлец, просто известно было, что на него нельзя положиться.
– И с чего это к тебе липнут наши дети? – вдруг сказала Айрис с неприязнью. – Дахр… теперь – Чари… глазищи – во, рот варежкой…
– Они мне доверяют.
– Вздор! Не знаю, как там Дахр, но о каком доверии может идти речь между мужчиной и женщиной?
Бедная, подумал Ринальдо. Сгорела.
– А о чем может идти речь?
– О терпении, – отрезала Айрис. – Только о терпении. Ничего не знать и делать вид, что все – как всегда.
Ринальдо только головой покачал.
– Идите есть! – крикнула Чари, растворив дверь. В комнату повеяло свежим и вкусным. Ринальдо оглянулся. Чари успела переодеться. На ней была теперь вызывающе изящная, короткая полупрозрачная хламида и невесомый, совершенно прозрачный синий шарф до щиколоток.
– Ты оделась бы поприличнее, детка, – брезгливо приказала Айрис.
– Вот еще! – с вызовом ответила Чари и уставилась на Ринальдо. – Теперь все так носят, – добавила она отчаянно, – когда хотят понравиться.
– Ринальдо, – сказала Айрис устало. – Уходи.
– Мама…
– Помолчи. Ринальдо, я тебя прошу. Ты здесь не нужен. Ты же всегда это понимал, и сейчас понимаешь.
– Нет, – ответил он с непривычным и оттого еще более сладким ощущением причинения ответной боли. Запретным и великолепным. – Не понимаю.
Лицо Айрис покрылось красными пятнами.
– Выметайся.
– Мама! – вспыхнула Чари. – Как тебе не стыдно!
– Молчи, ты не понимаешь.
Ринальдо медленно поднялся. Чари подскочила к нему и с силой ухватила за локоть.
– Не вздумайте уйти, – быстро произнесла она. – Это бывает с ней. Это оттого, что Дахра нет и отец снова перестал прилетать. Я уже поставила на стол замечательную окрошку, вы в жизни такой не пробовали…
– Чари-и… – с мукой выдавила Айрис. – Ты не понимаешь!
– И не желаю, – энергично возразила Чари. – Не желаю понимать, как можно так обижать человека. Когда поймешь такую гадость – надо перестать жить.
– Чари, – укоризненно произнес Ринальдо, осторожно освобождаясь от ее крепких пальцев. Чари озадаченно смотрела на него. Айрис бессильно уронила голову на сомкнутые ладони; длинные белые волосы упали почти до колен, слабо раскачиваясь единой слитной массой.
– Этот чижик – мой первый муж, – глухо произнесла она из-под волос.
Глаза Чари стали на пол-лица.
– И… правда? И я – вот его дочь?
– Нет! – выкрикнула Айрис, вскочив и сделав непонятный жест руками. – Никогда!
– А что же ты… Все равно не понимаю. Его дочь, скажи!
– Нет, Чари, нет, – мягко сказал Ринальдо. – Мы с твоей мамой были очень недолго. Подо мной взорвался тренажер, и я стал смешной. А твоя мама – трагическая натура, она не любит смешного.
Тогда компания студентов разлеталась с пляжа; Ринальдо не было, он, как всегда, не сумел выкроить время, был занят, и Айрис загорала сама по себе, одна, и им с Чаном, которого она давно знала как близкого друга мужа, было по дороге. Он вел орнитоптер в двух метрах над морем, вдоль скалистого берега, лавируя на предельной скорости с немыслимым мастерством, в полумраке, грозившем стать тьмою. Айрис вскрикивала ежеминутно, и Чанаргван оборачивался к ней, сверкая безукоризненной улыбкой. «Мы убьемся… столкнемся…» – пробормотала она, судорожно цепляясь за его локоть. «Не убьемся», – просто ответил он, и она поняла, что это правда. «Мы убьем кого-нибудь…» – беспомощно прошептала она, в глубине души ожидая, что он ответит: «Не убьем», – и это тоже будет правда, но он снова осветил ее абсолютно правильным полумесяцем улыбки и ответил: «Пусть не зевают», – и все в мире внезапно стало на свои места – так правильно, как она и помыслить не могла до той поры, только предощущала, что возможна некая высшая правильность и точность; кровь зазвенела раскрепощенным гонгом, а Ринальдо с его куцей мудростью, с его вымученными, причудливо и бесплодно сплетенными моралите пропал навсегда. Чан помолчал еще, потом полуобернулся к Айрис: «Это сама жизнь летит под крыло. Преданно стелется, и отлетает, и кричит: задержись, возьми меня! – Он помедлил. – И ты берешь».
Этот вечер все решил. Но Чанаргван был порядочным человеком, и Айрис тоже. Он взял ее лишь через год, когда Ринальдо был уже в реанимации, и взял не подло, а на целых шесть лет.
За окном гомонили птицы.
– Мама… – беззащитно сказала Чари.
– Ну не так же это было, не так, – болезненно выговорила Айрис. – Почему ты всегда лжешь?
– Чтобы мне верили, – мгновенно ответил Ринальдо.
– Слышала? – крикнула Айрис.
– Ты, например, мне верила, только когда я врал и притворялся не собой. А стоило мне по рассеянности или усталости захотеть внимания к собственной персоне, а не к желанной тебе модели, я сразу вываливался из отношений. Все связи рвались. Это такая жуть была – даже когда ты меня ласкала, я не мог отделаться от чувства, что ты не меня ласкаешь, а того, кем я прикидываюсь тебе в угоду. Нам в угоду. При этом ты до самой аварии утверждала, что, кроме меня, тебе никто не нужен, что во мне твои корни…
– Перестань!
– А я всегда всем верил и очень хотел, чтобы всегда верили мне. Хотя бы в главном. Совершенно не переносил недоверия. Совершенно не понимал, как это можно – не верить. Потому что верить – это и значит: понимать, не отмахиваться от чужих слов, как от маловажной ерунды, а принимать их как требующий осмысления, учета, уважения факт природы. И, готовясь к какому-то главному – я тогда думал еще, что у нас будет главное, – я принуждал себя лгать, чтобы ты привыкла, что я не обманываю.
– Болтун… – Айрис села опять, глаза ее блестели торжеством. – Сколько лет прошло, а я не могу без отвращения слышать твой голос.
Ринальдо почувствовал, как Чари снова взяла его за руку.
– Пойдемте, – сказала она тихо. – Вы хотите есть? Или… хотите, я вас провожу?
– Хочу, – сказал Ринальдо. Это была правда. Странно, подумал он, я был убежден, что давно уже разучился хотеть для себя…
– Чари, – мертво произнесла Айрис. – Если ты выйдешь сейчас из дому, можешь больше не возвращаться. Я тебя не впущу.
– Ты думаешь, я так люблю этот дом? – звонко спросила Чари.
На крыльце они остановились, и Чари глубоко вдохнула лучистый, зеленый от летних листьев воздух.
– А знаете, Ринальдо, у нас здесь птицы ручные, – вдруг сообщила она. – Вот так руку подставить – и тут же прилетит. Раньше мне нравилось их с ладони кормить, а теперь разонравилось. Не люблю ничего ручного.
– На мой взгляд, – улыбнулся Ринальдо, – для птиц быть ручными не зазорно.
Удивительное существо была эта Чари. Ей открыто можно было, не боясь обидеть или нажить противника, заявить о своем несогласии, да еще по такому чудесному вопросу, как кормление с ладони птиц.
– Для птиц – да, – нетерпеливо сказала Чари, – но и люди… Вот мама – устраивает трагедии из любящих людей и в трагедиях этих прямо купается, рыдает, не спит… И ничего не чувствует, по-моему.
– Отчего же непременно из любящих?
– Так вот именно потому что ручные и риска никакого! Как птица. Подставишь пустую ладонь, без зернышек, – прилетит, растерянно так покрутит головкой… на один бок, на другой бок, дескать, что ж вы так обманываете… улетит. Через пять минут опять подставишь пустую ладонь – и тут как тут. И она-то рада-радешенька, что к ней прилетают именно впустую! На корм-то к кому угодно прилетят! Тщеславие одно…
– Чари, а вам никогда не приходило в голову, что синицы прекрасно все видят издалека, но просто не хотят разочаровывать пустую ладонь. Хотят сделать ей приятное, что ли… Обман на обман – а в итоге все-таки общение. Побыли вместе.
– Никак не пойму, – проговорила Чари. – Неужели вы все еще любите?
Ринальдо смущенно погладил свою лысеющую голову.
– Есть столько состояний между «любишь» и «не любишь»…
– Не могу представить, – решительно сказала Чари. – Уж или да, или нет.
– Это не совсем так, – с удовольствием не согласился Ринальдо. – И потом, Чари… Надо расставаться вовремя. Чтобы застраховать себя от одиночества. Понимаете?
– Не понимаю, Ринальдо.
– Чари. Если разойтись, покуда еще любишь, только не можешь быть вместе, – остается воспоминание. Остается надежда на новую встречу. Есть для чего жить, есть для чего становиться лучше, делать все, что можешь, как можно лучше… Если промедлить – душа выгорит в бесплодной борьбе и останется пепелище. – Он помедлил. – Мне часто бывает грустно, но пусто – никогда. А ведь пустота хуже грусти. Грусть помогает работать. Пустота сушит, останавливает. Я никогда не стану одинок.
Чари, чуть приоткрыв рот, потрясенно и зачарованно смотрела ему в лицо. Когда он замолчал, она отвернулась, оглядывая лес, но в лесу раздался приближающийся топот, и Чжуэр, вздымая тяжелыми бутсами песок тропинки, вылетел галопом из-за поворота. Он тяжело дышал, и воротник его перетянутого ремнями комбинезона был расстегнут на одну пуговицу; но еще на бегу, поймав удивленный взгляд Ринальдо и истолковав его по-своему, как относящийся к форме происходящего, а не к самому происходящему, он застегнулся ловким, скользящим пролетом левой руки. А в правой трепетал белоснежный бланк шифрованной депеши.
Ринальдо успел увидеть, как изумились глаза Чари, и мгновенное удушье сжало грудь. Ринальдо на миг ослеп и оглох – но тут же пришел в себя, откинувшись спиной на резную опору, и первое, что он увидел, прозрев, снова были ослепительные глаза девушки, с испугом и беспокойством устремленные на него.
– Ну, что там взорвалось еще? – услышал он собственный небрежный голос.
– Зашифровано вашим шифром!
Ринальдо уже привычно, с ледяной душой, наложил дешифратор. Он думал, что готов ко всему. Он снова ошибся.
«Координационный центр – Комиссии. С Ганимеда, из Института физики пространства, поступил крайне странный запрос. Не исключено, что он имеет связь с событиями последних дней. Во-первых, дирекция просит прислать звездолетный нейтринный запал для проведения неких экспериментов. Во-вторых, по просьбе сотрудника института Саранцева М.Ю. – специально оговорено, что по частной просьбе, – институт запрашивает, не было ли замечено неполадок и сбоев в работе нейтринных запалов при последних стартах».
Вот теперь ноги перестали держать Ринальдо. Все спалось, и бесформенно слепилось вокруг, и погасло. Чжуэр попытался поддержать Ринальдо, но Чари порывисто опередила секретаря; слепая ладонь, падавшая в бессильной надежде на случайную опору, встретила ее твердую, горячую руку.
– Вот… – выдохнул Ринальдо и больше ничего не смог произнести. Он чувствовал себя сделанным из мокрой ваты. – Вот. – Он сразу понял все. – Опять как с Солнцем… Чари!
– Я здесь, – поспешно сказала она. – Здесь, Ринальдо.
И тут он понял совсем все.
– Чжуэр! – протяжно крикнул он – так кричат, получив смертельную рану. – Председателю это пошло?!
– Я вручил, – бесстрастно ответил Чжуэр, но Ринальдо показалось, что где-то в глубине его голоса отзвенел торжественный звук фанфар.
– Он не сказал, что в шифрограмме? – тихо спросил Ринальдо.
– Никак нет.
– Что он сказал?
– Он не сказал ничего. Он попросил у меня мой излучатель.
– С какой целью?
– Не могу знать.
– И вы дали?! – потрясенно спросил Ринальдо.
– Так точно. – И вновь за непроницаемой стеной точеного ответа запел победный горн.
– И не спросили зачем?
– Это было бы бестактно с моей стороны, – твердо ответил Чжуэр.
Ринальдо стал пружиной.
– Чари, – бросил он, задыхаясь, – милая девочка, хорошая, спасибо тебе, прости, я бегу. Твой отец в опасности!
И он действительно побежал.
– Чжуэр! – хлестнуло уже от поворота.
Он бежал так, что Чжуэр с трудом догнал его лишь на полдороге к прикорнувшему на песчаном берегу озерца орнитоптеру.
Внизу, медленно поворачиваясь, возникала из дымки устремленная ввысь угловатая громада Совета. Орнитоптер снижался, планируя вдоль нее на предельной скорости, и огненным частоколом летящие окна фасада перебирали, перебрасывали друг другу прерывистый отсвет солнца.
Ринальдо опоздал.
Опоздал буквально на несколько секунд. А возможно, Чанаргван, понимая, что Ринальдо появится вскоре, специально медлил и ждал с излучателем в руке, когда распахнется громадная дверь кабинета, воздух, дрогнув, колыхнет портьеры и щуплая фигурка высветится на пороге, – возможно, эту последнюю маленькую радость он сознательно позволил себе, уже приняв последнее большое решение. Возможно, он думал, что получил на нее право, ибо, возможно, думал, что это решение – самое честное и мужественное из всех его решений. А возможно, он сам уже куражился, как божок-садист, ибо запредельно и непереносимо унизительным для его железной воли борца и первопроходца оказалось то, что все-таки нет ни Бога, ни диверсии, ни стихийного бедствия – ничего, что можно победить и превозмочь, навалившись изо всех сил, – что его сделал мясником просто-напросто нормальный, но необозримый технологический процесс, совсем не враждебная работа самих же людей; и мало того – людей, изыскания которых, находясь в ведении Отдела прикладных исследований Комиссии по переселению, находятся в конечном счете в его собственном ведении. Возможно. Ринальдо не успел даже крикнуть, влетев в сумрак. Тонкий голубой луч хлестнул вдоль портьеры, озарив кабинет невыносимым режущим светом. Стоящий у стола силуэт Чанаргвана, как никогда огромный, призрачный и полыхающий огнями электросварки в этом невероятном мгновенном свете, отлетел в накренившееся кресло, а голова, излучая, казалось, неподвижные облака сияющего пара, замерла в полете. Раздался длинный шипящий звук, будто на раскаленную плиту пролилась вода. Ринальдо долго стоял, захлопнув глаза руками, но голубое дрожащее видение не снималось, пульсировало в мозгу и выцветало медленно, медленно, медленно.
Почти вслепую Ринальдо вернулся к двери, на ощупь тронул выключатель. Свет громадных люстр оказался траурно тусклым. Кабинет раздулся, раздался от непривычного ему верхнего освещения. Вдоль стены, ведя по ней ослабевшей рукой и стараясь не глядеть в сторону стола, в мертвой тишине Ринальдо доковылял до прикрытых портьерами книжных стеллажей. Смысл всех цитат, которые ему захотелось увидеть сейчас, он давно помнил наизусть – но ему нужны были слова, строки, материальные свидетельства того, как, колотясь в тисках преград и противоречий, социальная структура, являвшаяся зачатком той грандиозной общности, во главе которой оказался Ринальдо в эти страшные дни, выстояла против силы, казавшейся по крайней мере не менее неодолимой, чем сила, давившая ныне. Ринальдо снял с полки сразу два тома, раскрыл один – и на пол упала закладка. Отложив книги, Ринальдо с трудом нагнулся и поднял закладку с ковра – то была аккуратная фотокопия, сделанная по просьбе Ринальдо, еще когда он собирал материал для диссертации в исторических архивах. Ринальдо был привязчив – и душой, и рассудком – и с этим документом не расставался никогда. Плотная, упругая бумага глянцевито отблескивала, неся непривычные узоры отпечатанного на старинной механической машинке приказа № 29 по красногвардейскому батальону имени Фридриха Энгельса. «Красное командирство есть сознательное революционное красное геройство, при помощи которого более сознательный революционный боец указывает менее сознательному революционному бойцу, где, как и когда последний должен пролить свою священную кровь во благо мировой революции. Если же красный командир-герой укажет неверно и священная рабочая народная кровь бесполезно прольется, мы самого его прислоним к стенке». Упругий листок мелко, ритмично прыгал в пальцах Ринальдо – пальцы дрожали. Слепящий блик парадной люстры егозил по нему вправо-влево, словно спеша замазать строки непроглядным сверканием, но те подныривали под него и вновь выталкивали на поверхность свои неповрежденные крылья – то левое, то правое. На обширном поле сбоку виднелась едва заметная, бисерная серая вязь – карандашный комментарий, сделанный когда-то и бережно сохраненный копией. Кто это писал? Когда? И, главное, для кого? Ведь в пору таких карандашей к документам подобного рода допускались лишь избранные, а их избирали те, кого избрали чуть раньше, и принцип отбора был один: равнодушен? озабочен лишь карьерой? – тогда читай, твоя идейность вне подозрений… Но, видно, и этот принцип, как и любой другой, время от времени давал сбои – ведь прямо на полях приказа № 29, называвшегося к тому времени «единицей спецхранения», кто-то написал косо, торопливо, комкая слова до малопонятных сокращений: «Но как узнают, что неверно и бесполезно? Кто им это сообщит? 1. Классические утопии Средневековья создавались до вспышки машинного производства, до того как, взамен сельского хозяйства, оно стало осью общественной жизни. Заранее предвидеть этот скачок было невозможно. Точно так же классическая модель коммунизма создавалась без учета грядущей вспышки информационного производства, до того как осью общественной жизни стало именно оно. 2. Информация, пригодная к употреблению, есть продукт труда людей, эту информацию создавших (открытия и пр.) или организовавших (описания, сводки и пр.). Информация есть специфическое – неовеществленное – средство производства (в том смысле, что оно овеществлено не в формах конкретно-вещных, типа станков или труб, а в форме неких сигналов на неких носителях – знаков на бумаге, электромагнитных колебаний на лентах и дисках и пр.), причем такое, которое с XX века имеет решающее значение для управления, планирования и развития. Это значение будет расти в дальнейшем, как на предыдущем этапе росло значение машинного производства. Если преимущественное поступление информации к какой-то группе людей закреплено юридически или организационно, такие люди могут быть названы обладающими собственностью на информацию, а государственная машина, помимо прочего, является орудием охраны этой собственности. Следовательно, всякое регулирование распределения информации есть форма внеэкономического присвоения средств производства, проявление частной или государственно-монополистической собственности на средства производства. 3. В известных до сих пор формациях собственность на неовеществленные средства производства являлась элементом собственности на средства производства вообще. Но если вспомнить ленинское определение классов (группы людей, одна из которых может присваивать труд другой благодаря различию места в общественном хозяйстве) с их четырьмя признаками (место в производстве, отношение к средствам производства, роль в организации труда, способ получения и доля общественного богатства), ясно, что неравноправие по отношению к неовеществленным средствам производства само по себе может служить фактором классообразования. Обеспечиваемая государственным аппаратом возможность присваивать создающий информацию труд и пользоваться его продуктами по личному усмотрению расчленяет общество на слой, отчужденный от неовеществленных средств производства (информационный пролетариат) и привилегированный слой, уже в силу ОДНОЙ ЭТОЙ привилегии всегда обладающий преимущественным местом в производстве, собственностью на центральный элемент средств производства, ведущей ролью в организации труда, специфическим способом получения повышенной доли общественного богатства. Обобществление овеществленных средств производства, происходящее при социализме, не приведет к исчезновению классов и классовых антагонизмов до тех пор, пока частная и государственно-монополистическая собственность на неовеществленные средства производства не будет также ликвидирована. 4. Формула спирального развития, введенная Лениным, выглядит в этом смысле так. Первый виток – три начальные формации, различающиеся по отношениям классов к овеществленным средствам производства. Первобытный коммунизм с его стохастическим распределением продуктов труда; рабовладение – феодализм, осуществляющие отчуждение продуктов труда в пользу господствующего класса методами прямого государственного насилия; капитализм, при котором, в силу краха натурального хозяйства, развития связей, усложнения общества, неовеществленные средства производства становятся осевым элементом экономики, но распределение их в основном остается стохастическим, изоморфным распределению овеществленных средств производства в первобытном стаде. Этапы следующего витка различаются по отношениям классов к неовеществленным средствам производства, поскольку уже ранний коммунизм обобществляет овеществленные, зато устанавливает отчуждение неовеществленных методами государственного насилия, изоморфными методам рабовладения – феодализма. Развитие коммунизма будет обусловлено тенденцией к обобществлению неовеществленных средств производства ровно в той же степени, в какой развитие предыдущих формаций было обусловлено тенденцией к обобществлению овеществленных. Эта тенденция будет приводить к столь же революционным социальным изменениям – но не только социальным, поскольку обретение возможности к усвоению ВСЕЙ существенной для формирования адекватного социального поведения информации КАЖДЫМ членом общества потребует коренной перестройки человеческого сознания, возможно, даже биологической. Но подлинная бес классовость и подлинное отмирание государства возможны только на этом уровне».








