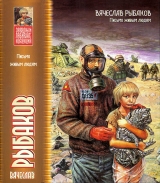
Текст книги "Письмо живым людям"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 62 страниц)
Ира кивнула. Нет, подумал Сталин, не слышит. Жаль. Это надо знать, это бывает и с отдельными людьми, не только с государствами. Как правило – с хорошими людьми, с теми, кто пытается преодолеть естественный, но животный эгоизм отношений: чуть что не по мне – пошел к черту. Могут, могут случаться в жизни ошибки, которые потом не исправить перебором однородных вариантов, барахтайся хоть двадцать лет. И если не успеть повернуть круто, их исправляет лишь сама жизнь, сама история, единственным доступным ей методом – методом безнаркозной хирургии, отсекая весь веер решений, вытекающих из принятой когда-то неверной посылки. Но сколько же крови льется! И обиднее, несправедливее всего то, что чем больше сил, упорства, искусства затрачивается на продлевающее кризис маневрирование, тем страшнее оказывается конечная катастрофа. В начале века Россия слишком хорошо это узнала, не дай бог было бы узнать еще раз.
– Тебе куда ехать? – спросил он.
– В Кузьминки.
– Далеко.
– А ничего. До Кузнецкого погуляю, как раз и метро пустят, тут прямая ветка… До свидания, товарищ Сталин. Извините. С этими спичками чертовыми…
– Пустяки, Ира, пустяки. Ты мне, наоборот, очень помогла. Я на машине – может, подвезти?
– Нет, спасибо. Я правда подышать хочу.
– Одна ночью не боишься?
– Ну, вы скажете!
Она вышла, прощально кивнув ему в дверях, и сразу вошел секретарь. Его глаза блестели торжеством.
– Что? – спросил Сталин, мечтая уже приступить наконец к Осиным стихам. – Неужто Николай еще денек накинул на прочтение?
– Это нет, – сказал секретарь. – Но вот из Капустина Яра – телеграмма. – Сталин подобрался. – Подписано: Лангемак, Королев. Двигатель проработал двести семнадцать часов, магнитная ловушка не сбоила ни разу. – Сталин удовлетворенно повел шеей. – Сахаров считает, что этого достаточно для выхода на субрелятивистские скорости. Следующее испытание они планируют на космос.
– Отлично, – сказал Сталин.
– И сорок семь минут назад, – совсем небрежно добавил секретарь, – Вавилов звонил.
– Что сказал?
Секретарь выдержал театральную паузу мастерски, а потом замедленным, увесистым движением поднял большой палец.
– Зацвело? – выдохнул Сталин и, от поспешности пригибаясь и косолапя, бросился к телефону.
– Просил, когда освободитесь, позвонить ему, – уже откровенно веселясь, сообщил секретарь вдогонку. Не оборачиваясь, Сталин левой рукой показал ему кулак. Правой зацепил трубку, едва не выронил, стиснул так, что пластмасса скрипнула. Чуть дрожащими от радостного волнения пальцами набрал код.
– Он еще сказал знаете что? – негромко проговорил секретарь. – Что теперь, если бы понадобилось, мы смогли бы прокормить весь мир.
– Аральский филиал? – хрипловато спросил Сталин. – Сталин у аппарата. С Опытной делянкой соедините меня, пожалуйста, с Николаем Ивановичем. Если он еще не спит.
Ира шла по безлюдному ночному городу. Цокающая под ногами площадь казалась в темноте бесконечной, но до обидного быстро нагромоздилась впереди спящая глыба гостиницы. Посмеиваясь от шкодливого удовольствия – приятно и странно было не спускаться в подземный переход, – Ира поверху пересекла проспект Маркса, застывший в оранжевом свете фонарей. Машин не встречалось совсем, лишь раз где-то за Манежем почти беззвучно – только шипение рассеченного воздуха с опозданием долетело издалека – прошел, светя габаритами, одинокий легковой глайдер. Было так хорошо, что хотелось влюбиться. Сирень перед Большим театром с ума сходила, истекая ароматом, громадные кисти призрачно белели в густом, настойном мраке. Шелестел летящими струями фонтан, его звук сопровождал Иру едва не до ЦУМа, таинственно светившего дежурным освещением из стеклянной глубины. Она миновала ЦУМ, вышла к Кузнецкому мосту.
Здесь ее остановили. Позавчера ночью двое туристов-автостоповцев из Уганды пытались взорвать мост, укрепив на одном из быков точечную мину. Терроризм, будь он неладен, нет-нет да и к нам что-то проскочит… Террористов взяли, конечно, но пока в органах споро разматывали это дело – протащить «точку» через границу лжеугандийцы никак не могли, значит, они получили ее уже здесь, скорее всего в каком-то из посольств, – мосты на всякий случай охраняли добровольцы из тех, кому не уснуть, если не исправлен вдруг обнаруженный непорядок. На тротуаре стояла рыжая туристическая палатка, из нее вкусно пахло кофе, два баса о чем-то приглушенно спорили внутри. Опершись рукой на гранитный парапет набережной, дежурил высокий худой мужчина в белых брюках и цветастой безрукавке навыпуск – на груди инфракрасный бинокль, на плече ротный лучемет Стечкина, больше похожий на мощное фоторужье, чем на оружие. Заметив Иру, он оттолкнулся от парапета и неспешно пошел ей навстречу. Ира заулыбалась. «…Теперь представь – конвейер, двадцать семь операций в секунду, и так из часа в час!» – громко сказали в палатке. Дежурный подошел к Ире. У него было лицо старого путиловца из исторического фильма и пальцы пианиста или нейрохирурга. Он смущенно пригладил седые усы и спросил, по-хохляцки мягко выдыхая добродушное «г»:
– Погоди, дочка. На ту сторону, что ли?
– Ага, – ответила Ира.
– Тогда уж покажи документы, пожалуйста, – явно стесняясь, попросил он. Ира покивала и полезла в сумочку. Косметичка, духи, ключи от квартиры, ключи от мотоцикла, расческа, томик Акутагавы – в метро читать, собственное стереофото в бесстыжем купальнике – на случай подарить, если какой-нибудь парень пристанет и понравится, затертый пятак, оставленный на память после того, как деньги исчезли из бытового обихода… Нету паспорта. Так, еще раз. Косметичка. Внутрь не влезет, но все же… Она раскрыла, оттуда посыпалось. И тут она вспомнила.
– Фу-ты! – Она даже засмеялась от облегчения. – Вот ворона! Я ж его на столе оставила!
– Артем! – донеслось из палатки. – Кофе будешь?
– Конечно, буду! Сейчас!.. На каком еще столе?
– Да на работе… в Кремле. Вы позвоните товарищу Сталину или секретарю, спросите: Ира Гольдбурт – есть такая? Вам приметы скажут или… Ой. Ну, я не знаю.
– Ты что говоришь, стрекоза? Шестой час! Там либо разошлись, либо спят давно.
– Ну да – спят… Я третью неделю там работаю, так и не поняла, когда они спят.
Артем сочувственно кивнул головой:
– И как тебе там?
Ира только вздохнула.
– Серьезно все – жуть. И страшно – как бы чего неправильно не сделать. Сегодня вот отчебучила – думала, сгорю! – Она опять вздохнула. – Я люблю, когда все на ушах стоят. С детьми о-бо-жаю! Я ж в педвуз подавала, полбалла недобрала, представляете? Стенографию, дурында, выучила – конспекты писать… – Ира дернула плечом. – Правда, стенография-то как раз и пригодилась… Летом опять буду подавать, обязательно.
Артем улыбался:
– Ладно, дуй вперед. На том посту скажешь – Артем пропустил, дескать, я тебя знаю, с отцом твоим мы давние друзья. Отца твоего как зовут?
– А я детдомовская, – сказала Ира. – У меня отца нету, и мамы тоже.
У дежурного обвисли усы. Из палатки высунулась круглая голова и сварливо сообщила:
– Стынет, Артем!
– Погоди ты! Как же это, девочка… где же?
– Там, – нехотя произнесла Ира и резко захлопнула сумочку. – В Богом избранной стране. Их долго не выпускали, не давали разрешения… а как пятидневная война началась, всех, кто в отказе сидел, сразу мобилизовали… Сирот потом Красный Крест развез в те страны, куда хотели уехать родители.
– О Господи, – сказал дежурный. – Ты что ж… совсем одна?
– Почему? – обиделась Ира. – У меня старший брат есть, кибернетик. Сейчас в подводники пошел. Я к нему каждое лето езжу, на лодке была. Знаете, как интересно?
– Знаю, – чуть хрипло сказал Артем и тихонько кашлянул, прочищая горло. Осторожно коснулся Ириного плеча. Ира мяукнула.
– Кофе хочешь? – беспомощно спросил дежурный.
– Нет, спасибо, Артем. Я бы пошла, а? Всю ночь черкала, то немцы, то англичане…
Артем кивнул, вынул из нагрудного кармана коробочек радиофона. Привычным движением сделал из трех пальцев какую-то «козу», небрежно ткнул в клавиатуру. Тускло блеснув, выскочила антенна, радиофон зашипел.
– Пал Семеныч? Привет! Слушай, я к тебе девочку пропускаю.
– Ну да? – спросил радиофон. – Зачем мне девочка?
– Хорошая девочка, только документ на работе оставила. Не гнать же ее обратно, сам посуди.
– Что-то девочка твоя заработалась, – с ехидцей сказал радиофон. – Пропускай, ладно.
– Ну вот и хорошо. Пока.
– Стой, стой, Артем Григорьевич! Тут Вацлав все-таки звонил, кланялся тебе.
– Звонил? Почему не пришел-то?
– Интеграл какой-то доколачивал. Забыл, говорит, о времени.
– Понятно, – с какой-то уважительной завистью сказал Артем. – Талантливый, чертяка…
Радиофон хмыкнул и проговорил:
– А кто сейчас не талантливый? Когда работа в радость…
– Все ж таки по-разному.
– Ну, знаешь, Артем Григорьевич, это как рост. У кого метр семьдесят, а у кого два пять. Но, в общем, к жизни все пригодны. А без роста совсем – не бывает.
Артем засмеялся:
– Ты пропаганди-ист! Что-то я же тебе сказать еще хотел… Да! Тут опять приходил этот вчерашний чудик.
– Какой?
– Ну, помнишь: как пройти на улицу Кузнецкий мост? Мне нужен Выставочный зал Союза художников…
– И что сей художник хотел?
– Поговорить, я так понимаю. Бессонница у него, что ли?.. Какой же это, говорит, мост, если в час пик тут машин больше, нежели воды?
– Надо же, умный какой. А ты объяснил ему, что, например… ну, птица, даже если крылышки сложила и ходит по траве, все равно птица, а не мышь! Или вот социализм – что ты с ним ни делай…
– Пал Семеныч, прости, я перезвоню. Девочка тут просто засыпает.
– Да я ничего, – виновато пробормотала Ира, разлепляя глаза. – Веки только опустила.
– Вот я и вижу.
– Давай, – сказал радиофон. – Пусть гуляет и ничего плохого не думает. Связь кончаю.
– А я никогда ничего плохого не думаю, – заявила Ира. – С какой стати?
На миг встав на цыпочки, она чмокнула Артема в морщинистую щеку – тот даже крякнул от неожиданности, – а потом дунула через мост.
Она любила мосты за свободу и ветер. Город будто смахнули вдаль, на края, осталось лишь главное: небо и река. По реке тянуло просторной прохладой, чувствовалось: скоро рассветет. Разрывы облаков наливались алым соком, и по неподвижно лежащей глубоко внизу чистой воде медленно текли розовые зеркала. Было так весело нестись в утренней пустоте, что Ира вдруг загорланила с пиратской хрипотцой какую-то ерунду, звонко отбивая каблуками только что придуманный рвущийся ритм и время от времени перепрыгивая через лужи, которые оставил прошедший вечером теплый дождь.
Январь 1984,Ленинград
Это четвертый и последний рассказ, написанный по сну.
Сон был очень хороший, светлый. Сидит Сталин с соратниками, о чем-то совещается, а секретарше вдруг приспичило закурить – и она ему впрямую об этом заявляет, и он, прервав заседание, по-отечески ее отпускает поискать, где стрельнуть. Все. Я проснулся после этого сна часа в четыре утра, и к тому времени, когда надо было вставать, рассказ в голове был уже готов. Записывал я его два дня, и он почти не потребовал потом никакой доработки – ну, так, чисто по фразам; и эпиграф добавил; и еще я, помнится, когда текст уже стало можно показывать и даже предлагать, вставил в него, скажем, фамилию Пальме; в 84-м его еще не убили – а очень уж это новое убийство хорошо ложилось в ряд уже упомянутых.
Предсказал антитеррористическую коалицию, елки-палки! Чуть не за двадцать лет до того! И КОМУ приписал инициативу ее создания! Буш просто отдыхает и курит в сторонке…
Очень хорошо помню, как писал начало. Когда надо было в первый раз нашлепать семь букв, складывающиеся в слово «Сталин», пальцы будто заколодило. Не хотят печатать, и все. Судорога, паралич. А в голове чей-то оглушительный, бешеный голос кричит: «Тебе что, дурак, мало? Несколько раз пронесло – теперь уж не пронесет, ежели ты вот так, впрямую… Не дразни гусей, придурок! Не смей! Пиши про то, что в хроноскафе запахло горелым!»
Я глубоко вздохнул и, не давая себе думать больше ни мгновения, промолотил: «Впрочем, Сталин никогда ничего не недооценивал»…
Вот это была уже альтернативка в как бы классическом виде: эпоха та же, в какую мы живем, с точностью до года – но все совершенно иначе. Я прекрасно отдавал себе отчет, что подобного «иначе» не могло случиться ни при каком раскладе вероятностных вилок – но что-то написало мною этот рассказ. Меня потом много раз спрашивали: о чем он? Я и сам не сразу сообразил, как отвечать, а потом, года уж три спустя, меня осенило: Кузнецкий мост! Ведь он не зря написался, как мост! И Ира бежит по нему в зарю…
Я написал мир, в котором слова значат именно то, что за ними стоит. Если уж мост – так мост, если забота о народе – так забота о народе, если коммунизм – так уж коммунизм… Без обмана.
А почему «Давние потери»?
Да очень просто: на этих немногочисленных страничках буквально поименно или хотя бы пособытийно перечислено все главное, что мы потеряли в тридцатых годах. Потому-то мы и в ответе за всеобщего отца до сих пор; не потому, что позволили ему царить – как было не позволить? – пытались, да поморили и постреляли всех, против лома нет приема… я бесконечно далек от тех демагогов, которые вот уж сколько лет лицемерно призывают нас ко всеобщему покаянию (сами, правда, примера нам не подавая и даже в общем покаянии отнюдь не намереваясь участвовать) – а потому, что мы все до сих пор маемся и обречены маяться дальше без всего того, чего в ту пору лишились…
ЗимаВозможно, кто-то, как и он, еще отсиживался в подвалах, убежищах, бункерах. Возможно, кто-то еще не замерз в Антарктиде. Вполне возможно, в стынущих темных глубинах еще дохаживали свое подлодки, снуло шевеля плавниками винтов и рулей. Все не имело значения. Этот человек ощущал себя последним и поэтому был последним.
После того как над коттеджем прогремели самолеты – бог знает чьи, бог знает куда и откуда, – подвал затрясся, едва не лопаясь от переполнившего его адского звука, – сверху уже не доносилось никакого движения, только буря завывала. Человек едва не оглох тогда и не скоро услышал, что малышка проснулась – перепуганно кричит из темноты, заходится, давится плачем. Конечно, это были самолеты – один, другой, третий, совсем низко. Зажег фонарик. Пошатываясь – для себя он не успел захватить никакой еды, а прошло уже суток четверо, – побежал к дочери. Бу-бу-бу! Кто это тут не спит? Страшный сон приснился? Фу, какой противный сон, давай его прогоним, вот так ручкой, вот так. Прогна-а-али страшный сон! Спи, не бойся, папа тут. Все хорошо. Примерно через сутки ударил мороз.
Ледяные извилистые струйки медленно, словно крупные хлопья снега, падали сверху, с потолка, затерянного в темноте. Теплые вещи летом хранились здесь – повезло, – и человек все нагромоздил на малышку, только свое пальто надел на себя. Где-то он читал об этом или слышал – вся дрянь, гарь, миллионы тонн гари и пыли, которые взрывы выколотили из земли, плавали теперь в стратосфере, пожирая солнечный свет. Малышка стала плакать чаще, чаще звала маму, чаще просила есть, – человек экономил молоко и все кутал ее, все боялся, что она простудится. Гу-гу-гу! Кто это тут не спит? Ночь на дворе, видишь, как темно – хоть глаз коли. Мама утром придет. «Мама» она уже две недели как выговаривала, а «папа» никак не хотела, это его очень огорчало, хотя он и не подавал виду, посмеивался.
Потом все как-то сразу подошло к концу. Когда малышка вновь захныкала, человек едва мог встать, едва нащупал коченеющими руками свой фонарик – пустил в потолок обессилевший красноватый луч. Высветился стол, кроватка под ворохом одежды, тонущие в тени шкафы и стены. Человек слил остатки воды в кастрюлечку, из коробка достал последнюю спичку, из шкафчика – последний пакет молока, уже до половины пустой, из аптечки – снотворное. Растолок все таблетки. Снял с полки очередную книгу, разодрал, – чиркнув спичкой, зажег бумагу под кастрюлькой. Стало светлее, подвал задышал, заколыхался в такт колыханиям рыжего огня. Резало привыкшие к темноте глаза. Но человек смотрел, читал напоследок – раньше, в толчее дел, некогда было перечитывать любимые книги, теперь дела уже не мешали. «Нет! Не в твоей власти превратить почку в цветок! Сорви почку и разверни ее – ты не в силах заставить ее распуститься. Твое прикосновение загрязнит ее, ты разорвешь лепестки на части и рассеешь их в пыли. Но не будет красок, не будет аромата. Ах! Не в твоей власти превратить почку в цветок. Тот, кто может раскрыть почку, делает это так просто…» Пламя медленно, словно лениво, ползло по странице, переваривало ее, и страница ежилась, теряя смысл. Оставались хрупкие, невесомые лохмотья. Сюда нальешь воды, на две трети бутылочки примерно. Уразумел? И в воде разогревай. Мы всегда превыше всего ценили мир, говорил человек в экране энергично и уверенно. Если нам понадобится еще пятьдесят ракет, мы развернем все пятьдесят, и никто нам не помешает. Мы руководствуемся только своими интересами и своей безопасностью. Вашей безопасностью! Мы не устаем бороться за мир с оружием в руках везде, где этого требуют жизненные интересы нашей страны. Перестань косить в телевизор. Одно и то же бубнят каждый день. Мир, мир, – а переезд третий день починить не могут… Попробуй обязательно, не перегрел ли. Да не рукой пробуй, а щекой! Она чмокнула его в щеку. Ой, у тебя и щеки-то ничего не поймут, я тебя до мозолей зацеловала. Или не только я? Не уезжай, попросил человек. Я к вечеру вернусь. Отец очень звал, супу вкусного хочет. Ну я же к вечеру вернусь. А ты оставайся тут за родителя. Научишь ее «папа» говорить, пока я не отсвечиваю. Ой, как я буду назад спешить, мечтательно проговорила она и пошла к станции, а он остался за родителя.
Когда согрелось молоко в стеклянной бутылочке с мерными щербинками на боку, он высыпал туда порошок и тщательно разболтал.
– Соображаешь, чем пахнет? – спросил он хрипло и попробовал бутылочку щекой. – Сейчас папа тебя накормит.
Услышав слово «накормит», она завозилась, пытаясь выпростать руки из-под укрывавшей ее рыхлой горы.
– Папа, – отчетливо сказала она, когда человек перегнулся к ней над сеткой кровати. Поспешно зачмокала, скривилась – горьковато, – но ни на миг не выпустила соску, только смешно морщилась, вразнобой перебирая мышцами маленького лица.
– Вот умница, – приговаривал человек, свободной рукой поддерживая пушистый теплый орешек ее головы. – Вот молодец… Как славно кушает…
Она все-таки высвободила руку, он стал запихивать ее обратно, он и теперь боялся, что она простудится. Не сбавляя темпа, она шумно дохлебала последние капли, отодвинула его руку и, удовлетворенно смеясь, вцепилась крохотными пальцами в щетину на его подбородке. Он ткнулся в гладкую кнопку ее носа, потерся лбом, щеками – она хохотала, повизгивала.
– Гу-гу-гу. У кого это носик такой маленький? У кого это ручка такая тепленькая? Гли-гли-гли! Ну, будет, будет, не балуйся, а то молочко обратно выскочит.
Он так и стоял, пока пальцы ее не разжались и рука не упала. Она уснула, как тонет камень. Он опустился на стул рядом с кроваткой, сжался, точно ожидал удара. Ее дыхание, отчетливо слышное в морозной тишине, стало затрудненным, легонечко булькнуло на выдохе и разорвалось. Скорчившись, он ждал – но она не дышала. Он не мог поверить, что все случится так просто. Но она не дышала. Фонарик угасал час за часом, вот уже лишь нить красновато тлела – она по-прежнему не дышала. Он встал – оглушительно скрипнул стул, – попятился, сбил на пол кастрюлечку со своей последней водой. От грохота, казалось, лопнули уши. Надсаживаясь, едва не падая от усилий, откинул, уже не боясь ничего снаружи, массивную крышку люка, и внешний воздух холодным комом рухнул вниз.
Шумные порывы морозного, сладковатого ветра привольно перекатывались в темноте. Под ногами – ковер и осколки. Сколько же здесь рентген? Вслепую сделал несколько шагов; ударившись о косяк, выбрался из гостиной в коридор. Ведя рукой по стене, добрался до наружной двери и изо всех сил оттолкнул ее от себя.
Он едва устоял. Ледяной поток, наполненный хлесткой снежной крупой и пеплом, словно водяной вал, ударил в грудь, ободрал лицо. Человек вскинул руки, заслоняя глаза, и только теперь бутылочка выпала из окостеневших пальцев – со стеклянным стуком, едва слышным в реве ветра, она скатилась по невидимым ступеням. Где-то неподалеку протяжно скрипели платаны. Слепота была нестерпима, до крика хотелось хоть на секунду разорвать ее – или выцарапать себе глаза.
Истертый, избитый ветром, он дополз до гаража. Скуля от бессилия, долго не мог попасть внутрь. Замерз замок, у двери намело. Протиснулся. Залез в машину. Захлопнул дверцу, отсекая влетавшие в кабину вихри, и от блаженства на несколько минут потерял сознание.
Когда он уже отчаялся завести мотор, мучительное урчание стартера в какой-то раз все же сменилось мягким рокотом, нелепо уютным в этом аду. Машина преданно дрожала, как всегда. Машина была жива. Человек включил фары и, захлопнув лицо ладонями, закричал от свирепой боли, от беспощадного удара света. Перед намертво зажмуренными глазами пульсировало ослепительное изображение – изломанные деревья с примерзшими к ветвям тряпочками листьев и черные, сникшие цветы в снегу и пепле.
Струи поземки летели навстречу, косо пересекая шоссе. Машина вспарывала их, колеса то и дело скользили по ледяной крупе, зависали, отрываясь от покрытия, и тогда ревущая буря грозила смахнуть машину с дороги. Некоторое время человек бездумно соблюдал рядность; потом, когда фары высветили днище опрокинутой громады контейнера, ушел влево и со странным чувством мертвенного освобождения пустил разграничительный пунктир под кардан. Один раз где-то далеко – за городом, за мысом, в открытом море – полыхнула долгая голубая зарница. Что-то горело? Взорвалось? Или война еще шла? Он обогнал окаменевшую колонну армейских грузовиков и бронетранспортеров – многие перевернулись, свалились с шоссе, когда на них обрушилось… что? Вокруг выступов на корпусах крутились снежные вихри. Он притормозил – машину слегка занесло и долго волокло боком. Прикрывая лицо, вышел наружу. Ветер ошеломлял, душил, незастегнутое пальто рвало плечи, взлетая к затылку. Влез в один из кузовов. Смерзшейся грудой лежали ледяные манекены в полевой форме. Некоторые успели достать противогазы, некоторые даже успели их надеть. Выдрал из груды один автомат, потом другой. Волоча в каждой руке по автомату, доковылял до машины. Снегопад усиливался, – бешеная, сверкающая пляска в лучах фар и тьма вокруг.
Город не очень пострадал. Видимо, бомба взорвалась где-то южнее, в районе химкомбината, – поговаривали, что там выполняют заказы военного ведомства. Наверное, оттуда и тянуло странным сладковатым угаром. Часто приходилось разворачиваться у завалов, у перевернутых автобусов и машин. Один раз автомобиль будто въехал на каток; всю улицу и бог знает сколько еще улиц залила лопнувшая канализация. Его опять сильно занесло, он едва не врезался в растоптанный девятиэтажный дом, прокопченный долгим пожаром. Здесь он тоже предпочел вернуться и поискать объезд.
По знакомой лестнице поднялся на третий этаж. Поставил автомобильный фонарь на пол, долго возился с ключами – не слушались пальцы. Потом не открывался замок. Наконец вошел. Словно бы вышел обратно на улицу. Здесь, за столь надежно запертой дверью, здесь, где всегда еще с порога охватывало чувство тепла, уюта и покоя, выла и вихрилась та же пурга, опаляла щеки, стены обросли серыми от пепла сугробами, и край пола – неровный, иззубренный – обрывался в пустоту. Там несся снежный вихрь, глубинно мерцая от света фар внизу. И она, присыпанная пеплом и снегом, лежала лицом вниз на полу кухни, и кастрюля из-под супа лежала в полуметре от ее головы, и кусочки мяса, моркови, сельдерея вмерзли в твердую, заиндевелую кипу волос.
Тесть был, как всегда, в кабинете. Здесь часть стены внесло внутрь, и она, раскрошив книжный шкаф и письменный стол, распалась на несколько плоских обломков. Трещины были плотно забиты черным снегом. Из одной неловко торчали пальцы, сжимавшие шариковую ручку. Человек едва не разорвал себе руки в тщетных попытках сдвинуть обломки, потом вернулся на кухню, осторожно оторвал от пола жену – на одежде и на обожженной щеке ее торчали тоненькие, неровные крылышки мутного льда. Он обломал их и, зацепив двумя пальцами фонарь, вышел на лестницу. Прислонив жену к стене, аккуратно запер дверь.
У машины, мерно мурлыкавшей на холостом ходу, он оглянулся на дом. Была какая-то запредельная насмешка в гротескно решетчатой обнаженности сотен одинаковых клеток. Вон там жил кибернетик, в которого жена одно время была влюблена, вон там, где смятое пианино свесилось в пургу. Вспоминая, как ревновал, он открыл дверцу и хотел, как всегда, усадить жену рядом с собой, но она не помещалась, она замерзла, вытянувшись. Он уложил ее на заднее сиденье.
Возле магистрата новая мысль пришла человеку в голову. Крепкое, старинное здание, фасадом обращенное к северу, удивительно уцелело. Уцелели почти все стекла. Уцелели рвущиеся, хлопающие по ветру флаги по обе стороны парадного подъезда. Тормозя, человек проехал мимо ушедшей в снег важной машины; внутри темнел, запрокинувшись, ледяной манекен шофера – он так и не дождался пассажира. Обдирающая, как наждак, пурга ворвалась в кабину. Визгливый грохот распорол шипение и завывание, летящие клубы снега озарились пульсирующим оранжевым светом. Приклад колотился о плечо. Беззвучными призрачными водопадами стекла фасада срывались в пляшущую мглу, один из флагов вдруг отделился от стены и, напряженный, как парус, косо полетел вниз. Короткий красный огонь выплескивался из дула. Глаза слепли от леденеющих на щеках слез, руки свело судорогой – но от ужасающей пошлости, претенциозности происходящего его тошнило.
Потом тошнота не прошла – усилилась, начались спазмы, а желудок давно был пуст, и лишь немного желчи выбросилось в рот. Задыхаясь, человек хотел выплюнуть желчь на лежащие в снегу пустые автоматы, но тут из носа хлынула кровь – кровь в нем еще была. Сколько же здесь рентген? У него звенело в голове, все качалось.
С женой на руках он спустился в подвал, уложил ее на диван. Накрыл своим пальто, подоткнул в ногах, чтобы ей было теплее. Прилипший к пальто снег не таял.
Автомобильный фонарь наполнял подвал бесчеловечным белым светом.
Что-то пробормотав, человек поспешил обратно, наверх. Через несколько минут вернулся, неся полупустую бутылку коньяку. Закрыл люк – крышка лязгнула, рухнув в пазы, и завывание ветра сразу стало далеким и не важным.
Налил в рюмку. С губ в спокойном морозном воздухе слетал пар. Пригубил, зашелся кашлем, расплескивая ледяной коньяк. Едва переведя дух, отчаянно выпил, налил снова, рюмка колотилась в его руке, тускло отблескивающие капли слетали с кромки стекла. Снова выпил, спеша, но зубы у него все равно стучали. Оторвал рюмку от губ, и она, лишившись опоры губ, заплясала в пальцах и выпрыгнула из них, сверкнула в сторону, в тень. Сел на край дивана, сбросил пальто на пол – разлетелись рыхлые полоски снега, – ковыляющими пальцами раздергал красивую тесьму у ворота, стал сдирать блузку, надетую, как он любил, на голое тело. Тонкая отвердевшая ткань отделялась вместе с кожей, ошпаренной разливом супа. Едва не падая от поспешности, бросился к аптечке, щедро смазал бурые проплешины мазью от ожогов. Потом выплеснул на ладонь немного коньяку и принялся растирать не захваченную ожогом кожу. Хрипло дыша, пристанывая при каждом вздохе, человек работал исступленно, точно боялся опоздать. Через некоторое время, вдруг спохватившись, поднес горлышко к ее губам, попытался, невнятно и ласково воркуя, разжать ей челюсти и дать выпить глоток. Не сумел. Снова плеснул на ладонь. Вдруг замер, ошеломленный догадкой, – задергалось иссеченное пургой лицо.
– Она не умерла!! – закричал он и с удвоенной силой принялся растирать жесткое, как настывший камень, тело – кожа лохмотьями ползла с его ладони, по животу и груди жены потянулись первые, легкие полосы крови. – Глупенькая, а ты что подумала? Дуешься на меня – а сама не поняла! Я снотворного ей дал, снотворного! Она проснется утром и позовет тебя опять, и что я ей скажу? Она тебя ждет, зовет все время, только «мама» и говорит! – разогнулся на миг, поднял глаза на кроватку и увидел сидящего на стуле мужчину в грязной, не по погоде легкой хламиде до пят. Окаменел. Гость – смуглый, бородатый и благоуханный – безмолвно смотрел на него, и свет фонаря яркой искрой отражался в его больших печальных глазах.
Человек медленно поднялся.
– Ну вот… – хрипло произнес он.
Гость молчал. Это длилось долго.
– Думаешь, я сошел с ума?
Гость молчал, его коричневые глаза не мигали.
– Хочешь коньяку?
Гость молчал. Выл ветер наверху. Бутылка с глухим стуком вывалилась на пол и откатилась в сторону, разматывая за собой прерывистую тонкую струйку.
– Опять пришел полюбоваться, какие мы плохие?
Гость молчал.
– А сам-то! Мы оглянуться не успели, а у тебя уже кончилось молоко! И ничего лучше меня не придумал ты! Раскрыл, называется, почку… Бог есть любовь! – фиглярски выкрикнул он. – Прихлопнул!!
Гость молчал.
– А я отогрею их, вот увидишь, – тихо сказал человек.
По щекам гостя потекли крупные детские слезы. Несколько секунд человек смотрел недоуменно, потом понял.
– Э-э, – сказал он и, безнадежно шевельнув рукой, снова опустился на диван. Гость упал перед ним на колени. Схватил его руку, прильнул горячим, мокрым от слез лицом. Плечи его вздрагивали.
– Не бери в голову, – с трудом выговорил человек и вдруг улыбнулся. – Все пустяки. – Положил другую руку на голову гостя и принялся гладить его мягкие ароматные волосы. На вьющихся черных прядях оставалась сукровица, тянулась отблескивающими жидкими паутинками. – Гли-гли-гли. Страшный сон приснился? Поверь, все пустяки… Не получилось раз, не получилось два – когда-нибудь получится. Ты только не отчаивайся.
– Я тоже думал, отогрею, – жалобно пролепетал гость прямо в притиснутую к его лицу ладонь. Худые плечи под хламидой затряслись сильнее.
Бок о бок хозяин и гость вышли из дома, и груда пурги обвалилась на них. Параллельно земле мчался неистовый, всеобъемлющий поток, волшебно подсвеченный изнутри фарами машины, затерянной в его глубинах.
– Спички-то хоть найдутся? – спросил человек. Горячая рука вложила в его пальцы коробок. Человек криво усмехнулся: – Этого добра у тебя всегда для нас хватало…
Идя на свет, он добрался до машины, вынул из багажника запасную канистру. Зубами отвернул пластмассовую крышку, вернулся к двери, затерявшейся было в пурге. Гость уже исчез – будто привиделся. Задыхаясь, поднялся по ступеням, поставил канистру на пол коридора и пнул ногой. Канистра опрокинулась в темноту. Присев, человек подождал, пока бензин растечется. Потом, пробормотав глухо: «Отогрею, вот увидишь…», зажал несколько спичек в кулаке и неловко чиркнул.








