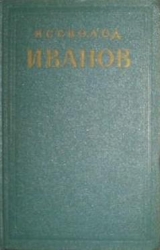
Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.
Великое ли диво – пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга – больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.
Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.
Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.
– Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Ильбо от Разина – сказывают, великий он колдун был, – ильбо от чего другого прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов – уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный двуэтажный и под железной крышей.
Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два – Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветает, что солома, а Митьша – черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем как Егорше в лагеря идти, «сам» – то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал – лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше – Игреньку.
И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» – «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.
Сколько раз казацкую жизнь спасали кони – я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два георгия.
Осенью пустили их, ильбо самоволей приехали – не знаю уж. Подойти к ним тогда было – чисто сердце открывалось. Ходят по двору, один – вправо, а другой – влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».
И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Утиши, господи, их сердца», – молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире – боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит:
«Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный?
Тут еще одна беда – Егорова молодуха собою красавица была: лицо – чисто молоко, сама – высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли, – только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня: «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.
Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление, – по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».
Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянул.
Только не вышло у них, что ли, – не знаю. Вернулся Митьша – прямо на полати в валенках залез. А тут, немного погодя, и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»
Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полену и брата-то – господи, родного брата! – по голове, и бежать! Ладно, у того киргизский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом, через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».
У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем!»
И за дверь – тихонечко.
Я как только очнулась немного – за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой – у моей жены?»
Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивцу и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший – где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.
Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казаки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу – след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А генеральские казачки-то – шашки наголо, да – на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить.
Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали вишь конь коня, Серко – Игреньку.
Закинул Егор голову, да и спросил громко: «Брат, Митьша, ты?..» – «Я, – отвечает тот, – я!»
Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.
Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.
А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь – тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать мне и обществу об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»
И убил коня.
… Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.
Встреча1923
Мы на холме, и вот в долине перед нами развалины стен Каракорума. Его черная тень некогда лежала над всей Средней Азией, а теперь камни его домов не имеют четкой тени своей, способствовавшей некогда сравнению, что тени его домов подобны чепраку седла. Они овиты жалкими монгольскими травами. Сыто смотрит на травы моя лошадь.
Некогда. Желтоскулый и с узкими, словно это была рана в сердце, глазами монгол скакал от ворот с перстнем Чингиза направо – через Иртыш и Обь к океану, налево – через Волгу к польским лесам, и еще за узорными коврами – в Персию. Теперь – тени тишины.
Желтовато-синий росистый вечер ползет к моим стременам, и кажется – громадная собака лижет подъем моего сапога.
– Барамыс. Поехали? – спрашивает Докай. – Дальше?
– Барамыс, – соглашаюсь я. – Дальше.
Но кони наши продолжают стоять неподвижно.
Их уши насторожены, и мне кажется, что сердце моего коня своим биением колышет мое стремя. Я склоняюсь к луке седла и вглядываюсь в кустарник. Может, там торопится к своему логову волк или заглянул с Балхаша Джулбарс – тигр. Мягкая тишина над кустарниками, будто все вокруг окутано шерстью, и низкое небо, как скатавшаяся шерсть джабага – овцы. Конь неслышно поднимает копыто, опять вздрагивает, и вдруг резкий свист трепещет над тропой.
Огонь смолевой щепы широко вспыхивает на одном из камней. На мгновение огромный камень приобретает очертания дома.
– Кто? – кричим мы. – Кто там? Кто идет?..
Слышу – седло мое четко, как затвор винтовки. Мысли бегства в последние недели научили меня вспоминать сначала о седле, затем о винтовке.
Свист повторяется, он наполнен какой-то седой хрипотой. Я вдруг вспоминаю его: так глухой ночью разбежавшееся стадо призывает пастух. Он уже знает, что стадо не вернется. Это свист отчаяния, а не призыва. Одни лишь огорченные собаки трутся у ног. Пуста теплая, умятая тушами земля, ветер неслышно уносит клочки шерсти – остатки его стада.
Я молчу. Конь храпит.
Дрожит на камне горящая щепа. Ее оранжевый пламень густеет. Наконец, она тухнет. Я кричу опять:
– Кто-о?..
– Обожди, апа… – шепчет мне Докай. – Тохта… Обожди.
Мы ждем.
Кустарники вдруг начинают шипеть.
Нет, это шаги. Они тяжелы, и мне вспоминается железная нога строителя Каракорума. Они медленны. Дыхание идущего таково, будто он дышит железными легкими.
Конь мой пятится, когда широкая, почти ползущая по земле серая фигура показывается из кустарников.
– Ты кто? – хрипло спрашивает он меня. – Ты кызыл-урус?
– Да, – отвечаю я, поднимая ружье, – да, кызыл-урус (что на языке пустыни значит красный русский).
– Тогда я буду говорить и целовать твое стремя, – хрипит вышедший из кустарников.
– Говори.
Опять вспыхивает щепа, и вместе с запахом смолы я явственно слышу запах трупа. И я тороплю, и конь, мотающий уздой, тоже торопит.
– Говори, подошедший ночью.
– Я говорю тебе, сидящий на кауром коне, и слова мои верны, как то, что некогда здесь вместо каракорумской полыни кузнецы умели ковать сабли лучше кузнецов белого царя, которого вы, кара-урус, зарезали. Значит, так нужно, и мне не жалко его. Я кузнец, и в джатаках подле поселков у меня есть горн, и род мой, быть может, идет от кузнецов Каракорума. Я имею стадо в пять рогатых голов; две лошади и указанное, по преданию, для бедняка число баранов. Восемь лет платил я за жену калым и платил бы, если б было нужно, еще восемьдесят ради одной встречи восхода на кошме моей юрты за чиевой перегородкой. Ее походка легче иноходцев всей Гоби, а пальцы ее, доящие кобылиц, колыхали вымя легче, чем ветер колышет ковыль, и такое колыхание было у меня на сердце, когда она подавала мне чашку, наполненную до краев айраном. Я – хороший хозяин, но, беря чашку, я плескал на кошму айран, молоко. Я не хотел быть баем, богачом; жена не хотела быть ханшей, и все-таки вчера вечером к лощине Аи-Той пришли бии и урусы-казаки с парчовыми плечами. Они вырезали мое стадо, и, думаю, кызыл-урус, им, должно быть, не хватило крови, и они на голой земле, растоптав мою жену, вырезали ее груди. Они не нашли ее сердца, потому что оно, страдая за мои стада и меня, высохло в тот вечер и было, наверно, не крупнее пылинки! Я не мог принести вам своих зарезанных овец и коров, они поедены. Я принес показать вам свою жену… Я нес ее на своих руках двадцать верст от лощины Аи-Той, чтобы ты обменял ее труп на верную винтовку…
Киргиз сдернул грязное одеяло, покрывавшее труп. Скатилась черная капля смолы и сипло зашипела на мутномалиновых кусках мяса. Рот у женщины был распорот и щека проткнута саблей.
– Ее звали Кызымиль, – сказал киргиз, сметая ногтем упавший на рану жены уголь. – Она плюнула старшине в бороду, когда тот, опившись кумыса, полез ей за ворот.
Он вдруг упал на колени и схватил мое стремя. Губы его вытолкнули из стремян мой сапог.
– Давай, урус, винтовку. Я двадцать верст нес на себе Кызымиль, она тяжелая, я ее хорошо любил и хорошо кормил. Давай! Едем?
– Едем.
Тропа несет меня к кострам моих друзей. Костры будто покрыты росой. Тропа мокра от росы, как повода узды моего коня.
1925
О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ
При БородинеДвадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения, неподалеку от флешей – укреплений, получивших позднее название «Багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир третьего резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.
Всего братьев Тучковых было трое, и все они вышли в генералы. На войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И надо бы им всем троим встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою под Витебском, полонен французами. Когда братья соскочили с коней, они обнялись и прослезились: каждый из них вспомнил о брате и поклялся в душе отомстить за него. Вслух же они стали выспрашивать – какое кому дело поручено в предстоящем сражении.
Тучков-четвертый – красивый, стройный, волоокий мужчина в мундире темнозеленого цвета, нервно проводя рукой по лбу, который он увеличивал, подбривая верхние волосы, сказал:
– Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал – полк защищает флеши. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?
Братья в семейном кругу называли друг друга именами, оставшимися с детства. «Вихриком» прозвали в детстве старшего брата – за его жгучую неукротимую стремительность. «Выг» – осталось за вторым; он в детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она – выгнутая назад», и это показалось забавным, стали это повторять, фраза сократилась, и теперь уже плохо помнили, что значит это слово.
– Поздравляю, Выгушка. Флеши – дюжее назначение! Будете вы на них стоять, как иллюминированная картинка, – вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-первый. – А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести третий мой корпус к Старой Смолянке, с тем чтобы обрушить его на неприятельский фланг и тыл, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.
– Прекрасно, Вихрик.
– Прекрасно? – Дыхание, короткое, гневное, подняло широкие плечи генерала. – Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, – говори! Но какой же я секурс, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Понимаю – московское ополчение, несут крест… Нет, сударь, это вам не иллюминация, это…
– Ты, Вихрик, всегда горячишься.
– А что же, мне бледным и почтительным быть, когда они с пиками и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подпругу! – свирепым голосом, с потемневшими глазами закричал он кавалеристу, державшему его коня.
Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на некрасивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата.
Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый, выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий имением попал под французские ядра и расплакался с испугу.
– У этого на всю жизнь след от войны останется, ха-ха!
Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и по лицу его можно было понять, что он уже придумал, как приспособить московских ратников и их пики к бою. И видно было, что выдумка эта ему очень нравится и что она будет очень неожиданна и очень страшна для француза.
– Выгушка, а ты письмо домой с управляющим пошлешь? – спросил он. – Быстро доставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу, – лопатой испуга не снять!
Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, а письма получались слово в слово – приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже снисходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич невнимательно слушает его.
– Разве у тебя мало рекрутов? – спросил он. – Прислали? Сто? Двести? Каковы! Перед самым боем изволили прислать укомплектование! И они осмеливаются считать своим законным правом заботу о России! У, подлецы! Я бы не только на их имущество, я бы на них самих наложил полное запрещение…
Александр Алексеевич слушал плохо, но, чтобы не обидеть брата, заискивающе улыбался. Подобно другим офицерам армии, Александр Алексеевич боялся прихода в часть рекрутов: как бы хорошо ни были они обучены, они могут разжидить если не воинский строй, то воинский дух – деятельную и беспредельную ненависть к наполеоновским мародерам, к этой жадной и беспощадной ораве грабителей. Обычно боязнь эта оказывалась неосновательной, – рекруты быстро пропитывались духом армии, воспитанной в борьбе с Наполеоном, и через неделю-другую рекрута не отличишь от старого служилого. А все же стоит появиться толпе рекрутов, как офицер смущенно заерзает, покраснеет и начнет кричать беспричинно на приближенных, как кричал сейчас на человека, державшего повод, Тучков-первый… Но не о рекрутах думал Александр Алексеевич.
Правда, думы начались с рекрутов. Сегодня на рассвете в его полк, так же как и в другие части, пришло укомплектование, разумеется не такое значительное, как укомплектование корпуса Тучкова-первого. Пришло сотни полторы здоровых, высоких и, видимо, решительных крестьянских парней. Александр Алексеевич осмотрел их и остался ими доволен. Лицо одного, рыжего парня с толстыми щеками и широкой грудью, показалось ему знакомым. Александр Алексеевич спросил имя и фамилию рекрута. Гулким голосом, хотя и чуть пришепетывая, рекрут прокричал:
– Степан Карьин, ваше превосходительство!
– Во втором взводе у вас, Иван Петрович, – обратился генерал к поручику Максимову, – никак есть Карьин? Да этот и лицом схож?
– Марк Карьин тебе кто будет? – спросил поручик у рекрута.
С неподвижным лицом, тем же гулким голосом рекрут сказал:
– Отец, ваше превосходительство!
– Позвать сюда унтер-офицера Марка Карьина, – приказал генерал.
Вытирая на ходу руки о штаны, синеватый от испуга, прибежал и вытянулся перед генералом унтер-офицер Марк Карьин. Лицо его действительно походило на рыжее и мясистое лицо Степана, но война сильно выщелочила его: оно и суше и решительнее. Превосходное лицо солдата! При виде этого лица генерал вспомнил Суворова, которого ему удалось видеть однажды в детстве, вспомнил его голос, режущий воздух, как хлыст с кусочком свинца на конце, и с несвойственной ему резкостью в голосе сказал:
– Унтер-офицер Карьин! Рекрута Степана Карьина возьмешь в свой взвод!
Поручик Максимов скомандовал рекруту «вперед – марш!» – и рекрут Степан Карьин пошел за своим отцом.
Генерал тоже повернулся и пошел в свою палатку. На барабане перед ним лежали листы бумаги; в бисерном футляре – чернильница, в граненом голубом стаканчике – перья… А письмо не писалось! Вернее сказать, писалось, но писалось не то.
Привязалась почему-то длинная и нелепая фраза: «Она так прекрасна, что даже непролазно сонные будочники смотрели ей вслед по улице, удивленно качая головой, пока она не скроется из глаз», причем фраза эта звучала в голове то по-французски, то по-русски. Он знал, что никакие раскрасавицы не проймут будочников. Да и что ему будочники? А фраза между тем стучала и стучала в мозг, как молоточек. «Будочники, будочники… – думал он, с улыбкой вынимая и кладя перо в граненый голубой стаканчик. – Будочники…» Он боялся думать о любви – и думал о любви.
Ему тридцать шесть лет, а Маргарите Михайловне тридцать один. В эти годы у других людей от любви остается, как при сожжении чего-либо растительного, дым, сажа, вода… А тут получился недожог, остался уголь, – и уголь тот еще в огне! Он и так и по-другому поворачивал в сердце этот тлеющий сладостно и горько уголь; ему страстно хотелось рассказать жене об этом томлении, которое при виде ее прекрасного лица вспыхивает огнем. И ему страшно было сознаться, что он не мог выразить этого. Оттого сейчас любовь его к Маргарите казалась ему обманом, который он тщательно скрывал от себя самого. Он давал думам волю, надеясь, что найдет те слова, которые надо положить на бумагу, а вместо того вдруг перед глазами вставало поле, холмы, поросшие березой и ольховником, недоделанные укрепления, поле, где решается вопрос жизни России, где разрядятся чувства, наполнявшие людей наших, чувства, обостренные отступлением… Бородинское поле!
Боясь показаться нескромным, а если украсит себя в предстоящей битве, то и чванливым, Александр Алексеевич, однако, писал слова о родине и россах, – и слова эти словно бы определяли границы его мышления, его чувств. Прикованный мыслью к Бородинскому полю, он замирал и не находил слов, которые вместе с этим говорили бы о любви его к Маргарите.
Тут ему вспомнились лица Карьиных, отца и сына, оба рыжие, мясистые, грубые, земляные.
Вот этим легко! Они в передней чувств не толкутся. Ушел – и с глаз вон. Встретились – и не велика важность. Смотрите, как, почти не взглянув друг на друга, они пошли во взвод унтер-офицера Карьина, не выразив ни печали, ни радости. Да, таким легко – у них на все чувства один замок: два поворота ключом – закрыл, два поворота – открыл… Да, им легко!..
… А им вовсе не было легко. Степан Карьин пришел из семьи в четыре работника: такой семье в такую войну – все понимали – ставки не миновать, и быть в той ставке Степану. Степан понимал это и сам сказал: «Лоб!» И уходить все же куда как трудно! В полях – уборка, на руках – молодая желанная жена, на которую смотрел, задерживая дыхание, да и женился к тому же недавно – весной.
И немного прошло времени, как расстались, немного промаршировал под барабанный бой и команду «сомкнись!», а какая тоска, какая мука и в какое долгое терпение надо погрузиться, чтобы не думать о ней, о жене!
Они с отцом сидели на краю небольшого, с высокой отавой лужка. Позади, в березнячке, расположился Ревельский полк, за березнячком, меньше чем в полуверсте, находились флеши. Приближался вечер. Отец, хмурясь, нетерпеливо, с преувеличенным вниманием расспрашивал о деревне. Сын нескончаемо подробно, кротким голосом, отвечал ему. Отец пугал его. При отце Степан сам себе казался мешковатым, скучным и неповоротливым, хотя на самом деле он знал всю подноготную тяжелого кремневого ружья, которое выдали ему, все «экзерцисы», и даже отмечен был при стрельбе плутонгами.
И отцу Степан казался неуклюжим, пустым: этот и мушки на дуле не разглядит, а ведь грудь подходящая, как раз такая, какая требуется для военной работы! Марк Карьин вздыхал, и ему казалось, что генерал, отправляя сына в его, Марка, взвод, тем самым намекал, что и он, генерал, видит в сыне его неладное, требующее исправления. Марк присматривался, с какой бы стороны приступить к исправлению, исправлению немедленному, так как назавтра великий бой и опытные солдаты уже моют рубахи, обряжают себя.
– Ну, хватит! – сказал решительно Марк. – Жить им в деревне долговечно, а нам к неприятелю быть долгорукими. Ты, Степан, слушай отца! Порох нам ноне выдадут хороший, мушкетный, пули льют в нашем полку тоже хорошо, на снаряженье не пожалуешься. А бою быть лютому, чую. А ты как, чуешь?
– И-и, что ж, – сказал вяло Степан. – Побьемся, раз лезет.
– Ружье в нашем полку крепкое, отдает так, что человек может развалиться али язык сам себе откусит. Так ты, перед тем как огонь дать, вперед наклоняйся, слышишь? Откусываешь патрон – думай, чтоб порох губами не замочить. Теперь дальше. Сыпешь ты часть заряда на полку – следи, чтобы пороху лишнего на землю не просыпалось. Отдачи не бойся, порох береги. Понял? – Он остро посмотрел на сына. Сын смотрел вокруг себя, как бы ища ружье: он хотел этим выразить свое внимание отцу. Отец же подумал другое, нехорошее, и голос его погрустнел, а речь стала торопливая: – Быстро высыпай порох в канал, прибивай пыжом! Ночь, вижу, будет сырая – ишь понизу-то туман крадется. Я тебе дам промасленную тряпку, ты ружье укутай, оно тебе завтра жизнь спасет. Слышишь, дурья голова?
– Слышу, – сказал Степан, глядя в небо.
Высоко в переливающемся, как закаленная сталь, небе летели журавли. «К ней, в ее сторону», – подумал Степан, и ему почему-то вспомнились большие висячие уши дворняжки, которая всегда выбегала к ней навстречу. Жена поднимала крутые плечи и смеялась. Расшитые подплечики ее рубашки дрожали… Степан не удержался и сказал в небо, как в детстве, когда желали журавлям, чтобы они вернулись:
– Колесом дорога!
– Ты чего? – строгим голосом спросил отец.
Степан забормотал:
– Бабка Ворониха говорит: раз журавли к третьему спасу летят – быть ранним морозам, а нет – так зима позже…
Отец молчал. От журавлей мысль Степана опять вернулась к дворняжке с висячими ушами, от дворняжки – к подойнику, который так легко умела носить жена, от подойника – к ее пальцам, которых вдоволь не нацелуешь!.. Он покраснел и сказал:
– Да, я тебе никак не успел сказать: Бурешка-то наша полегла!..
– Говорил ты уж… – хмуро пробормотал отец.
Степан пытался удержать себя, но других слов не находилось. Ему виделась эта Бурешка, тонкомордая корова с белым пятном на лбу, чудились пиликающие звуки молока, падающего в подойник… и маячили руки. Он говорил и говорил про корову: какая она удойная, какие у нее крепкие и сильные телята, – за сотню верст кругом знают про Буренушку! И надо же такой золотой, царской корове пасть перед самым его уходом! Плохо теперь будет хозяйству, совсем плохо! Когда он уходил из дому, дурной запах почудился ему, затхлость какая-то… Не к добру!
Марк смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился, что корова сдохла! Убыток, верно, большой. Да ведь нынче вся Расея требует подпоры! На что выдумал жаловаться!» Но Марк знал, что сын у него безугомонный и что тут одним криком дела не поправишь. А злой крик уже подступал к горлу… Марк удержал себя, даже закрыл рот рукою. Он встал и, не говоря ни слова сыну, с крайне тяжелым чувством огорчения направился к генералу. После долгих переговоров – денщик был одного села с Марком – денщик согласился пойти в палатку. Генерал сидел в палатке на турецком ковре. Перед ним стоял барабан; на барабане – графинчик с водкой и два огурца. Графинчик был не почат, огурцы не надкусаны. Александр Алексеевич только что вернулся со свидания с братом. На душе его было грустно. Он отправил письмо, так и не выразив всех чувств, которые, он знал, надо было выразить! К чему тогда образование, множество прочитанных книг, к чему виденные заморские страны, встречи с умными людьми?.. Он с радостью услышал о приходе унтер-офицера Карьина. Этот грубый, колючий и искристый, как снег, солдат, глядишь, избавит его от мучительного томления. Хотя солдат был брит и опрятен, генералу он показался косматым и свирепым, как рысь. Александр Алексеевич сказал ласковым голосом:
– Говори, служивый, не бойся. Кто обидел?
– В нашем полку, ваше превосходительство, кто службу обидит, – высоким и неприятно заискивающим голосом начал Марк Карьин. – Вот сын приехал, ваше превосходительство. Спасибо, что заметили, обозначили. – И без того вытянутый, он вытянулся еще больше и проговорил отчетливо, с расстановкой: – А сын-то, ваше превосходительство, печалится. За дён пять, как ему рекрутом идтить, пади у нас Бурешка, корова. И хорошая была корова! А пала. Теперь в хозяйстве урон, беда. Он и тоскует…
– Еще бы не беда, – холодным голосом сказал Александр Алексеевич. – Корова в хозяйстве у мужика много значит.
– V, господи, – забыв о ранжире, взмахнул Марк руками. – Еще бы да не много, ваше превосходительство. Вот я и говорю: «Степушка, ты не беспокойсь, ты смири сердце, у тебя все вернется». Так оно и есть!
– Что – так оно и есть? – еще более холодным голосом спросил Александр Алексеевич.
– Да я говорю: его превосходительство подумает. Он пишет домой-то почесть каждый день, вот и напишет матушке барыне Маргарите Михайловне: «Так, мол, и так, у того унтер-офицера Карьина и у того рядового Степана, сына его, подохла коровенка, так ты выдай телушку хоть. Из тех породных, что халадскими зовутся…» Ведь наше-то село рядом, ваше прево…
Александр Алексеевич отвернулся. Через подвернутый край палатки видны были купы деревьев – тьма словно обрезала их ветви – и за деревьями аметистовое мигание костров, которое бывает всегда после заката, в сырой вечер. Сырость преуменьшала зарево, видневшееся в стороне Семеновского оврага, там, где расположен корпус Тучкова-первого. Зарево разгоралось, и чудилось даже потрескивание, выделялись отдельные предметы – то конь, то журавель колодца, то колокольня какой-то белой церкви… Так рассказчик, развивая свою мысль, добавляет то или иное описание, подробность… Вот хотя бы рассказ об этой корове.
Вздрагивая от сырости, генерал сказал:
– Ладно, ладно, служба! Я завтра же напишу Маргарите Михайловне: получите корову. Иди, служивый, иди отдохни! Завтра – бой!
Солдат сделал быстро «кругом» и скрылся за полосой света от костра, который денщик уже развел возле палатки. Зарево у Семеновского оврага, возле Старой Смолянки, исчезло, будто его отдернули, как занавес. Со стороны французского лагеря доносились мотивы знакомых песен. На душе было печально. Тоже грифоны! Пришли в чужую страну и поют. Или они думают, что завтра им предстоит праздник, а не русский бой?..
Генерал попробовал прилечь. Но сон не шел в голову. Он покинул палатку. Отовсюду несло кашей. Кашевары с большими ложками у больших котлов, приподнявшись на цыпочки и щурясь от дыма, брали пробу. Генерал невольно подумал, что вот сейчас унтер-офицер Марк Карьин и его сын Степан сидят у костра, ждут ужина и, наверное, говорят о корове. Внезапно, с каким-то томлением, генерал подумал: «Нет, не может того быть!.. Чтобы суворовские солдаты!..» И, накинув плащ, он пошел направо, в лесок, где была расположена рота поручика Максимова.








