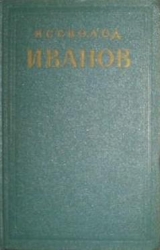
Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
И еще, и еще равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным усталым шагом…
На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровянились потрескавшиеся губы, и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер…
На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному, оглядывающий манифестацию.
А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходящих людей (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гадок, скользок и неуловим, как рыба в воде.
А партизаны шли и шли…
1921
Партизаны
I
Костлявый, худой, похожий на сушеную рыбу, подрядчик Емолин ходил по Онгедайскому базару и каждого встречного спрашивал:
– Кубдю не видали?
– Нету.
Наконец, голубоглазый чалдон, навеселе повидимому, затейливо улыбнулся и указал Емолину:
– Подле церкви Кубдя… гармошку покупат… А тебе на что?
– Надо, – отрывисто ответил Емолин.
Чалдон подряд четыре раза икнул и отошел.
«Деньги есь… Гармошку кикиморе… Заломатся», – подумал Емолин и пожалел потраченные сутки на езду в Онгедай.
Емолина то и дело толкали.
К прилавкам совсем нельзя было подойти. Емолин хотел пробраться между торговыми рядами, образующими улицу, но тут гнали целые табуны лошадей и жалобно блеявших баранов. Пыль грязножелтыми пятнами стлались над тесовыми лавками.
– Жарынь! – сказал Емолин, вытирая вспотевшую жилистую шею.
Горло сушила духота, уши оглушал базарный шум, на Прилавках резали зрение яркие пятна бязей, шелковых тканей, китайских сарпинок.
– В эку духоту – и неймется!.. Сшалел народ!..
Подле церкви толкотни было меньше. Здесь торговали горшками, и у возов слышался только тонкий звон посуды да возгласы торгующихся. Кубдя, в синей дабовой рубахе и в таких же коротких, но широких штанах, в рваных опорках на босу ногу, стоял у церковной ограды, рассматривая желтого глиняного петушка.
Высокий чалдон в сером азяме скучными глазами смотрел на покупателя.
– В день много работашь? – спрашивал Кубдя.
– Как придется.
– Полсотни, поди, так работашь?
Чалдон посмотрел на опорки покупателя и нехотя ответил:
– Бывает и полсотни.
– Видал ты его! – с уважением сказал Кубдя, кладя петушка обратно. – Ты бы, брат, бросил петухов-то делать…
– А что, ворон прикажешь?
– Не ворон, а хоть бы туеса березовые, примером: все выгодней.
– Сами знаем, что делать.
– Эх ты, лепетун!
Кубдя увидел Емолина и, указывая на чалдона, сказал:
– Возьми вот его, лепетуна, – петухов делат.
– Всякому свое, – строго сказал Емолин. – А мне тебя, Кубдя, по делу надо.
Кубдя взял опять петушка, повертел его в руках и купил, не то чтоб для надобности, а показать Емолину, что он, Кубдя, в деньгах не нуждается.
– Ну, говори.
– Пойдем, по дороге скажу, – сказал Емолин.
Кубдя сунул петушка в карман и отправился за Емолиным.
– Ты каку работу исполняешь?
– Работы по нашему рукомеслу много.
– А все-таки?
Кубдя улыбнулся под обвислые усы:
– Народ нонче бойко умират. Будто пал по траве идет.
– Ну и что ж?
– Гробы приходится…
Емолин смочил языком обсохшие губы и пренебрежительно сказал:
– Ерунда! Гробовая работа – самая поганая… Горбулин-то с тобой?
– В селе.
– Беспалых?
– Есть и Беспалых. Соломиных тоже тут.
– Еще ребята, поди, есть?
– Как не найдутся! А тебе на что, лешай?
Емолин выкроил улыбку на желтом, изможденном лице:
– Что, не терпится?
Кубдя крикнул:
– Люблю артельную работу, Егорыч!
– А говоришь, у те тут есь.
– Жидомор ты, никак тебе правды не скажешь… Все надо юлить. А то живьем слопаешь.
Кубдя взглянул на его скривившийся влево рот и подумал: «Сволочь». Емолин остановился и, поблескивая желтоватыми белками глаз, сказал:
– Потому что у вас, окромя как в себя, в никого веры нету, понял?
Кубдя крякнул.
– Крякнула утка, когда ее съели!.. А хочу я, Кубдя, вот что сказать вам. Подрядился я в Улейском монастыре амбары строить. Лес там имеется, инструменты, поди, при вас?
– Как же… Помесячно али поденно?
– Поденно. Двадцать цалковых на моих харчах.
– Дураков нету.
– Каких дураков?
Кубдя отошел от него на шаг и свистнул:
– Хитер ты, Егорыч! Прямо бяда. Кто к тебе пойдет, когда на сенокосе дадут две сороковки в день?
– Окурок ты! Сенокос – месяц, а тут и лето и осень.
– Да что мне, когда на колчаковские сейчас по сороковке в городе водку продают?
– Ладно, – сказал Емолин примиряюще, – пойдем ко мне чай пить.
– Самогонка есть?
– Не самогонка, браток, а «николаевка».
– Вот панихида! – восторженно вскрикнул, хлопнув себя по ляжкам, Кубдя.
Они прошли базар, и Емолин свернул в переулок. Подрядчик выдернул деревянную щеколду, и большие тесовые ворота, визжа на петлях, распахнулись. На цепи, подпрыгивая, хрипло залаял на них пес. Из сутунчатого пригона протяжно спросил женский голос:
– Кто тама-ка?
– Я, Матвеевна, я, – отвечал Емолин, входя на высокое крыльцо из огромных кедровых досок. – Самовар бы нам…
– Сичас.
Молодая женщина в светлом ситцевом платье и с подойником в руках вышла из пригона. Емолин, входя в сени, спросил ее:
– Чо поздно доишь-то?
– Так уж приходится, – отвечала она, громыхая самоварной трубой. – Вы где пить будете: в горнице али, может, в затине?
Емолин звякнул посудой в ящике.
– Все равно. Можно в горнице. Там, кажись, мух мене.
– Прямо напасть с этими мухами! Уж мы их травили-травили, ни лешака на них нет… Намедни мужик поворот какой-то на них привозил, вот шибко подействовал.
– Не поворот, а водород. Сусликов травят, – поправил Емолин.
Женщина рассмеялась.
– Кто их знат. Нонче все наоборот. Вон царя-то в Омске не русского посадили и икватёром зовут.
Емолин рассмеялся жиденьким смехом:
– Необразовщина, прямо – тайга!.. Видмеди вы. Колчак-то старого роду, бают, и не царь, – а диктатёр…
– Одна посуда-то, – сказал Кубдя.
– Посуда-то одна, да вино разно. То тебе коньяк, а то самогонка.
– А то тебе ртуть.
– Ртуть не пьют, а киргизы от дурной болезни лечатся…
Емолин сидел на деревянной крашеной скамье со спинкой, Кубдя – на крашеном деревянном стуле. В горнице было прохладно, – сквозь маленькие окна свету пробивалось мало, да и мешали широкие, легко пахнущие герани в глиняных глазурованных горшках. Двери и печка были разрисованы большими синими по желтому полю цветами, а на полу лежали плетенные из лоскутков половики.
Пока хозяйка доставала из шкафа посуду, ставила на стол калачи из сеянки, пироги с калиной и молотой черемухой, Емолин самоуверенно рассуждал:
– Ты возьми, Кубдя, меня. Из кого, ты скажи мне, я поднялся?..
Кубдя ждал с нетерпением, когда Емолин раскупорит бутылку с водкой, и потому с усмешкой отвечал:
– Никуда ты не поднялся.
– Врешь! Был я, скажем, лапотной пермской мужик, и теперь имею дом с железной крышей, и хозяйство честь честью, и почет ото всех.
– Ну и слава богу!
– Известно, слава богу, – подтвердил и Емолин, выбивая пробку и наливая водку в стаканчики, – только ни черта не понимаете вы. Пей!
– Да уж пейте вы… – по обычаю отказался Кубдя.
– Пей.
– Не буду.
Емолин выпил, скривив лицо, грязными, гнилыми зубами откусил кусок пирога.
– Крепка, стерва… Пей.
Кубдя выпил, скривил тоже лицо и сразу всунул в рот целый пирог.
– Да-а… – замычал он, – ничего себе!.. Крепка!..
– Пей!.. – сказал Емолин.
Кубдя уже не отказывался.
Емолин ел плохо, копошась длинными пальцами в хлебе, отламывая и откладывая в сторону корки. Кубдя же ел торопливо, глотая полупрожеванные куски. Глядя на его быстро двигающиеся желваки челюстных мускулов, Емолин с достоинством пил кирпичный чай и с достоинством рассуждал:
– Мало вы в народе кишите… В образованном народе, говорю, а потому доверие к другим плохое возбуждаете. А без доверия и курица яйца не снесет, не то что в народе жить…
Кубдя хватил стаканчик, и под ним мрачно закряхтел стул. Емолин продолжал:
– Ко власти стыд потеряли, одинаково с видмедями… За себя не стоите: черт вас знает, что вам требуется!.. Отдыхай, брат, Емолин, – и никаких!
Кубдя рыгнул и отодвинулся от стола:
– Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль.
Емолин налил еще.
– Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то.
Кубдя взмахнул рукой и удивился про себя, что жест такой легкий.
– Раз я благодарю, ты принимай – и никаких. А что отдыхать тебе, Емолин, то не придется.
– Почему так? Раз мы заслужим, почему не придется?..
– А так.
– А кто мне мешать смеет?
– Найдутся.
Емолин стукнул ребром ладони по столу.
– Нет, ты говори! Я знать желаю.
Кубдя улыбнулся и подмигнул:
– Найдутся, Егорыч, другие отдохнут за тебя… Ей-богу!..
– Сыны, что ли?
– Усе мы сыны, да не одного батьки. Во-от… Ты вот дом строишь, думаешь: «Отдохну, поживу…» Крепко, браток, строишь – с железной крышей, с голландской печкой, скажем. А тут – на тебе, выкуси! Не придется. Получится заминка.
– Какая!
Кубдя широко раскрыл слипающиеся глаза и вдруг тихо и часто-часто рассмеялся:
– Хо-хо-хо-хе-е… Дёрон вы зеленой, дёрон… Хо-хо-хе-е…
Емолин тоже рассмеялся:
– Хо-хо-хо-хе-е… Темень ты стоязычная, темень… Хо-хо-хо-хе…
Из прихожей выглянула хозяйка, посмотрела, махнула рукой:
– Ой, девоньки, уморят!
И залилась клохчущим, мелким смехом.
II
С похмелья голова у Кубди никогда не болела, только скверно и остро першило в горле – словно обожжено чем. Утром, проснувшись, Кубдя, задевая ногами то о ведро, то о доски, разбросанные по полу, долго искал ковш и, не найдя, охватил толстыми руками кадку с водой, поднял ее и, проливая блестящие капли в белые душистые опилки, напился.
Послушал, как булькает в животе вода, и вспомнил, что вчера нанялся к Емолину.
«Своей работы будто не хватает», – неодобрительно подумал Кубдя, отламывая хрустящую краюшку хлеба. Бабка Енолиха остро взглянула и крикнула ему:
– Опять пьянствовать, Кубдя? Базар-то кончился!
Кубдя потер пальцами глаза и ответил:
– Знаю.
– Робить надо.
– И то робить хочу.
– Так чего же в ворота-то поперся? Куда уходишь?
Кубдя, просовывая в рот кусок, заглянул в погреб. Там было прохладно и темно, а в избе мешали мухи.
Енолиха взглянула на него пристальнее, взяла отпотевшую по стенам кринку молока.
– Ешь, Кубдя. Чо всухомятку-то? Молоко-то седнишнее.
– Не люблю молоко, – сказал Кубдя и подумал: «Ребятам надо сказать. Вот ругаться будут, лихоманки!»
Енолиха отставила молоко.
– И то ведь ты не любишь.
Она спрятала руки под фартук, и широкий нос ее, похожий на яйцо, отвернулся от Кубди.
– Где робить-то?
– К Емолину нанялся.
– Один?..
– Артелью думам.
Старуха, припирая тяжелую, растрескавшуюся дверь потреба, тише говорила:
– Смелости у вас, у нонешних, нету, – все в артель метите. Вот и царь-то потому отказался от вас.
– Прогнали его.
– Ишь ведь… – недоверчиво растянула старуха. – Сказывай!
– Плохой царь был.
– Цари-то – они все плохи. Хороша-то нам и не надо.
– Пошто?
Старуха ловко подхватила пестерь с углями. На ходу она, немного не договаривая слова, бормотала:
– Цари-то должны быть плохи. Строго надо себя держать, – ну, кто строг, тот и плох. А без хорошего человека всегда жить можно. Вот царь-то хороший попал, ну, видит, дело плохо: с таким окаянным народом рази проживешь? Взял… да и ушел… Плюнул…
– Темень вы.
Обвислые щеки старухи покраснели. Она закинула пестерь на крыльцо и крикнула Кубде:
– А ты иди, лодырь, иди!..
– Уйду. Вот Колчаком-то, поди, довольна?
– Что он мне?
– Строгий.
– Всё не русски каки-то. Чехи, говорят, поставили из австрияков. Пленный он, что ли?
– Кто его знат.
– Я морокую, из пленных в германскую войну. Вот в Расеи – так там царица.
Кубдя пошел было, но остановился:
– Как царица! Ты что, Христос с тобой, бабушка?
– Ну, а воюют-то пошто. Вот из-за царства и воюют. Тут-то Толчак самый, а там Кумыния… Не поделили что-то, а хрестьяне отдувайся… Нашему брату не легче…
Она вынесла из сенок решето с крупой и тонким голосом зачастила:
– Цыпи-цыпи-цыпи…
Маленькие желтенькие цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса.
По улицам медленно проходили запряженные волами длинные ходки переселенцев. Скрипели ярма. Нехотя поднимали теплую и мягкую пыль копыта волов. Изредка пробегал, дребезжа, коробок киржака-старожила. Киржак лениво, одним глазом оглядывал ходки переселенцев и крупно стегал кнутом маленькую лошадь. Вдоль улицы в жирной, черной тени лежали парнишки и собаки, а вокруг села из-за изб густо и сыро зеленел забор тайги.
Кубдя шел к товарищам неохотно. Вчера, по пьянке, он много наговорил Емолину и о себе и о ребятах. И сейчас он тревожно думал: «А как, черти, не согласятся! Вот состряпают мне».
Поутру всегда почти Горбулин и Беспалых сидели у Соломиных. А потом все трое шли к Кубде и здесь или работали, или, если не было работы, говорили о девках и о самогонке.
Соломиных имели свою избу. Старую, еще строенную из кедровика; огромный сутунковый забор; большие ворота, словно вытесанные из камня, и над воротами длинный шест с привязанным к нему клоком сена, – зимой Соломиных пускал ночевать проезжих.
Двор у него тоже был огромный, черный, чистый. Завозни поросли зеленью, но были еще крепкие, и из них можно было построить две избы.
Сам Ганьша Соломиных сидел верхом на колоде посреди ограды и топором рубил табак. Голова его, лохматая, густо поросшая клочковатым волосом, была непокрыта, и пот вздымался чуть заметным паром. И весь он походил на выкорчеванный пень – черный, пахнущий землей и какими-то влажными соками.
На земле навзничь лежал Беспалых – веснушчатый, желтоволосый, похожий на гриб рыжик. Упираясь спиной в колоду, сидел Горбулин – широкорожий, скуластый, с тонкими прорезями глаз.
Когда Кубдя вошел во двор, они все трое обернулись в его сторону и выжидающе посмотрели на него.
«Знают, должно», – подумал Кубдя и смутился.
– Дай-ка покурить, – сказал он, протягивая руку к табаку.
Соломиных достал зеленый кисет из кармана и глубоким своим голосом проговорил:
– Ты рубленый-то не трожь. Сырой. Из кисета валяй.
Беспалых мотнул ногами и быстро поднялся.
– Ты что, – пришепетывая, заговорил он, – в ладах, что ли, с Емолиным?
Кубдя, не понимая, развел руками.
– Счас я его встретил. «Когда, говорит, на работу пойдете?» – «Вот тебе раз, говорю, некуда нам идти». – «И в монастырь-то нанялись!» – «Еще чище!.. Какой?» – опрашиваю. «Да вот у Кубди, говорит, спросите».
Кубдя, быстро затягиваясь махоркой, стал рассказывать, что наняться он еще не нанялся, а так говорил.
– А там как хотите, – докончил он и пренебрежительно сплюнул. – По мне, хоть сейчас, так я скажу: не пойдем, мол. Только он двадцать целковых в день дает и харчи его…
Беспалых обошел вокруг колоды, и как только Кубдя замолчал, он мгновенно вскрикнул, словно укололся:
– Айда, паря!
Горбулин почесал спину о колоду, потом меж крыльцев руками – и все так, напрасно, без надобности. Хотел подняться, но раздумал: «Успею, нахожусь еще». Ганьша Соломиных продолжал равномерно ляскать топором табак. Колода тихо гудела.
Кубдя ждал и думал: «А коли, лешаки, спросят: зачем с Емолиным николаевку пил? Не по-артельно»
На пригоне промычала корова.
– Чо в табун не пустишь? – спросил Кубдя.
Соломиных прогудел:
– Седни… отелилась…
«Будто колода гудит Соломиных-то», – подумал Кубдя и присел на край колоды.
Беспалых схватил щепку и бросил в голубя. Голубь полетел, торопливо трепыхая крылышками.
Кубдя подождал: «Думают».
Потом спросил не спеша:
– Ну, как вы-то?
Горбулин, с усилием подымая с днища души склизкую мысль, сказал:
– Мне-то что… Я могу… У меня хозяйство батя ведет… Вот рази мобилизация. Угонят. Вот Ганьша у нас домовитый. Ему нельзя.
Беспалых хлопнул Кубдю по спине ладонью:
– Он молодец, ему можно доверять.
Соломиных воткнул легонько топор в колоду, собрал табак в картуз и встал.
– Пойдемте, паре, чай пить.
– Ну, а робить-то пойдешь? – вкрадчиво спросил Кубдя.
Соломиных немного с натугой, как вол в ярме, пошел к крыльцу.
– Я что ж, – сказал он твердо, – я от работы не в дупло, могу.
И громко проговорил:
– Баба! Самовар-то поставила?
Рыжеголовый щенок у поваленных саней сделал несколько шажков вперед и тявкнул. Кубдя с восхищением схватил Ганьшу за плечи и слегка потряс:
– Друг! Горластый!
Соломиных повел плечами:
– Ладно, не балуй.
Напившись чаю, они пошли говорить с Емолиным. Подрядчик запрягал лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее от напряжения лицо и одобрительно сказал:
– Явились, артельщики? Ну и добро!
Потом он выправил из хомута гриву, шлепнул лошадь по холке и подал руку плотникам:
– Здорово живете!
Говорили мало. Хотели прийти на работу через три дня. Емолин же настаивал: завтра.
– Дни-то какие – насквозь душу просвечивает! Что им пропадать? Тут десять верст – за милу душу отмеряете. А?
Он льстиво заглянул им в бороды, и видна была в его глазах какая-то иная дума.
– А то одинок я, паре, чисто петух старый… А еще с этими длинноволосыми…
Плотники согласились. Протянули Емолину прямые, плохо гнущиеся ладони и ушли. Емолин, садясь в коробок, проговорил:
– Метательные ребята. Не сидится дома-то.
После обеда напились квасу и отправились. Соломиных запряг лошадь в широкую ирбитскую телегу, навалил охапки три травы, на траву бросили инструменты в длинных, из верблюжьей шерсти тканных мешках. Лошадью правила жена Соломиных и всю дорогу ворчала на мужа:
– Шляется бог знат куда… Диви работы дома не было б…
Соломиных сидел на грядке, свесив ноги. Испачканные дегтем придорожные травы хлестали по сапогам.
Беспалых излагал надоевшую всем историю, как он жил в германском плену.
– Били-и… – вскрикивал он по-бабьи. – Вот, черти, били-и…
Кубдя съязвил:
– Ум-то и выбили…
– У меня, паря, не выбьешь! Душу вынь, а ума не достанешь.
– Далеко?
– Дальше твоей избы…
Кубдя расхохотался. Баба хлестнула вожжой лошадь:
– Ржут, треклятые! Все на дармовщину метят. Нет чтоб землю пахать!
– Мы мастеровые, – сказал Горбулин, – ты небось без кадушки-то сдохнешь.
Баба раздраженно проговорила:
– Много мне мужик-то кадушек наделал? Кому-нибудь, да не мне. Так, околачиваетесь вы… Землю не поделили…
Баба всегда провожала Соломиных так, как будто хоронила; затем, когда он приносил деньги, покупала себе обновы и смолкала. Поэтому он сквозь волос, густо наросший вокруг рта, бормотал изредка:
– Будет! Будто курица яйцо снесла, захватило тебя…
Горбулин поехал ради товарищей, и ему было скучно. Он пытался было пристроиться соснуть, но в колеях попадались толстые корки деревьев и телегу встряхивало. Позади, в селе, остались мягкие шаньги, блины, пироги с калиной, – он с неприязнью взглянул на Кубдю и закурил.
Кубдя насвистывал, напевал, смеялся над Беспалых, – нос, щеки у него, усы быстро и послушно двигались.
Считали до Улеи десять верст. Леший их мерил, должно быть, или дорога такая, будто по кочкам, – плотники приехали в Улею под вечер.
Над речкой видны были избы, темные, с зацветшими стеклами. Старой работы и стекла и избы.
Через речку шаткий, без перил, деревянный мост упирался в самый подъем горы, заросший матерым лесом. Направо по ущелью – луга. По ним платиновой ниткой вшита Улейка.
Монастырь в низкой каменной стене задыхается в соснах и березах, одна белая выскочила и повисла над обрывом в кустах тальника и черемухи.
– Стой, – сказал Кубдя.
Плотники соскочили на землю. Кубдя сказал:
– Поздно будет бабе-то ехать. Много ли тут – пешком дойдем. Пусть едет домой.
Соломиных согласился:
– Пущай.
И сказал бабе сердито:
– Поезжай, дойдем.
Жена заворотила лошадь и, отъезжая, спросила:
– В воскресенье-то придешь али к тебе приехать?..
– А приезжай лучше, – прогудел Соломиных.
Кубдя задорно крикнул:
– Гостинцев вези!
Лихоманку тебе в зоб, а не гостинцев!.. Но-о!..
– Ишь, бойкая!.. Кумом не буду…
– Видмедь тебе кум-то!..
III
Мешки и одежда лежали на траве грязной кучей.
Горбулин смотрел на них так, как будто собирался лечь и сейчас уснуть. Всех порядком потрясла корнистая дорога, и все с удовольствием притискивали подошвами густозеленую траву.
Кубдя посмотрел на монастырь и довольным голосом проговорил:
– Доехали, лихоманка его дери! Ишь, на самый подол горы-то забрался, чисто у баб оборка… На зеленое – красным…
Соломиных деловито спросил:
– А квартера там какова? Говорил подрядчик, Кубдя?
– Квартера, говорит, новая. Не живанная.
– Таки-то дела…
Соломиных взял подмышки копошившегося у мешков Беспалых и вывел его на дорогу.
– Пошли, что ли?
Беспалых отскочил в сторону:
– Обожди! Поись надо…
– Растрясло тебя. Не успел приехать – уж исть.
На Кубдю словно нашло озарение. Он весь как-то передернулся, даже дабовые штаны пошли волнами, и ковким молодым голосом воскликнул:
– Эй, ломота!.. Али к черту этому старому, Емолину, сегодня идти?.. А ну его! Ночуем здесь, а завтра пойдем. Хоть там и квартира новая и изба срубленная свежая, а нам – наплевать, понял?
Выслушали Кубдино излитие, и Соломиных проговорил:
– Проситься у кого, что ли, будем?
– Как мы есть теперь шпана, – сказал Кубдя с удовольствием, – то теперь нам в избу лезть стыдно.
– Под голым небом ночевать, что ли?
Кубдя по-солдатски вытянулся, и корявое его лицо с белесыми бровями потекло в несдерживаемой улыбке.
– Так точно! – весело выкрикнул он.
Беспалых сидел на траве и оттуда вставил:
– Замерзнем, паря!
Горбулин не любил ночевать в новорубленных избах и нехотя сказал:
– Не замерзнем.
Два часа назад, в селе, такое предложение показалось бы им не стоящим внимания, но сейчас все сразу согласились.
Кубдя повел их на площадь, к берегу речки. У Соломиных, когда он расстался с домом, бабой и лошадью, словно прибавилось живости, – он шел с легкою дрожью в коленках.
За ними, изредка полаивая, костыляли три деревенских собаки, и видно было по их хвостам и мордам, что лают они не серьезно, а просто от скуки.
Плотники легли на траву, домовито крякнули и закурили. Подходили к ним мужики из деревни.
Уже знали, что пришли они в Улею строить амбары, и все расспрашивали об Емолине, об его хозяйстве, и никто не спросил, как они живут и почему пошли работать.
Беспалых обозлился и, когда один из расспрашивавших, особенно липкий, отошел, крикнул ему вслед:
– А работников и за людей не считаете, корчу вам в пузо!..
Кубдя свистнул и пошел за сеном и ветками для постелей. Соломиных принес валежнику и охапки сухих желтых лап хвои.
– Хвою-то куда, коловорот?
– Заместо свечки.
Плотники зажгли костер и поставили чайник. В это время мимо костра пробежала, тонко кудахтая, крупная белая курица. Горбулин вдруг бросился ее ловить…
Гуще спускалась мгла. В речке плескалась рыба, по мосту кто-то ходил – скрипели доски. В деревне – молчание: спали. Кусты словно шевелились, перешептывались, собирались бежать. Пахло смолистым дымом, глиной от берега.
Горбулин, похожий в сумерках на куст перекати-поле, бесшумно догонял курицу. Слышно было его тяжелое дыхание, хлопанье крыльев, испуганное кудахтанье.
Вышел из ворот учитель. У костра он остановился и поздоровался. Фамилия у него была Кобелев-Малишевский. У него все было плоское – и лицо, и грудь, и ровные брюки навыпуск, и голос у него был ровный, как-то неуловимый для уха.
– Кто это там? – спросил он, указывая рукой на бегавшего Горбулина.
Кубдя бросил охапку хвои в костер. Пламя затрещало и осветило площадь.
– Егорка. Наш, – нехотя ответил Кубдя. – А тебе что?
– Курицу-то он мою ловит.
Кубдя ударил слегка колом по костру. Золотым столбом взвились искры в небо.
– Твою, говоришь? Плохая курица. Видишь, как долго на насест не садится.
Подошел Горбулин с курицей подмышкой. Оба они тяжело дышали.
– Дай-ка топор, – обратился он к Кубде.
Учитель положил руки в карманы и омрачившимся голосом сказал:
– Курица-то моя.
– Ага? – устало дыша, проговорил Горбулин. – А мы вот ей сейчас, по-колчаковски, башку долой.
Учитель хотел ругаться, но вспомнил, что в школе сидеть одному, без света и без дела, скучно. В кухне пахнет опарой, в горнице геранью; на кровати кряхтит мать, часто вставая пить квас. Ей только сорок лет, а она считает себя старухой.
Кобелев-Малишевский скосил глаза на Соломиных и промолчал.
Соломиных, поймав его взгляд, сказал:
– Садись, гостем будешь. Счас мы ее варить будем.
Беспалых, видя, что хозяин курицы не ругается, схватил ведро и с грохотом побежал по воду. Черпая воду и чувствуя, как вода, словно живая, охватывает его ведро и тащит, он в избытке радости закричал:
– Ребята! Теплынь-то какая, айда купаться.
– Тащи скорей! Не брякай, – зазвучало у костра.
Кобелев-Малишевский снял пальто и постелил его под себя.
– Работать идете? – спросил он.
– Работать, – отвечал Соломиных.
– Слышал я. Емолин сказывал, что нанял вас. Дешево, говорит, нанял. Мерзостный он человечишка, запарит вас.
Соломиных грубо сказал:
– Не запарит. А тебе-то что?
– Мне ничего. Жалко, как всех.
– Жалко, говоришь?
– Такая порода у меня. У меня ведь дедушка из конфедератов был, сосланный сюда. Ноздри рваны и кнутом порот.
– За воровство, что ли? – спросил Кубдя, вороша костер. – Раньше, сказывают, за воровство ноздри рвали.
– Восстание они устраивали, чтобы под русскую власть не идти. Поляки.
– Это как сейчас с чехами?
Учитель подождал чего-то, словно внутри у него не уварилось, и ответил:
– И фамилия моя – Малишевский, польская по деду. А Кобелев – это здесь в насмешку на руднике отцу прицепили, чтобы было позорнее. Был знаменитый генерал Кобелев, который Туркестан покорил и турок победил.
– Скобелев, а не Кобелев, – сказал Кубдя.
– Ты подожди. Когда он отличился, тогда ему букву «с» царь и прибавил. Чтобы не так позорно ему было в гостиные входить. Мобилизовали меня на германскую войну, тоже я мечтал отличиться и фамилию свою как-нибудь исправить. Не пришлось. Народу воюет тьма, так, как вода в реке, – разве капля что сделает? Ранили меня там в ногу, в лазарете пролежал, и уволили по чистой.
Соломиных повернулся спиной к огню и проговорил:
– И пришел ты Кобелевым.
– Видно, так и придется умереть.
– Царя вот дождешься – и сделает он тебя Скобелевым.
– Царя я не желаю, как и вы, может быть. Я ж вам сказал, что жалостью ко всем наполнен, и это у меня родовое. Вот ребятам в школу ходить не в чем – жалко, бумаги нет, писать не на чем – жалко, живут люди плохо – тоже жалко…
Малишевский долго говорил о жалости, и ему стало действительно жалко и себя и этих волосатых, огрубелых людей с топорами. Он начал говорить, как его воспитывали, и как его никто не жалел, и сколько из-за этого у него много хороших дней пропало, и, может быть, он был бы сейчас иной человек. И Кобелеву-Малишевскому хотелось плакать.
Беспалых взял ложку и попробовал суп:
– Рано еще. Пущай колобродит.
Он развязал мешок и достал ложки. Самую чистую он подал Малишевскому. Беспалых нарезал калачей и, положив их на полотенце, снял с огня котелок. Кубдя подбросил хвои.
Плотники, дуя на ложки, стали есть. Учитель отхлебнул немного из котелка и отодвинулся.
– Что ты? – сказал Соломиных. – Ешь.
– Сыт. Я недавно поужинал.
Кобелев-Малишевский смотрел, как сжимаются их поросшие клочковатым волосом челюсти, пожирая хлеб и мясо, и ровным голосом говорил:
– Монастырь построили, чтоб молиться, а вы в него не ходите. Бога только в матерках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой веры во власть. И кто знает, чего вы хотите. Повеситься с такой жизни мало. Как волки, никто друг друга не понимает. У нас тут рассказывают… Пашут двое – чалдон да переселенец. Вдруг – молния, гроза. Переселенец молитву шепчет, а чалдон глазами хлопает. Потом спрашивает: «Ты чо это, паря, бормотал?» – «От молнии молитву». – «Научи, может сгодится». Начал учить: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое…» – «Нет, – машет рукой чалдон, – длинна, не хочу». Все покороче хотят, а жизнь-то и так с птичью любовь.
Учителю обидно было, что плотники ели его курицу и не благодарили; обидно, что на него не обращали внимания, обидно, что из города не слали три месяца жалованья.
Он сидел перед огнем и говорил совсем не то, что хотел сказать. Похоже было, что за него кто-то сзади говорит, а он только шевелит губами.
Плотникам же мерещилось, что они голые идут в ледяной воде – и нет ей ни конца ни края.
Трещала, сгорая, хвоя. Повизгивая, лаяли собаки за огнем, – им туда, в темноту, бросил Горбулин кости и куски.
Соломиных закрылся с головой и что-то неразборчиво мычал. Не то он спал, не то говорил. Беспалых и Кубдя лежали на боку, курили. Лица у них были красные.
Малишевскому никто ничего не отвечал. Уголек упал к нему на колено, он пальцем сбросил его и стал говорить о любви.
Горбулин ушел, и скоро по ту сторону костра из тьмы вышла его приземистая фигура и за ним три лохматых пса. Он усадил их в ряд, поднял руку кверху и пронзительно заорал:
– Ну-у!..
Собаки подняли передние лапы и сели на задние. Морды у них были измученные, и видны были их белые клыки. Малишевскому стало страшно.
Горбулин подсел к собакам рядом и, закатывая глаза, завыл по-волчьи:
– У-у-у-о-о-о!..
Сначала одна, потом вторая собака и, наконец, все три затянули:
– У-у-у-о-о-о!..
И Кобелеву-Малишевскому казалось, что сидят это не три собаки и человек, а все четыре плотника, и воют, не зная о чем:
– У-у-у-о-о-о!..
Внутри, на душе, что-то непонятное и страшное. Малишевский вспомнил – сибиряки не любят ни разговаривать, ни петь, и ему стало еще тоскливее.
– Ты гипнотизер, – сказал он, подходя к Горбулину.
Горбулин потянулся к нему ухом:
– Не слышу.
Кобелев-Малишевский повторил:
– Гипнотизер ты.
Горбулин завыл еще протяжнее:
– У-у-у-о-о-о!..
Собаки с красными, стекленевшими глазами вторили:
– У-у-у-о-о-о!..
Кубдя с размаху вылил ведро воды на костер. Огонь зашипел, пошел белый пар – словно в середину желтого костра опустился туман.
Малишевский пошел прочь от костра.
IV
Амбары рубили позади пригонов, где начинался лес и камень. По бокам – сосны, а сзади – серые, сырые на вид камни.
Дальше шли горы, – если влезть на сосну, увидишь белые зубы белков. Прямо упирались в глаза пригоны, за ними монастырские колокольни с куполами, похожими на приглаженные ребячьи головки; чистые строения.
Спали плотники в избе, срубленной недавно, рядом с притонами. По вечерам неослабным говором, мерно и жутко отдававшимся в горах, били в колокол.
Плотники в это время играли в карты, в «двадцать одно».
Емолин у работы был совсем другой, чем в селе. И строже и как-то у места.
Ходил быстро, длинный, как сосна, в рыжем зипуне и, спешно перебирая тонкими, словно бумага, губами, вкрадчиво и строго поторапливал:








