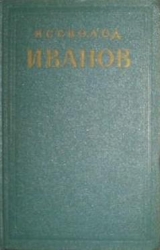
Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
– Вы живее, вопленики!..
Отвечать ему не желали, только Беспалых это нудило:
– Иди ты подале, кила трехъярусная!..
Емолин опалял постройку взглядом и смолкал, а через минуту, словно в недуге, опять говорил:
– Пошевеливайся мясом!..
Рубили углы амбара в лапу: бревна без выпуска концов, как тесовые ящики. Так хоть дерево бережется, но в избе холоднее.
Кубдя настоял, чтоб хоть наставляли стык бревна в зуб: конец на конец, стесав оба накось и запустив один в другой уступом.
– Эх, рубители! – вскрикивал Кубдя.
Гнулись в единых взмахах мокрые спины. Под один гуд тесались бревна.
Звенели дрожью, отсвечивая на солнце, большие, похожие на играющих рыб топоры. Бледножелтые, смолисто пахнущие щепы летали в воздухе, как птицы.
Емолин ходил вокруг, неизъяснимо улыбался и говорил сказками:
– Столяры да плотники от бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели.
Натирая «нитку» мелом, Беспалых отвечал:
– Кабы не клин да не мох, так бы и плотник издох!.. Уйди, человечий наструг, зашибу!..
Семисаженные мачтовики и трехсаженные кряжи лежали, тесно прижавшись желтой корой друг к другу.
На коре выступала прозрачная смола, и бревна пахли мхом.
Емолин не любил, когда курят:
– Надо скорей катать.
Плотники усаживались на бревна, закуривали и начинали разговаривать. Емолин ходил мимо, одним глазом смотрел на них, а потом, как гусь, заворачивал набок голову и смотрел в небо.
– Солнце высоко, ребята.
Сюда, в Улалейскую обитель, забросило их, как перо ветром: везде, говорили, народ бунтуется и хотят свою, крестьянскую власть. Это говорили и приезжие мужики, и бабы, привозившие провизию, и Емолин твердил:
– Сруб кончите, запишемся в дружину «креста» – и айда большевиков крыть!..
Соломиных гудел что-то под нос, гудело под ним бревно, а Кубдя неожиданно спросил:
– У тебя баба брюхата?..
– На кой тебе ее, брюхату, надо?
– К тому, что скоро брюхатых мобилизовать будут. Народу не хватат.
Емолин качнул головой:
– Дурак ты, Кубдя, хоть и большой человек. Брякнешь зря.
– Ей-богу!.. Они такой-то народ боятся брать, бунтуют. А брюхаты как раз, как забунтует, так и скинет.
– Порют вас мало.
– На чей скус…
Плотники оставили топоры и хохотали.
– Уходи лучше, драч, уходи!..
Емолин хвалился:
– Донесу милиции: против правительства идете.
Плотники хохотали:
– Донеси только – нос отрубим.
Однажды пришел из лесу настоятель. Емолин перед тем матерно выругал Беспалых и, увидев настоятеля, согнулся, сделал руки блюдечком и подошел под благословенье.
На плече у настоятеля лежали удилища и в правой руке – котелок с рыбой. Он поставил котелок на землю и благословил Емолина.
– Как работаете?
– Ничего, слава богу, отец игумен.
Беспалых ударил топором в бревно и пропел вполголоса:
– Отец игумен вокруг гумен…
Монах, должно быть, услыхал. Он пошевелил удилищами на плече. Был он сегодня недоволен плохим уловом и сказал строго Емолину:
– А плотники-то твои, сынок, развращеннейший народ.
Емолин в душе выругался, но снаружи вертляво обошел вокруг монаха и заискивающе сказал:
– По воспитанию, знаете, отец игумен.
У игумена была черная ровная борода, казавшаяся подвешенным к скулам и подбородку куском сукна.
Кубдя посмотрел ему в бороду и подумал: «Вот нетяг: ни на работу, ни на шутку!»
И неожиданно игумен бросил удочки на землю, как-то сразу пожелтел и, взмахнув широкими рукавами рясы, закричал на Емолина:
– Молчать!.. Не разговаривать, сукин сын!.. А-а?..
Емолин испуганно попятился, плотники взглянули на его сразу осевшую фигуру и захохотали. Монах обернулся к ним, подскочил к срубу, плюнул и крикнул:
– Прокляну, подлецы!..
И, не подобрав удочек и ведерка, ушел, издали похожий на колокол.
Емолин смущенно сморщился и нерешительно протянул:
– Вот нрав.
Немного погодя добавил:
– Стерва, а?..
Плотники оставили топоры и хохотали.
За удочками пришел тонкий и длинный, похожий на камышинку монашек в облезлой бархатной скуфье и ряске из «чертовой кожи».
– Что ты, монах будешь? – крикнул ему Горбулин.
Монашек застенчиво ответил:
– Рясофорный я… не пострижен…
– У те чо, молоко-то бугаи эти высосали, – ишь ведь, как холстина!
– Они высосут! – подхватил Беспалых.
Монашек покраснел.
Плотники осмеяли его, и он, заплетаясь длинными ногами в больших сапогах, потащил удочки и котелок.
Емолин долго ругал игумена, а потом набросился на плотников. Кубдя послал его к «бабушке», и подрядчик смолк. С городскими рабочими он поступил бы круче, но эти могли бросить работу и уйти.
Говорили, что в Алтае ездят карательные отряды и усмиряют крестьян.
Теперь впереди «карателей» шло темное и страшное, что обрушивалось часто на «большевицкие» деревни и хоронило в огне и крови роптавших.
Но и каратели не появлялись по одному. Из леса стреляли поодиночке и, подстрелив, прибивали гвоздями к плечам погоны, а потом бросали посреди дороги – на страх и поучение.
На Зосиму – Савватия-пчельника Кубдя сказал Беспалых:
– Завтра – крышка!
– Чего? – не понял тот.
– Не работаем.
Беспалых подумал и недоумевающе вздернул плечи:
– Не пойму, парень.
– Зосим – Савватий…
– Ну?
– В Улее престол.
Беспалых даже подпрыгнул:
– Вот черт! А я и забыл. Идем, что ли?
Кубдя посмотрел вверх. Редкие, прозрачные облака, как кисея, застилали небо. Ниже они падали на тайгу.
– Люблю охоту… Айда пополюем.
– Ружья нету.
– Соломиных привез берданку.
– Не даст.
– Даст. Он в гости идет, с утра завтра, с Горбулиным вместе, – на престол, в Улею.
Беспалых поддернул штаны, быстро высморкался и пошел просить берданку.
Наутро день был чистый, чуть ветреный. Кубдя и Беспалых надели на лицо и шею сетки от комаров, зарядили ружья и спустились к речке.
В тальнике ветра не было; тонким, неперестающим звоном пел комар, пролетал через сетку и яростно кусался. Под ногами, хрустя, ломались гнилые сучья, пахло илом, осокой.
Река казалась иссиня-черной, а мелкий песок – желтым.
– От солнца, – сказал Кубдя.
В речных тихих затонах, в опоясках камыша, было много дичи. Они стреляли. Кубдя всегда в лет, а потом Беспалых снимал штаны и лез в воду. Лопушники хватали его за ноги, он фыркал и кричал Кубде:
– Егорка! Утону!
Кубдя, грязный, весь в пуху, сиял на берегу своим корявым лицом, отвечая:
– Ничиво. Монастырь близко: сорокоуст закажем.
Если утка была не добита, Беспалых перекусывал ей горло и говорил:
– Обдери душеньку свою.
Уже отошли далеко от монастыря. Виднелись белки с синими жилками речушек.
– Пойдем назад, – сказал запыхавшийся Беспалых. – Куда нам их бить, обожраться, что ли…
Кубдя лез через камыш, чавкая сапогами в грязи, и неторопливо покрикивал:
– Еще, Ваньша, немного еще…
Беспалых плюнул и сел на корягу.
– Не пойду, – сказал он.
Кубдя пошел один. Скоро где-то в камышах грохнул выстрел. Беспалых хотел пойти, но удержался. «Ну его к черту, – подумал он, – с ним не выйдешь».
– Егорка-а!..
– Ну-у?..
– Сюда иди-и, ха-ле-ра-а!..
Беспалых не откликнулся. Он хотел закурить, но вспомнил про сетку и выругался. Тогда он стал думать, нужно ему жениться или еще рано. Уже двадцать четыре года, а парень не женат.
«Пора уже», – решил он.
На елани трава была подмышки, и Беспалого не было видно на коряжине, он решил отдохнуть и отправиться один. Беспалых прислонился головой к дереву, под голову положил утку, ружье в ноги и закрыл глаза.
Разбудил его Кубдя. Он стоял перед ним и, дергая его за рукав, улыбался:
– Буде, выспался, пойдем на престол.
V
Кубдя был доволен и охотой, и разыгравшимся теплым днем, и ломотой в пояснице с устатка. Шагая мимо сырых стволов осин, он посвистывал и, смеясь, оглядывался на вяло тащившегося сзади Беспалых.
Беспалых, как и всегда после сна на солнце днем, распарило, и во рту его неприятно сластило.
– Айда домой, – сказал он, перебрасывая уток с руки на руку.
– Нельзя, надо бога вести как следует: осмеет народ.
Они, как и все сибиряки, редко заглядывали в церковь, но не попьянствовать во время праздника считали грехом.
С утра густо дымились трубы: жирным черным пятном полз дым в небо. Сразу было видно, что пекут блины и шаньги. На скамейках у ворот сидели мужики и, покуривая, говорили о хозяйстве.
На них были новые, пахнущие краской ситцевые рубахи, – не измятые еще, рубахи топорщились колом, и похоже, что одели мужиков в бересту.
Парни ходили в ряд под гармошку по деревне.
Испорченная гармошка врала. Они же молча изгибались из стороны в сторону, лица у всех были серьезные, и не верилось, что идут пьяные люди, далеко пахнущие самогонкой.
За парнями, тоже в ряд, как утята за маткой, шли девки в ярких кашемировых платьях и проголосно пели:
Я иду-иду болотинкой,
Машу-машу рукой, —
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой.
Кубдя и Беспалых бросили уток к учителю в сени.
Хотели снять ружья, но Беспалых сказал:
– Возьмем для близиру: хоть штаны рваны, а берданку имеем.
Умылись, повесили ружья за плечи; Беспалых переобул для чего-то сапоги, потом вышли на улицу, поздоровались с парнями и пошли в ряд, под гармошку.
Гармонист шел в середине и, втянув губы в рот, так нес гармошку и с таким видом играл, словно научился и приобрел впервые ее. Солнце отсвечивало на жестянках клавишей, на кругленьких колокольчиках гармошки.
Под ногами гнулась молодая трава, из палисадников пахло черемухой, а на маленькой церковке торопливо, под «камаринского», трезвонили:
«Ту-лю-лю-ли-бо-ом!.. Бом!.. Бэм-м…»
Когда так молчаливо и с удовольствием прошли две улицы, гармонист предложил:
– Айдате к Антошке?
Пискливый голосок из ряда сказал:
– Айдате.
Парни свернули к Антошке Селезневу.
Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, встретил их у ворот. На нем был синий пиджак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. Окладистой русой бородой, гладко причесанными, в скобу, волосами он тряхнул так самодовольно, что все ласково улыбнулись.
Он считался в селе всех богаче, и его всегда выбирали в церковные старосты, – поэтому-то он сегодня и угощал всех.
Селезнев провел парней к крыльцу, зашел в сени, постучал чем-то деревянным и проговорил:
– Заходи.
Парни один за другим заходили, выпивали по кружке самогонки, брали в руки пирог с калиной, – и кто был этим удовлетворен, тот выходил за ворота.
Кубдя выпил подряд две кружки, вышел на крыльцо, сел, откусил кусок пирога. К нему подошел петух, рыжий, с одним глазом.
Кубдя бросил ему корку, петух посмотрел пренебрежительно и тихонько отодвинулся. Беспалых чуть улыбнулся.
– Не ест, – сказал он. – Нравный.
Селезнев вышел с глиняной кружкой в руке и спросил:
– Еще, паря, не хочете?
Беспалых повел плечом:
– Потом, Антон Семеныч. У те петух-то пошто хлеб не ест?
– Время знат. Он у меня утром да вечером ест только. Два раза напрется – и ничего.
– Терпит?
– Не жалуется.
– Чудна Русь! – воскликнул Беспалых. – А самогонка у те добра. Табаку мешаешь, что ли?
– Ничего не мешаю, – сказал Селезнев, хозяйственно оглядывая двор. – У тебя что, голова болит?
– Не болит, а кружится.
Кубдя сказал:
– С большой ходьбы.
– Полевали? – лениво спросил Селезнев.
– Полевали.
– Бы-ват, – протянул Селезнев и замолчал.
Молчали так, словно вели большой и важный разговор.
Селезнев выпил самогонки и выхлестнул остатки на землю.
– Пью, пью ее, – сказал он, – а не берет. Даже злюсь.
Беспалых посоветовал:
– А ты на голодно брюхо пей.
– На сохатого лихоманку напустить хочет. Ха-а!.. – рассмеялся Кубдя не столько над Беспалых, сколько над собой: голова его начала медленно и весело наполняться туманом.
Селезнев сел на крыльцо, свернул папироску.
– Робите? – полунасмешливо спросил он.
– Робим.
– Та-ак… Али дома места нету? Земля высохла?
Беспалых стукнул себя кулаком в грудь:
– Потому, мы странники!.. Разжевал, Антон Семеныч?
– Валяй в охоту тогда; что к чужому человеку в кабалу лезть? Не вникну я в вас. Чужую грязь гатить?.. Что проку-то?..
Кубдя с остановившимся, пьянящимся взглядом взял подмышки Селезнева.
– А ты, мил друг, не дури. Сам знаешь, с каких доходов на работу идешь. Потому-у: тоска-а!.. Был, я скажу тебе, в германскую войну, в Польше был, в Германии был, – и он, и он – все!..
Кубдя указал на Беспалых и еще на кого-то в ворота:
– Посмотрели: во-от, народ… Живут, скажу тебе, робют. Чисто, сухо, кругом машина. Он тебе и человека убивать машину придумал таку – по воде и по воздуху, не говоря обо всем прочим.
– Не ври хоть…
– А ты переври лучше. Поработал он тебе в силу и отдыхает.
– А тебе плохо?
– Плохо?!. – Кубдя разозленно заговорил: – Недовольны мы, понял? Желаем жить – чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с такого положенья встосковали мы!..
– Не все сразу. Скоро-то, знаешь, насчет кошек говорят…
– Зря говорят! Ленив человек-то, ленив, стерва! Ему бы все в пузе ковырять да брата своего вылаять. Нет, ты прожгись через работу-то да выплачься – вот и поймешь, на какое место заплатку ставить надо.
– А ты научи.
Кубдя соскочил с крыльца и, пошатнувшись, рассмеялся:
– Сам-то во тьме иду.
– Свечку надо?
– Не из твоей ли церкви?
Селезнев провел рукой по бороде от горла к носу и ухмыльнулся глазами:
– Свечки-то все одинаковы, лишь бы светили. Ты думаешь – с такой, а я – с другой, а к месту-то одному придем.
– К одному ли, Антон Семеныч?
Кубдя подхватил Беспалых под руку и пошел.
– Сиди, – сказал Селезнев.
– Пойдем лучше, проветримся. А то парень-то скис, – сказал Кубдя.
Селезнев шумно вздохнул и возвратился в горницу.
Тут сидели и пили самогонку гости из соседней деревни: маслодельный мастер – жирный, лысый, как горшок, мужик; мельник, как и все мельники, большой любитель церковного чтения и большой бабник, со своей дочкой; священник с дьячком.
Жена Селезнева, широколицая, высокая баба, наливала гостям самогону в рюмки и, колыхаясь перетянутым животом, говорила:
– Кушайте, не стесняйтесь, кушайте…
В избе было жарко. Пахло зерном прелым – от самогонки, хлебом, геранью, табаком.
Мельник пронзительно, словно в избе шла мельница о шести поставах, спорил с попом и дьячком о двоеперстном крещении.
Попу хотелось спать, но уйти было неловко, и он отпихивал от себя рукой мельника:
– Уйди ты от греха, уйди!..
– Я те докажу! – кричал мельник. – От закона божия докажу, от катехизиса, от всяких, всяких!.. Сознаешь?..
Псаломщик потрогал за плечо мельника:
– Что ты одно и то же затвердил? Ты факты приводи, а криком-то и дурак возьмет, да!..
Маслодельный мастер спорил со всеми тремя и, не слушая ни их, ни себя, бубнил:
– Поп! Хошь у те и рыло и брови как у пророка, а я тебя не желаю слушать, так как моя душа самого меня хочет слушать. У всякого человека есть внутри свой соловей… А ты мне там про священно писанье!..
Мастер поднял вверх руки и басом заорал:
– Благослови, владыко-о!..
Псаломщик отскочил от попа и умильно взглянул на Антона:
– Блистательно народ живет.
Антон чувствовал усталость во всем теле.
Была долгая утреня и обедня, причем нужно было стоять впереди всех и, ощупывая на себе взгляды, кланяться и креститься особенно истово и неторопливо; работник куда-то скрылся, и нужно было самому гнать лошадей к водопою, дать им сена.
И брала злость, а не хотелось ради праздника злиться.
Селезнев взял псаломщика за плечи, усадил рядом с собой и сказал:
– Ну, рассказывай, Никита Петрович.
Псаломщик повел высохшим лицом во все стороны и сказал:
– Домовитый вы, Антон Семеныч.
– Иначе нельзя.
– У нас в России не так.
Антон взглянул на него оживившимся мыслью взглядом:
– Знаю. Бывал.
Псаломщик стиснул зубы и вздохнул так, словно выпустил душу.
– Тоже хочу хозяйством обзавестись.
Без хозяйства человек – ветер.
– А дальнейшее само собой, а?
– Что?
– Ну жизнь?
Псаломщик хитровато уставился на крупного чернобородого человека и подумал: «Крупен, дядюшка. А и плутень тоже».
Антон устало проговорил:
– Кто как хочет, тот и строит свою жизнь-то.
– А бог?
– Бог для ночи нужон. С ним дневать не приходится.
В это время к Антону подошла баба и сказала:
– Там те, мужик, спрашивают.
– Кто?
– Милиционеры, что ли. С ружьями, на паре приехали. У ворот.
Селезнев взглянул на ее побледневшее лицо и недовольным голосом проговорил:
– А ты уж скисла.
И, поскрипывая сапогами, мелким шагом вышел к милиционерам.
Их было двое. Они сидели в коробке и о чем-то разговаривали между собой. Каурые лошади утомленно отгоняли хвостом жужжащих мух.
Ямщик – молоденький мальчишка – смотрел на что-то у колес.
Селезнев подумал, что милиционеры свернули выпить, и он решил их угостить получше.
– Заворачивайте, – сказал он.
Милиционеры взглянули на него. Один из них был на городской манер – бритый, без усов и бороды, второй, совсем молодой, с начесанным на фуражку курчавым хохолком волоса.
Милиционер постарше сказал:
– Ты Антон Семеныч Селезнев?
И то, что сказал он эти слова так, как их говорят на суде, не понравилось Антону. Он сказал:
– Я самый.
Милиционеры переглянулись и, перегибая коробок, вылезли направо.
К коробу сбирался народ – парни, девки.
Старший милиционер оглянулся и увидел Кубдю и Беспалых с ружьями.
– Разрешенья есть? – спросил он все так же строго.
– Много, – весело отвечал Кубдя.
Милиционер потрогал кобуру у пояса, и говорить такие холодные, протокольные слова ему, должно быть, очень понравилось. Он сказал:
– Потом разберемся. Вы не уходите.
– Ладно, – сказал Беспалых. – Мы ведь здешние.
– А народ пусть разойдется. В свидетели охота? Где тут староста?
Вышел староста, заспанный мужик в сатинетовой рубахе без опояски.
– Я староста, – бабьим голосом проговорил он.
Милиционер с неудовольствием сказал:
– Дожидаться тебя приходится. Обыск вот надо произвести. Самогонку, говорят, курите?
– А кто их знат! – равнодушно ответил староста.
Милиционеры были городские, и при виде этих лохматых пьяных людей, узеньких линий глаз – где бог знает какие мысли прячутся – они вначале немного трусили.
Потом, увидав, как мужики торопливо расступились перед шинелями английского образца, пуговицами со львами и голубыми французскими обмотками, милиционеры развеселились и, вспомнив про свою трусость, осерчали.
Младший, не привыкший к ружью и постоянно поправляющий ремень, входя во двор, крикнул:
– Пьянствовать тут!..
Крик его походил на жалобу, и он смолк.
Аппарат для курения самогонки – два толстых глиняных горшка с рядом медных трубочек и жестяной холодильник – стоял под навесом, на телеге, накрытой кошмой.
Тут же стоял и бочонок с невыпитой самогонкой. Милиционер вытащил из кармана бумагу и чернильницу и начал писать протокол.
В толпе переговаривались:
– Ишь, хотят, чтоб цареву водку пили!
– Торговлю отбивашь, дескать!..
– И не говори.
Молоденький милиционер поджал губы и ссупил брови.
– Ишь ты, задело!
– Не пьет!
Составив протокол, милиционер разбил ружьем горшки, прободал штыком холодильник и сломал медные трубки.
Мужики молчали.
Милиционер опрокинул на землю самогонку. Образовалась лужица, блеснула темноватая крыша пригона, и водку впитала земля.
Запахло горячим хлебом.
– Вот паскуда, – крикнул кто-то из толпы.
Милиционеру было жалко и самогонку и себя, совершающего такие нехорошие поступки; он рассердился:
– Молчать, чалдонье!
Милиционер помоложе ухватился за ружье:
– Всех переарестуем.
Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно; старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел в пьяные, быстро мигающие лица.
Мужики нажимали.
В груди и бока милиционерам уперлись чьи-то твердые локти и руки. Пахло самогонкой и еще чем-то нехорошим – кажется, прелым камышом от повети.
Затрещал коробок у ворот.
Старший милиционер попробовал пойти – не пускают. Кругом глаза и теплое человеческое дыхание.
Милиционер помоложе вскрикнул, раздался его голос немного с хрипотцой. Его товарищ вдруг длинно, матерком каторжан, выругался.
Кто-то из толпы – вертлявый и маленький – выскочил и ударил его в зубы.
Милиционер горласто крикнул и выстрелил подряд три раза в толпу из револьвера.
Охнули.
Толпа расступилась.
Милиционеры, согнувшись, побежали к воротам.
Лица их вспотели, дрябло сморщились и иссиня побелели, как известка.
Они вскочили в коробок. Мальчишка кучер гикнул.
Беспалых замахал руками:
– У-лю-лю-ю!..
И, сорвав с плеча ружье, выстрелил вслед им сразу из обоих стволов.
Один из милиционеров мотнул головой и нырнул в коробок. Ямщик на передке испуганно, по-бараньи, заверещал.
Кубдя снял берданку и выстрелил в воздух.
Коробок скрылся в переулок.
Мужики вышли из ограды с чувством большой беды.
У Беспалых обомлели ноги, он взглянул на Кубдю, и ему показалось, что Кубдя как будто доволен.
У Беспалых зашумело в ушах, и он быстро пошел в монастырь.
Кубдя догнал его на мосту и под стук каблуков в доски пола сказал ему прерывающимся голосом:
– Поохотились!..
Вечером Горбулин и Соломиных слушали, как Беспалых, задыхаясь и бегая по избе, рассказывал, как прогнали милиционеров.
Горбулин восторженно плескался руками в воздухе и поддакивал:
– Так их… так…
И было непонятно, почему так разбудилось это ленивое и сонное тело.
Соломиных сидел, поджав ноги калачиком, по-киргизски, и издали при свете сальника походил на божка.
Кубдя спал.
В монастыре протяжно пели.
В горах с шипом шумели кедры, и где-то далеко грохотало, должно быть «плакали белки», рушились льды ледников. Тьма зеленоватым кошачьим зрачком щурилась в окна.
В конце рассказа в сенях застучали. Кто-то долго шарил дверь. Беспалых смолк. Вошел Емолин и испуганно заговорил:
– Под суд подвели, сволочи! Кубдя, где Кубдя-то?
Беспалых сказал:
– Спит.
Емолин отскочил к дверям. Из темноты по-иному звучал его, наполненный чем-то другим, не всегдашним, голос:
– Спит!.. Убил человека и дрыхнет. Вот каторжане, а! Господи, ну и угораздило меня связаться с ним! Теперь и меня-то из монастыря выгонят. А он дрыхнет. Буди, что ли, его, Егорша!..
Соломиных спросил:
– В сам деле убил?
– Наповал. Так в шею, братец ты мой, и всадил всю дробь.
– Дробью убил?
– И черт его угораздил!
Емолин подбежал и толкнул ногой Кубдю:
– Вставай ты, леший драный…
– Теперь вошьют, – сказал Соломиных, и Беспалых показалось, что говорит он, точно радуясь. – Или повесят, или расстреляют.
– Обоих?
– Може, и всех четырех…
– А нас-то с чего?
– Разбираться не будут.
Емолин дергал Кубдю и ругался:
– Вставай, каторжная душа, лихоманка. По-людски бужу, человеку тебя надо.
У Кубди кружилась голова, он присел на голбце, зевнул – в челюстях пискнуло.
– Что те, подрядчик, надо? – оказал он хрипло.
– Человек тебя спрашивает.
– Кто?
Емолин отошел к дверям и крикнул в темноту:
– Иди-ка сюда, Антон Семеныч!
Селезнев перекрестился и поздоровался. Кубдя взял ковш и с шумом напился.
– Ну, парень, и самогонка! – сказал он с удовольствием. – А ты что, на ночь-то глядя, пришел, дядя Антон?
Емолин сказал:
– Вот, клин тебе в глаз, еще спрашиват! Убил человека – и хоть бы что!
– Всем одна смерть, – сказал Кубдя, садясь на лавку.
– Ну, а я пойду, – торопливо сказал Емолин, – мне тут рук марать не приходится. Разбирайтесь сами, а только, как хотите, а повесят вас.
– Повесят, – равнодушно подтвердил Соломиных.
Помолчали, сколько требуется по положению, и Кубдя спросил:
– Самовар, что ли, поставить?
– Не надо, – сказал Селезнев. – Я ведь ненадолго. К тому пришел – собираться вам надо.
Кубдя положил ногу на ногу и посмотрел в потолок.
– Наши сборы не долги. Куда идти-то?
– В чернь.
Беспалых переспросил:
– В тайгу?
Селезнев промолчал и немного спустя добавил:
– Как хошь, мне одно. Только вам уйти надо. Расстреляют колчаки-то. Я седел и тюки приготовлю, – поди, под завтрашнюю ночь придут.
– Придут, – сказал Соломиных.
– В чернь, одно. Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, хрестьянская…
Беспалых спросил:
– Думашь, самогонку даст гнать?
Селезнев опять не ответил ничего и спросил:
– Как вы-то морокуете?
Решили, что да, нужно идти в чернь.
Селезнев пошел к дверям так, словно поить лошадей – не торопясь, и у него была широкая, лошадиная спина с заметным желобком посредине.
Кубдя посмотрел на него с уважением и, когда он ушел, сказал:
– Здоровый, черт, и есть у него своя блоха на уме.
VI
Приземистый и краснощекий капитан Попов, начальник уезда в Ниловске, искренне был недоволен собой. В других уездах как будто ничего, а здесь – не то восстания, не то блажь.
– Балда! Бабища! – выругал он сам себя и велел денщику позвать прапорщика Висневского.
Возвращаясь к столу, он заметил, что нога у него как-то неловко косится. Он поднял ногу на стул.
Каблук скривился. Попов пощупал сапог. В таком положении и застал его прапорщик Висневский. Капитан, не глядя на него, сказал:
– Вот, говорят, деньги большие получаем. А сапог купить не на что.
Прапорщик считал себя очень вежливым и сейчас нашел нужным звякнуть шпорами и поклониться.
– Слышали? – спросил капитан, указывая пальцем на лежавшую на столе бумажку. – В Улее-то милиционера убили.
Прапорщик пожал крутыми плечами и подумал: «Меньше бы распускали их», – а вслух сказал:
– Пьяные. Не думаю на большевиков.
– Напрасно, – сухо сказал капитан. – В газетах сводки «На внутренних фронтах» появились. Это тоже, думаете, не большевики? Э-эх!.. Углубления в жизнь у вас недостает.
Прапорщик обиделся.
– Возьмите сорок человек из ваших и успокойте их там, в Улее. Да имейте в виду: не на пьяных поедете.
– Приказ письменный будет? – спросил прапорщик.
– Будет. Напишут.
Капитан сделал плаксивое лицо и шумно вздохнул:
– Эх, господи! Вот времена подошли: не знаешь, откуда и народ рассмотреть. Измаешься… Курите?
Прапорщик закурил и, довольный назначением, подумал: «А он не злой».
В обед на другой день отряд польских уланов под командой прапорщика Висневского выехал усмирять крестьян.
Уланы были взяты из польского легиона, стоявшего в Барнауле.
Все они знали хорошо эту землю, горы и крестьян, которых ехали усмирять. Большая часть из них раньше работала у крестьян, еще при царе – по году, по два.
Некоторые из уланов, проезжая знакомые деревни, раскланивались с крестьянами.
Крестьяне молча дивовались на их красные штаны и синие, расшитые белыми шнурками куртки.
Но чем дальше они отъезжали от города и углублялись в поля и леса, тем больше и больше менялся их характер. Они с гиканьем проносились по деревне, иногда стреляя в воздух, и им временами казалось, что они в неизвестной завоеванной стране, – такие были испуганные лица у крестьян и так все замирало, когда они приближались.
Отъезжая дальше от города, уланы и с ними прапорщик Висневский чувствовали себя так, как чувствует уставший, потный человек в жаркий день, раздеваясь и залезая в воду. Там, у низеньких домишек уездного городка, осталось то, что почти полжизни накладывал на них город, – и уважение, и сдержанность, и еще многое другое, заставлявшее душу всегда быть настороже.
Все это сразу стерли в порошок и пустили по ветру бесконечные древние поля, леса, узкие, заросшие травой колеи дороги и возможность повелевать человеческой жизнью.
Все они были люди хорошие, добрые в домашнем кругу, и у всех почти были дети и жены, только прапорщик Висневский жил холостяком.
Прапорщик ехал впереди на серой лошади, заломив маленькую, похожую на пельмень шапочку, глубоко, с радостью дыша и воображая себя старым, древним паном.
Тонкоголовая лошадь с коротким, крепким крупом и длинным, прямым задом тоже чувствовала себя хорошо и, поигрывая мокроватыми желваками мускулов, шла легко и спокойно.
Вначале уланы ограничивались стрельбой в воздух, ловлей кур на ужин, но потом им это надоело, и они начали искать большевиков. Призывали старосту в поле и допрашивали:
– Кто большевикам сочувствует?
И спрашивали не в той деревне, где останавливались, а в соседней. Староста указывал, – тогда уланы ехали туда, арестовывали и пороли плетями.
Взятые мужики указывали на других, и так, переезжая из села в село, уланы имели возможность оставлять по себе настоящие долгие следы.
Недалеко от Улей поймали действительного большевика – кузнеца, раньше бывшего в городе красногвардейцем и бежавшего в деревню после переворота.
Кузнец был низенький человек с длинными руками.
Кузнеца отвели к поскотине и тут, у избушки сторожа, пристрелили.
В этом же селе уланы вечером надолго ушли куда-то и, возвратясь, многозначительно друг дружке подмигивали и хохотали. Но, как и везде, никто не жаловался.
Уже поздно вечером в разговоре прапорщик понял, что они насиловали девок, и это ему было неприятно, а вместе с тем и радостно знать.
Неприятно потому, что в городе насилия над женщинами не одобряли, и за это мог быть порядочный нагоняй, а радостно потому, что прапорщику давно хотелось обнять здесь, на просторе, простую, пахнущую хлебом, деревенскую девку, а если не поддастся сама, то изнасиловать.
Прапорщику казалось, что все презирающие насилие лгут и самим себе и другим.
На другой день приехали в Улею, – это было ровно неделя с того дня, как здесь убили милиционера.
Так же стояли темные избы, так же блистали радугой зацветшие стекла окон, улица была узенькая, как обшлаг сибирской рубахи, темная и прохладная.
На горе, как лицо девицы в шубном воротнике, тонул монастырь в лесу. По мосту постукивали копытцами овцы; пахло черемухой и водой от речки.
Мужики были на пашне. Висневский строго приказал старосте собрать их к вечеру, а сам прилег под навес на телегу и уснул.
Уланы зарезали у старосты овцу и стали жарить ее посреди двора.
От костра летели искры, староста боялся пожара, но ласково улыбался и семенил вокруг уланов.
На высокий забор вскочил с усилием, помогая себе крыльями, петух и кукарекнул.
Один из уланов прицелился и выстрелил. Петух, как созревший плод, грузно упал на землю. И тут староста ласково улыбнулся и проговорил:
– Ишь ведь, убил.
Улан взглянул на притворявшегося старикашку, ему захотелось выстрелить в эту ровную, как столешница, грудь. Он отложил ружье.
Под вечер собрались мужики.
Прапорщик отобрал десять из них, самых страшных на вид, и велел посадить в избу, приставив часового.
Остальных мужиков уланы выпороли и отпустили.
Прапорщик спросил старосту:
– А те, которые убили, скрылись?
– Так точно, – ответил поспешно староста.
– И не знаешь, где?
– Не могу знать.
Прапорщик выгнал старосту и велел позвать учителя.
– Садитесь! – сказал прапорщик Кобелеву-Малишевскому. – Очень рад познакомиться с культурным человеком!
Прапорщик не любил деревенских учителей, и от мужиков, по его мнению, они отличались только бритой бородой. Так и этот хлипкий и конфузливый человек ему не понравился.
Прапорщик угостил Кобелева-Малишевского маньчжурской сигареткой и спросил:
– Как вы живете в такой берлоге?
– Привычка!
Кобелев-Малишевский чувствовал свою застенчивость, И ему было стыдно. «Вот одичал-то!» – подумал он и затянулся крепче, а затянувшись, поперхнулся, но кашель превозмог.








