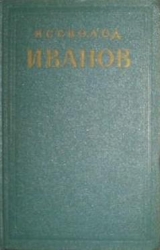
Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Я, рассеявши, пошел.
Во зеленый сад вошел.
Э-э-эх…
Сью-ю-ю…
Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.
Шестой день увядал.
Томительно и радостно пахли вечерние деревья.
В городеX
На широких, плетенных из гаоляна цыновках лежали кучи камбалы, угрей, похожих на мокрые веревки, толстые пласты сазана и зубатки. В чешуе рыб отражалось небо. Плавники хранили еще нежные цвета моря – сапфирно-золотистые, яркожелтые и густооранжевые.
Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:
– Тле-епанга-а!.. Капитана луска! Кла-аба!.. Тле-пан-га-а!.. Покупайло еси?.. А-а?..
Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:
– Орет китай, а всего только рыбу предлагает.
– Предлагай, парень, ты!..
– Наше дело – рушить все! Рушь да рушь. Надоело. Когда строить-то будем?.. Эх, кабы японца грамотного найти!
Матрос спустил ноги к воде; играя подошвами у бороды волны, спросил:
– На что тебе японца?
У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки, – рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город…
«Веселый человек», – подумал Знобов.
– Японца я могу. Найду. Японца здесь много!
Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и голубовато-желтые короткие кофты – курмы – китайцев, проговорил шепотом:
– Японца надо особенно, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихним.
Он представил себе желтый листок бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:
– Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул… плачет…
– Может, и со страху плакал?
– Не крутись. Главное – разъяснить жизнь надо человеку. Без разъяснения что с него спросишь?
– Трудно такого японца найти.
– Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.
Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:
– Ишь, сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь?
Знобов вздохнул:
– Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не нижу. Заботы много… Пелена в глазах.
– Таких теперь много.
– Иначе нельзя. По тропке идешь – в одну точку смотри, а то закружится голова – ухнешь в падь! Суши там кости.
Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.
В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков.
– Кабак, а не Расея!
Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:
– Подожди, мы им холку натрем!
– Пошли? – спросил Знобов.
– Айда, посуда!
Они подымались в гору Пекинской улицей.
Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутые ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.
Знобов сказал:
– Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строят. Да и ухнул он взял! Дал бы нормально по носу, суки!..
Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.
– Кому как!
Похоже было – огромный приморский город жил своей привычной жизнью.
Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.
Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них устало искривлены…
Худые, как осиновый хворост, изморенные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.
Глаза с болью смотрели на дома, полуразрушенные во время восстания.
И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.
И по-иному из-за далекой овиди, тонкой и звенящей, как стальная проволока, задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.
Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.
– Не боишься шпиков-то? – спросил он Знобова.
Знобов думал о японцах и ответил немного торопливо:
– А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают.
Он ухмыльнулся:
– Сколько мы страху человекам нагнали! В десять лет не изживут.
– И сами тоже хватили!
– Да-а!.. У вас арестов нету?!
– Троих взяли.
– Да-а… Иди к нам в сопки.
– Камень, лес. Не люблю… скучно.
– Это верно. Домов из такого камня хороших можно набухать. А то валяется он без толку: ни жрать, ни под голову. Мужику ничего, а мне тоже скучно. Придется нам, однако, в город наступать.
– Валяйте. Вершинин как мыслит?
– Вершинин – туча, куда ветер – там и он с дождем. Куда мужики – значит, и Вершинин…
XI
Председатель подпольного революционного комитета товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.
– Вы часто приходите, товарищ Знобов, – сказал Пеклеванов.
Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:
– Народ робить хочет.
– Ну?
– А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.
– Мы вас известим.
– Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей… Бронепоезд тут. Японец чисто огонь – не разбират: все жгет.
– Японцы уйдут. Угоним…
– Знаем. Кабы не угнать, за что умирать. Мост взорвать хочут.
– Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно!
– Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.
– Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.
Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал.
– Дисциплины в вас нет.
– Промеж себя?
– Нет, внутри.
– Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету…
Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.
Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.
Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:
– Мужики все насчет восстанья. Ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?
Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:
– А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь… Мы тут американца одного – до слезы…
У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий, в очках.
– Как же, думаем… Меры принимаем.
Знобову вдруг стало его жалко.
«Хороший ты человек, а начальник… того», – подумал он, и ему захотелось увидеть начальником здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.
На столе валялась большая газета, а на ней черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.
«Птичья еда», – подумал с неудовольствием Знобов.
Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:
– В назначенный час восстания на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают провода и захватывают учреждения.
Пеклеванов говорил, точно читал телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:
– Ну-у!.. А не сорвется опять? Вы верите уже…
– Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.
Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:
– Все?
– Пока – да.
– А мало этого, товарищ… Ей-богу, мало… Ну, возьми…
Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрывалось пятнами. Он словно обиделся.
Знобов бормотал:
– Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много… тысячи…
– Японцев сорок. Сорок тысяч.
– Это верно, как вшей, могут сдавить. А только пойдет.
– Кто?
– Мир. Общество. Да… Мужик хочет воевать.
– За русскую землю?
– За землю! – ответил Знобов. – И размечет он и японцев, и американцев, и всех, кто на Дальний Восток явился. Но, конечно, Илья Герасимыч, город должен деревню поддержать.
– Партия поддержит. А партия опирается на весь город.
– Ну, и хорошо!
Знобов засиял.
Пеклеванов, улыбаясь, ласково взглянул на него и сказал:
– Водкой попотчую, хотите? Только, чур, долго не сидеть и белогвардейцев громко не ругать. Следят.
– Мы втихомолку.
Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:
– Ты, парень, не сердись. А сначала не понравился ты мне, что хошь.
– Прошло?
– Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.
– Где?
Знобов распустил руки:
– По линии… ходит. «Четырнадцать» там и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильён народу срезал. Так мы ево… тово…
– В воду?
– Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.
– Орудия на нем.
– Опять ничего не значит. Постольку, поскольку выходит, и никакого черта…
Знобов вяло качнул головой:
– Водка у тебя крепкая. Тело у меня как земля, не слухат человечьего говору. Свое прет.
Он поднял ногу на порог и сказал:
– Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу. Хороший.
Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:
– Да-а… предыдущий…
Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.
XII
На улице Знобов увидал у палисадника японского солдата.
Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.
– Обожди-ка! – сказал Знобов, взяв его за рукав.
Японец резко отдернул руку и строго крикнул:
– Ню! Сиво лезишь?
Знобов скривил лицо и передразнил:
– Хрю! Чушка ты! К тебе с добром, а ты с «хрю-ю»! В бога веруешь?
Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова – от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:
– Лусика сюполочь. Ню…
И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.
Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:
– Дурак ты, я тебе скажу!..
Китаец Син Бин-УXIII
Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом плетенную из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.
Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.
Матрос кричал с таратайки:
– В городе, товариш-ши, восстанье!.. Крой… Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать… Чтоб немедленно! Рабочие бастуют, одним словом – крой и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручай… А я милицию организую.
И ускакал в сопки веселый матрос.
Облако над сопками – словно красная лента…
XIV
Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза, в манзе крашеный теплый кан и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы.
А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.
Только щека осталась проколотой штыком.
Син Бин-у читал «Ши-цзинь», плел цыновки в город, но бросил «Ши-цзинь» в колодец, забыл цыновки и ушел с русскими по дороге Восстаний.
Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.
Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается:
– Цхау-неа!..
Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син Бин-у убил трех японцев, – и пока китайцу ничего не надо, он доволен.
От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики землей и травами.
У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.
На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:
– А ты не стони, пройдет!
Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующими людьми.
– О-о-о-у-у-у!..
Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:
– Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!
И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.
– Не да-ва-й!..
Толпа тянула за ним:
– А-а-а!..
И вот на мгновенье стихла. Вздохнула.
Ветер нес запах пота.
Партизаны митинговали.
Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:
– На-роду-то… Народу-то мильёны, товарищи!..
Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь,
Никита Вершинин орал с пня:
– Главна – не давай-й!.. Придет суда скора армия… советска, а ты не давай… старик!..
Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:
– Не-е да-а-а-вай!!
И казалось – вот-вот обрушится слово, переломится и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.
В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голоском подтвердил:
– А верю, ведь верна!..
– Потому – за нас Питер… Бояться нечего… Японец-что, японец легок… кисея!..
– Верна, парень, верна! – визжал мужичонка.
Густая, потная тысячная толпа топтала его визг:
– Верна-а…
– Не да-а-ай!..
– На-а!..
– О-о-о-у-у-у!!
– О-о!!!
XV
После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:
– Подбери ноги – штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?
– Нисиво, – проговорил китаец, – мне ни нада… Мне так зынаю, зынаю псе… шанго.
– Ноги-то подбери!
– Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво-а!..
Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:
– Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман… У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили… да-а… Мост вот взорвем – строить придется.
Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубашкой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом испытующе спросил:
– А ты… как думаешь… А? Пошто эта, а?..
Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.
– Ни зынаю. Гори-гори!.. Ни зынаю!..
Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:
– Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..
Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:
– Нисиво!.. Нисиво не зынаю!..
Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.
– Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат… Разбудили, побежали, а дале что?..
И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:
– Не то народ умом оскудел, не то я…
– Чего? – спросил тот.
– На смерть лезет народ.
– Куда?
– Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.
Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.
– Жалко тебе?
Подошел Знобов; подмышкой у него была прижата папка с бумагами.
– Подписать приказы!
Вершинин густо начертал на бумаге букву «В», а подле нее длинную жирную черту.
– Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо догадь взяла, поставил одну букву с палкой – и ладно… знают.
Окорок повторил:
– Жалко тебе?
– Чего? – спросил Знобов.
– Люди мрут.
Знобов сунул бумажку в пачку и сказал:
– Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.
Вершинин сипло ответил:
– Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключами двери-то открыть надо?
– Зачем идешь?
– Землю жалко, японец отымет.
Окорок беспутно захохотал.
– Эх вы, землехранители, ядрена зелена! И-их!..
– Чего ржешь? – с тугой злостью проговорил Вершинин. – Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду…
– Ну, пророк?
– Рыбалку брошу теперь.
– Пошто?
– Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то обманыват, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.
Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани – людей, трамвай, дома – и сказал с неудовольствием:
– Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам – расписывайся!..
Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:
– Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит! Патеха-а!.. Не ждет поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?
– Им виднее, – нехотя ответил Вершинин, – японцам-то.
Над песками – берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек в желтом, – как кусочек смолы на стволе сосны, часовой.
Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.
Син Бин-у сказал:
– Серысе похудел-похудел немынога… а?
– Пройдет, – успокоил Окорок, закуривая папироску.
Син Бин-у согласился:
– Нисиво.
XVI
Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:
– Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Самое главное – в человека поверить…
– Человек бывает разный, – сказал Вершинин, – а правда одна…
– Советская? – подхватил корявый мужичонка.
– Другой не ищем.
– А я какую ищу?.. Ту же самую! Чтоб той правде человек вровень был. Я тебя считаю ей вровень, Никита Егорыч! Я считаю, ты им, мужикам-то, правду во всей красе разъяснить можешь.
– Хочу, да трудно, – сказал Вершинин. – Неученой я. Мало в городе я жил… Встречался я там с настоящим человеком – Пеклеванов, Илья Герасимыч, председатель ревкома… да мало… учиться нам надо, ох, как еще учиться…
– Обучимся!
И мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо:
– Обучимся, Никита Егорыч.
– Знаю.
Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.
Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сбирать молодых парней:
– На ученье айда. Жива-а!..
Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами сбирались послушно.
Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:
– Смирна-а!.. – И от крика этого почувствовал себя солдатом. – Равнение на-право-о!..
Вершинин до позднего вечера учил парней. Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривали на солнце.
– Полуоборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!
Один из парней жалостно улыбнулся.
– Чего ты?
Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:
– Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря… А вода их горячая, хрисьянину пить нельзя.
– Таки же люди, колдобина!
– А пошто они желты? С воды горячей, бают?
Парни захохотали.
Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:
– Рота-а, пли-и!..
Парни щелкнули затворами.
Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:
– Учит. Обстоятельный мужик Вершинин-то… Другой ответил ему полусонно:
– Камень, скаля… Большим комиссаром будет.
– Он-то? Обязательна.
Прапорщик ОбабXVII
Казак изнеможенно ответил:
– Так точно… с документами…
Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.
Казак, подавая конверт, сказал:
– За голяшками нашли!
Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:
– Ты… какой банды?.. Вершининской?..
Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнувшую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал.
«Может… приказ… может…»
Комендант, передвигая тускло блестевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:
– Какое количество?.. Что?.. Где?..
Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.
«Угодить хочет… бронепоезд… дескать, наши…»
А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности – сначала одну кишку, потом другую…
Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши» – строго огляделся, но опять спрятал глаза.
Румяное женское лицо показалось в окошечке:
– Господин комендант, из города не отвечают.
Комендант сказал:
– Говорят, не расстреливают – палками…
– Что? – спросило румяное лицо.
– Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?
– Может… все может… Но ведь я думаю…
– Как?
– Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только…
– Нет, не думаю. Хотя!..
Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:
– Капитан, арестованного прихватите!
Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.
Один солдат приказал до расстрела:
– А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.
Обвыклым движением мужик сдернул сапоги.
Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.
Обаб принес в купе щенка – маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.
– Зачем вам? – спросил Незеласов.
Обаб как-то не по-своему ухмыльнулся:
– Живность. В деревне у нас скотина. Я – уезда Барнаульского.
– Зря… да, напрасно, прапорщик.
– Чего?
– Кому здесь нужен ваш уезд? Вы… вот… прапорщик Обаб, да золотопогонник и… враг революции. Никаких.
– Ну? – жестоко проговорил Обаб.
И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:
– Как таковой… враг революции… выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!
Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:
– Ерунда! Мы их в лапшу искрошим!
На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.
Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных, немощных листьев с кленов.
Тоскливо пищал щенок.
Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:
– Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..
Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то не признававший дисциплины тихо скулит у пулеметов, у орудий.
Они торопливо оглядывались.
Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам к востоку, к городу, к морю.
XVIII
Син Бин-у направили разведчиком.
В плетенную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.
Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:
– Кокаин есть?
Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как шелк, век и, точно сожалея, ответил:
– Нетю!
Офицер строго выпрямился:
– А что есть?
– Семечки еси.
– Жидам продались, – сказал офицер, отходя. – Вешать вас!
Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:
– У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный, китайскому арбузу далеко.
– Шанго, – согласился китаец.
– Домой охота, а меня к морю везут, видишь?
– Сытупай.
– Куда?
– Домой.
– Устал я. Повезут – поеду, а самому идти – сил нету.
– Семичика мынога.
– Чево?
Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.
– Семечики мынога у русика башку. У-ух… Шибиршиты…
– Что шебуршит?
– Семичика, зелена-а…
– А тебе, что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?
Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:
– Кто?
– Капитан Незеласов это, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?
– Шанго… Пу шанго…
– Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!
– Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:
– Наторговал?
Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.
Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с перрона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и когда он вытирал слезы, видно было – руки у него маленькие и чистенькие.
Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.
– Житьишко! – сказал он любовно.
Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.
XIX
Ночью стало совсем душно. Духота густыми, непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов, и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.
Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу – тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно, жалко ревет.
А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.
Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри попрежнему был жар и голод.
Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, смущенно докладывая:
– С городом, господин прапорщик, сообщения нет.
Обаб молчал, хватая корзину, и узловатыми пальцами вырывал хлеб и, если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.
Спустив щенка на пол и следя за ним мутным, медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.
Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь, точно заклепывали…
У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:
– Прорвемся… к черту!.. Нам никаких командований… Нам плевать!..
Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд – и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельсов непонятный и страшный в молчании город.
– Прорвемся! – выхаркивал капитан и бежал к машинисту.
Машинист, лицом черный, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:
– Уходите!.. Уходите!..
Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:
– Вы не беспокойтесь… партизан здесь нет… А мы прорвемся, да, обязательно… А вы скорей… А… Мы все-таки…
Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.
Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:
– У красной черты… Видите?
Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.
Нехорошо пахло углем и маслом.
Вспоминались бунтующие рабочие.
Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:
– Стреляй!..
Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулемета и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.
Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же:
– Обстреливают? Обстреливают?
Капитан приказывал:
– Отставь!
– Усните, капитан!
Все в поезде бегало и кричало – вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.
Капитан торопился закурить сигаретку.
– Уйдите… к черту!.. Жрите… все, что хотите… Без нас обойдемся. – И визгливо тянул: – Пра-а-порщик!..
– Слушаю, – сказал прапорщик. – Вы что ищете?
– Прорвемся… Я говорю – прорвемся!..
– Ясно. Всего хватает.
Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:
– А… Земля здесь вот… за окнами… она нас… проклинает, а?..
– Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче!
– Мы, прапорщик, трупы… завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде – прах… Сегодня мы закопали челоовека, а завтра… для нас лопата… да.
– Лечиться надо.
Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:
– Сталь не лечат, переливать надо… Это ту… движется если… работает… А если заржавела?.. Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а?.. Ошибся, оказывается… Ошибку хорошо при смерти… А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня невеста Варенька… И ногти у нее розовые, Обаб…
Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать – сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый, живой сверточек, пищавший на полу.
– Глиста!..
XX
На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.
Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.
– Послушайте, – нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.
Обаб повернулся, поспешно убирая спину.
– Стреляют? Партизаны?
– Да нет… Послушайте!..
Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.
– Но нет мне разве места… в людях, Обаб?.. Поймите… я письмо хочу… получить. Из дому, ну!..
Обаб сипло сказал:
– Спать надо, отстаньте!
– Я хочу… получить из дому… А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!.. – Капитан стыдливо хихикнул. – А… Незаметно этак, бывает… а…
Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:
– Вы мне по службе – да! А так мне говорить не смей! У меня у самого… в Барнаульском уезде…
Прапорщик вытянулся, как на параде.
– Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты… Не имеешь права!
Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:
– Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!
– Тоска, прапорщик… А вы… все-таки человек!
– Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый… Онанизмом в детстве-то, а… ишь, ласки захотел…
– Вы поймите… Обаб…
– Не по службе это.
– Я прошу…
Прапорщик закричал:
– Не хо-очу-у!..
И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:








