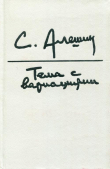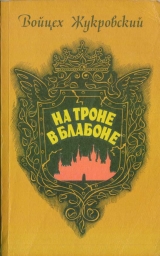
Текст книги "На троне в Блабоне"
Автор книги: Войцех Жукровский
Жанр:
Сказочная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Он еще раз с удовольствием осмотрел свое творение – в зеркале красовался рыжеволосый авантюрист. Кажись, и я, ан вовсе не я. Мое превращение надобно с умом использовать. Черт знает, насколько хватит этого маскарада…
Король умелым взмахом снял с меня простыню. Я живо вскочил, решительный, готовый к борьбе. Даже движения у меня изменились, стали увереннее – горе бульдогу, подвернись он под руку!
Король пожал мне руку с такой сердечностью, будто благодарил за что-то. Я не осмелился совать ему деньги.
– У вашего королевского величества огромный талант!
– Просто я гениален, – согласился он скромно.
Вот так все встало на свои места: как бы то ни было, но король стал близок акиимам, ибо ставит свое искусство, а значит, себя самого превыше наследственного долга перед народом. Угасло в нем самое важное, что смягчает тяжесть бремени, облегчает тяготы служения, а без служения какая же это власть?
В КОЛЬЦЕ ОПАСНОСТИ
Сразу за углом аппетитно запахло бараньей печенкой с чесноком. Или хорошо нашпигованной телятиной? К телятинке хорош молодой картофель, посыпанный укропом, в коричневом соусе… Пара нежных листиков салата из самой середки, аппетитного, позднего в этом году… Еще несколько теплых дней, подернутых дымкой, и травы схватит седой иней.
Однако харчевни не видно. Обеденные ароматы явно просочились из-за наглухо закрытых ставен. Миновало время, когда, наготовив полные горшки, созывали гостей. Теперь всяк торчал у себя дома, как дятел в дупле.
Вот пахнуло теплым дыханием только что вынутой из печи сдобы. Я закрыл глаза и сразу увидел булочку, посыпанную крошкой, по краям румяную и хрустящую, с приятной шероховатостью, всю в белых пупырышках, обильно припудренную ванильным сахаром. Видно, я здорово проголодался. Судорожно сглотнул слюну, а в животе будто вороны свили гнездо – такое доносилось карканье.
Улицы опустели, только две девочки прыгали, как воробьи, – играли в классики. На мое приветствие не соизволили ответить. Эпикур протрубил с башни ратуши. Ему хорошо: закусить, может, и не закусывал, зато досыта наклевался кукурузы с оловянной тарелки.
Трактир „У бездельников“. На вывеске упитанный молодец развалился в ленивой позе. А в помещении пусто, скатерти и крахмальные салфетки, торчащие на столах, пронизывают зимним холодом. Двое мужчин сидят в углу над едва пригубленными кружками пива. Кельнер на подносе принес им соломинки – подуть в пиво и взбить пену, – на пиве ни малейшего намека на пену… Но те, не шевелясь, меланхолично вдыхают запах солода.
В другом конце комнаты спиной ко мне бульдог в мундире степенно выедал что-то из глубокого блюда, концы салфетки, как заячьи уши, тряслись от усердия так, что завидки брали.
Я выбрал столик подальше от других и позвал кельнера. Попросил меню, кельнер доверительно шепнул:
– Что передать повару? – И, заметив мое удивление, добавил: – На кухню что отнести?
– Отнести? Мне нужно принести.
– Чтобы принести, сперва надо отнести, мяса нету, а с овощами опять же недобор.
– А как же другие посетители? – Я показал занятые столики.
– Господин сержант ест свое. Накрыл торговку из-за Кошмарки, конфисковал корзину с продуктом. А те двое нюхают сцеженные со дна бочки пивные остатки. Мутная кислятина, ни следа пены, только брюхо пучит… А вы, уважаемый, приезжий? Давненько не бывали в столице?
Глазки внимательно ощупывали меня, его явно интересовало содержимое моей сумки, пристроенной на спинке стула.
– Я бывал здесь еще во времена короля.
– Давненько, давненько! Теперь король бреет наголо, а мы голые ходим, – пошутил он неудачно и едко, продолжая вертеться вокруг меня, и вроде бы случайно оперся рукой на сумку – пальцам доверял больше, чем глазам. Мне грозила явная опасность. Бульдог уже дважды оглядывался, не выпуская из лап тарелки: вылизывал остатки соуса. Подрезанное ухо наставил в нашу сторону.
Я послал кельнера на кухню разузнать, вдруг что-нибудь найдется, за ценой, мол, не постою, а сам на цыпочках выскочил на улицу. Два прыжка – и я в темной подворотне напротив.
Не успел перевести дух, как сержант и кельнер выбежали на улицу следом. Посмотрели по сторонам, бросились бежать, наверно, почудилось что-то подозрительное за углом. Бульдог, подзуженный кельнером, забыл снять салфетку с толстой шеи, мчался галопцем так, что тряслись жирные ягодицы.
В подворотне долго не укроешься, хозяйка с первого этажа уже заинтересовалась моей особой. Подозрительно выглядывала в щель, оставив дверь на цепочке.
– А вы к кому?
– Да так просто.
– Значит, вынюхать, обворовать или по нужде…
– Да что вы? Разве я похож на ворюгу?
– А кто вас нынче разберет: чем вороватей, тем лучше одет.
В щель приоткрытой двери она грозила мне пальцем. Ждать нельзя, баба вот-вот поднимет визг на всю улицу. Я вежливо поклонился и степенно вышел на улицу. Разумеется, в сторону, противоположную той, куда помчались преследователи. Так и кончился мой обед: только страху наелся. А бабу я недооценил, она вдруг распахнула окно и, высунувшись на улицу, заорала:
– Злодей, караул! Удирает… Вовремя я его спугнула…
Из всех окон повысовывались падкие на скандал соседки.
Я свернул в переулок и вышел на маленькую площадь. У большой афиши собралась толпа. На афише красовались все трое: Бухло, Мышебрат и я. К счастью, ненавидящая рука, изображая нас гнусными тварями, до неузнаваемости исказила лица. Нас обвиняли в контрабанде, убийствах, поджогах и даже в отравлении колодцев, так что людишки охали и ахали от ужаса. На афише похожа была только моя сумка, посему я демонстративно размахивал ею: не подумайте, мол, скрывать мне нечего. Директор обещал нешуточную награду доносителю.
Я норовил побыстрее обойти горожан, обсуждавших способы нашей поимки, как вдруг путь мне преградила белая трость.
– Разрешите пройти.
– Прочитайте бедному слепому, о чем там пишут!
– Уже во второй раз не на того нарываешься, коллега, – рявкнул я, а шпик опустил темные стекла на кончик носа и жалобно посмотрел на меня.
– Ошибка. Простите, показалось, знакомый голос.
Я благословил ловкие пальцы короля и его парикмахерские таланты. Не узнал, а ведь профессиональный сыщик, слежка – его насущный хлеб. Как и у меня. Я тоже люблю побольше знать. Нестерпимо хотелось есть, а посему я озлился на себя: согласился, дурень, на похищение из дому; заодно досталось и моим скрывающимся друзьям – ведь наверняка поудобнее меня устроились, – да и вообще всей Блабоне. Улицы нашпигованы доносчиками, тайно собрать людей, готовых бороться, будет неимоверно трудно. Сумка с Книгой и банкой казалась все тяжелее. Но пока что я не хотел расправляться с вареньем. Не ровен час, угожу в переделку и покруче.
Я брел по аллее между домишками в маленьких садиках. Через кроны золотистых яблонь просвечивал красный кирпич оборонительной стены. Я с завистью проводил взглядом стайку воробьев, перелетевших на пригородную стерню. Словно в насмешку, стая, чирикая, расположилась на ближайших деревьях.
За деревянным забором, посеребренным непогодами, старая женщина собирала сливы – осторожно нащупывала их в листве, а после срывала. Не много же она соберет, едва дотягиваясь до плодов с шаткой лестницы. И корзинка у нее такая, в какой Красная Шапочка относила завтрак своей больной бабушке. Я наблюдал за старушкой, а она доброжелательно улыбнулась и робко спросила:
– Не хотите ли венгерок? В этом году урожай небывалый. Плоды лопаются от сладости.
Я не заставил себя упрашивать, вошел, старательно закрыл на крючок калитку. Сумку упрятал в поникшей траве. Приволок прочную лестницу и принялся снимать сливы по всем правилам. Плоды так и просились в рот – в сизой кожурке золотистая сочная мякоть с косточкой. Я с наслаждением поедал зрелые сладкие сливы.
Седые кудряшки то и дело выбивались у старушки из чепчика, живые голубые глаза смотрели доброжелательно. Она оценила мою работу – под деревом быстрехонько появилась большая корзина, которую я усердно наполнил сливами.
– Нынче никого не дозовешься помочь. К мам, старикам, в мире и вовсе доброты поубавилось. Все, даже собственные внуки, наперед спрашивают: „Сколько, бабуля, заплатишь?“ Видно, думают про себя: сидит бабуля на денежках и копит, ох, копит. А нам как бы пригодились… Мы бы их раз-два и приспособили. Хорошо хоть сливу спокойно снимать дают, а то ведь участковый бульдог так и норовит забежать да проверить, чисты ли у меня руки.
А как зимой печь топить прикажете? Сажа, ведь она пачкает. Не рукам – совести надобно чистой быть, сердцу тоже… Только кто их проверит? Какая комиссия?
Вы несовременный, сразу видно. Так усердствуете, будто в своем саду. Другой на неделю бы растянул – работа-де не волк, в лес не убежит… Ешьте, пожалуйста, досыта. С дерева – самые вкусные. Без вашей помощи ждать бы да ждать, пока осенние ветры деревья отрясут.
Довольная старушка топталась под деревом, внимательно поглядывая на меня.
– Наготовлю повидла, намариную в сладком уксусе с гвоздикой, малость в духовке насушу – для рождественского взвара. Надо бы и груши четвертушками посушить… Стараюсь вот, делаю, а сама одна-одинешенька, как перст. На рыночной площади вроде и семья у меня живет, а навещают редко, я на своей могилке, в семейном склепе, чаще бываю. Кладбище рядышком. – Она показала тонкой, будто иссохшая ветка, рукой на купу рыжих и желтых деревьев. – Мне и не боязно. Родных и добрых знакомых на кладбище больше, чем на улицах Блабоны. Да, подлые времена грядут, лучше не ждать, пора убираться восвояси.
– Не годится так говорить, – замахал я руками, сидя верхом на ступеньке садовой лестницы. – Почему добрые люди отдают этот мир злым? Для кого вы будете делать компоты? Кого сливами угостите?
Старушка привела меня в чистенькую кухоньку, медные формы для выпечки светились, словно благоприятные человеку созвездия. Велела оставить корзину на полу – удобнее запускать в нее руку.
Хоть и объелся я сливами – прямо не я, а этакий огромный вареник со сливовой начинкой, – при виде кружки горячего чая и краюхи домашнего хлеба, обильно намазанного маслом, уселся к столу и принялся за пиршество. Ох и вкусно же было! Даже на сердце полегчало.
– Наработались, не худо подкрепиться. А я собираюсь дать вам слив полную сумку…
Я вскочил и помчался в сад. Сумка исчезла.
Старушка приковыляла за мной.
– Что ж это ты, дорогой, так всполохнулся? Или сокровища какие у тебя в сумке? Побледнел, бедный, как не нашел на месте, небось подумал, не попала ли сумка сыщику в лапы? Да спрятала я твою сумку, видала афишку-то. Стара я, а не совсем из ума выжила.
– В сумке моя Книга, – признался я, оглянувшись, не подслушивает ли кто. – Пишу вашу историю…
– И не поспеваешь небось за историями-то, у нас все что-нибудь делается и делается. Знаешь, что я тебе, родненький, присоветую? Оставь ты Книгу у меня, а в сумку насыпь слив, форма у сумки изменится. Послушайся старой. Я тебе надежный тайник придумала. – Она показала на собачью будку, выстланную соломой.
– Собаки нет в будке?
– Нету. Собачку давно уже похоронила под жасмином. Только она, такая верная псина, не оставила хозяйку. Всегда со мной. Иногда слышу, скребется в дверь, подвывает, чтоб впустили. Открою, ветер загонит несколько листочков, а мне сдается, моя Гагуня вбежала и рассказывает, что видела в огороде да разнюхала за забором; она вроде меня, очень поболтать любила. Мы всегда прекрасно понимали друг друга. Необыкновенная собачка, сиротка, видно, потому ко мне и привязалась, а ее братьев и сестер в мешке с кирпичом, чтоб потяжелее было, утопил в Кошмарке крестьянин.
Старушка загляделась сперва в угол у печки, а после словно погладила кого-то на коленях. Мне послышалось постукивание собачьих коготков.
– Вот и Гагуня вернулась… Уж я-то знаю, что вернулась.
Я без всяких колебаний доверил старушке Книгу. К собачьей будке легко прокрасться даже ночью – никого не разбудишь, и вновь написанные страницы подложить нетрудно. Старушке я на прощанье поцеловал руки, а она уложила полную сумку слив – даже неловко как-то, не ограбил ли беднягу.
– И других угостишь, миленький, поделишься с кем… Будь у меня силы, я отнесла бы слив королеве.
– Я передам, – вырвалось у меня. – Еще сегодня увижусь кое с кем, близким королеве.
– Возьми тогда и эту маленькую корзиночку. И приходи ко мне. Найдешь? Рядом с кладбищем. Заблудишься, спроси про бабулю, прогуливающую поводок без собаки, старая пани с невидимой собачкой… Любой ребенок тебе покажет, они знают Гагуньку.
Старушка проводила меня до калитки.
– Не подумай, я не помешанная, афишу читала и сразу тебя узнала, когда к забору подошел. Ты не поджигатель и не отравитель. За трудное дело вы взялись. А люди придут к вам. Все больше и больше… Да поможет вам бог. – Она перекрестила мою склоненную голову.
У меня потеплело на сердце. Может быть, еще не все пропало. И добрых людей не так уж мало, просто настали такие времена, что приходится скрывать доброту как слабость. Честность почитается глупостью, коли уж все перевернулось и каждый норовит урвать кусок из общественного, заграбастать побольше, уволочь домой, как лиса волочет добычу в нору.
Порядочных людей сплотить надо, вместе они поймут, сколь сильны.
Сразу за кладбищем меня задержали двое в штатском, пистоли под мышкой оттопыривали кафтаны. Бросились ощупывать сумку, хотели все высыпать на тротуар. Я засмеялся:
– Вы что, слив не видели? Красота и глупость – дар божий, только стоит ли глупость выставлять напоказ? А ну как напишут на вас донос и Директор признает, что не годитесь вы для такой службы? Кроме рвения надобно иметь и нюх, знать, кого обыскиваешь…
Я говорил шепотом, спокойно, и они начали извиняться. Их я не угостил сливами, чтоб не говорили после, будто пытался подкупить.
Ну и медленно тянулось время в тот осенний день! Как долго до встречи с товарищами! Низкое солнце еще пригревало, и в щелях стен самозабвенно звенели сверчки.
Решил заглянуть на погост – сейчас мне лучше с мертвыми время провести, чем с живыми. В тишине посижу на скамейке, подумаю о суете всего, за чем люди гонятся, что жаждут заполучить, чем завладеть… Я выбрал замшелую каменную плиту, сюда давно никто не заглядывал, не приводил могилку в порядок. Может, все поумирали? В такое место никто не придет неожиданно, не станет допрашивать, что мне здесь нужно, не приходился ли я коллегой их деду.
Между рыжими каштанами дремали памятники, бюсты генералов, вождей с гордо закинутой головой и зелеными усами плесени. А в этот день золотой березовый лист украсил их орденом осени.
Грустно клонились долу женские фигуры, младенцы с отбитыми крылышками тщетно пытались взлететь – их босые ножки вросли в камень, а плющ с листьями, словно вырезанными из кожи, обвил их и накрепко привязал к месту.
Порой теплый благоуханный ветерок с терпким запахом увядающей листвы, что пышным покровом укутала землю, будил ропот в кронах деревьев. Лопнула колючая кожурка, и пестрый каштан покатился к моим ногам, словно кто-то бросил его из укрытия, чтобы привлечь мое внимание.
И тогда прозвучал едва слышный зов трубы, далекий сигнал, я склонил голову, пытаясь уловить, откуда доносится звук – из-за стен, где искрится низкое солнце, или из-за розоватого облака, бросающего холодную тень?
Наконец я увидел: на военном барабане и перекрещенных стволах пушек стоит бронзовый капрал Марцин Типун, петух-герой. Отец Эпикура! Старый воин, отдавший жизнь за Виолинку…
Я привстал, взволнованный воспоминаниями. Значит, здесь у капрала символическая могила… Сюда приходили дети – могила усыпана букетами полевых цветов. Уволенный из армии, он не перестал быть солдатом. Спас два соседних государства от войны. Не играет ли он сегодня, в теплом дыхании ветра, тревогу? Сигнал чуть слышнее комариного звона? Не призывает ли он меня твердо идти тем путем, с которого потихоньку сошло столько людей ради собственной выгоды и барышей?
– Играй громче, капрал! – шепнул я. – Пора пробудить в сердцах блаблаков готовность к самопожертвованию! Пора напомнить великие деяния предков! Уверяю тебя, твой сын Эпикур – достойный тебя наследник!
В этот миг взорвалась разноголосица труб, мерно бил барабан – мелодия траурного марша огласила кладбище. Оркестр провожал умершего, по центральной аллее тянулась погребальная процессия. Блестели медные инструменты, музыканты шествовали, замирая на каждом шагу, словно на последнем.
Гроб несли на плечах, среди провожающих я узнал нескольких сыщиков. Неужели хоронят Директора? Я решился спросить, хоть и рисковал; ну да ладно, если меня кто узнает, скроюсь среди памятников, притаюсь в лабиринте аллеек, здесь меня не схватят.
В конце процессии шел один из тех, что обыскивали меня в последний раз, при упоминании о знакомстве с Директором он приветствовал меня как доброго приятеля.
– Кого хоронят?
– Да один советник получил взятку и дома один-одинешенек сожрал четверть теленка, лишь бы ни с кем не делиться, а телятина, впрочем превкусно приготовленная его женушкой, нафаршировала его так плотно, что выдавила душу вон… Провожаем только до ворот в стене, сегодня усиленный контроль. У тебя сегодня дел много, иди с ними на новое кладбище… Тебя не знают. Тебе проще, – просил он.
В замке скрежетал огромный ключ, заклацала цепь. Склонив головы, первыми вышли те, что несли гроб. За ними провожающие. Бульдог их внимательно пересчитывал. Оркестр задержали у выхода, оркестранты убирали инструменты в дерматиновые футляры. Сделалось совсем тихо.
– Считаешь тут, записываешь, все равно потом одного недосчитаешься.
– А кто задумал бежать? Покажи! Сей же час его за шкирку приволоку.
– Покойник.
Бульдог вздохнул с облегчением, даже криво усмехнулся шутке.
– Ты, зубоскал! – погрозил мне лапой, а я уже спускался по тесному проходу в стене в красный блеск заходящего солнца, словно погружался в разверстую пасть печи.
На пологом склоне разрасталось новое кладбище. Умершие не боялись остаться за стенами города, даже если б наступали враги. Вдали сквозь желтые кусты ракитника бодро мчала свои багряные воды самая большая река в Блаблации – Кошмарка.
От широко разлившихся вод; поросших камышом болотистых лугов несло запахом ила, тухлой рыбы и конской мяты. Я повертелся среди могил. Миновал яму, вокруг которой происходила похоронная церемония, и спустился к реке. Мне стало не по себе среди каменных ваз, огромных глыб, установленных на могилах, – семьи как будто опасались, не восстал бы покойник из мертвых, и для верности придавливали его непосильным бременем. Горожане и здесь кичились своей зажиточностью, соперничали друг с другом похвалами, высеченными на плитах, из кожи вон лезли, лишь бы затмить соседей.
ПРИМЕРКА К ТРОНУ
Я спускался по заросшей тропке, земля – черная лента – пружинила под ногами. Вышел к забору, заросшему упругими засеками ежевики. Тяжелые, темно-синие терпкие и сладкие ягоды так и просились в рот, я ловил их прямо губами. Я продирался в глубь колючих зарослей, пока неожиданно не натолкнулся на дыру в заборе. Доски держались на одном гвозде, открывался искусительный лаз, не смог я устоять, перелез и направил свои стопы к берегу Кошмарки.
Вода текла резво. Я расправил плечи, глубоко вздохнул – как хорошо на свободе! Удрал из города, где постоянно меня выслеживали, чтобы выдать акиимам. Какое великое облегчение, какой отдых! И тут мой нос уловил привычный запах догорающего дерева, в лозняке потрескивал огонь и, словно туман, низко стлался дым.
Меня разобрало любопытство; я осторожно ступал, нырял в просветы между ветвями переплетенного ракитника, перелезал через бревна с облупившейся корой, принесенные паводком и засыпанные ржавым песком. Остро и терпко пахли узкие листья, бесшумно осыпавшиеся при легком прикосновении. Вот я и у цели… Подростки сидели на корточках вокруг дымящего костра и палочками доставали из золы печеные картофелины. Перебрасывая картофелину из одной измазанной ладошки в другую и дуя на нее изо всех сил, ломали обугленную кожурку, а белую мякоть солили крупного помола солью из тряпочки. Я глотал слюнки и подползал на четвереньках к пирующим. Бедные горожане, думал я с жалостью, насколько же беднее ваша жизнь, если не знаете этого чудесного горячего запаха, бьющего от разломленной печеной картофелины, если никогда не обжигали себе рот, осторожно кусая хрустящую горечь, потому что нет никакого терпения дождаться, пока остынет.
Я подполз тихо, но они были настороже. Разбежались с криком, как стайка спугнутых воробьев.
– Деру, господа!
– Узелок, ноги в руки! Облава!
– В кусты!
Однако никто за ними не бежал, не преследовал, не угрожал, не пытался задержать. Недоверчиво подходили ближе.
Я устроился на корточках, разгреб золу и уплетал картофелину, обильно посыпанную солью, а дым, гонимый едва заметным ветерком с реки, вуалью обвился вокруг моей шеи. Даже глаза не щипало, ласкался по-кошачьи, вызывая воспоминания детства.
– Не бойтесь! Идите сюда! Я вовсе не хотел прервать ваше пиршество, просто очень уж я люблю печенную в золе картошку, чтобы смотреть со стороны, пока вы лопаете.
Успокоились. Убедил их и мой испачканный рот: я не походил на посланца чистюль, шпиона банщиков. И лапа, которую я им протянул, тоже служила порукой – грязная, обтертая о мокрый песок и сполоснутая в зеленой воде. Они протянули мне свои, не чище.
Мы в согласии вытаскивали последние картофелины, взамен я угостил их сливами. И сумка полегчала. Собрали еще хвороста, огонь выстрелил высоким пламенем.
– Печь картошку запрещено властями. Грязное занятие! – издевались они. – Как можно жить – и не испачкаться?
– Банщиков – в баню! – рявкнул веснушчатый. Нос у него усеян такими кляксами-веснушками, словно чихнул в полную чернильницу.
– Пускай занимаются ваннами, мылом и щеткой. Банщиков – в баню! Достойное для них занятие, ничего унизительного. Это у них все в голове перевернулось… Воображают себя самыми главными!
– Люди ворчали, когда разбазаривались общественные гроши, самое, дескать, время людей чистых рук ввести в королевский совет! А они все поняли дословно! Стали во главе обновления! – насмешничали парнишки.
– Ведь не о чистых руках речь шла – о чистоте сердца, совести! Хоть и плохо лежит, не воруй, не используй свое положение для себя и своей семейки. И ведь никакая стража ничего не убережет, самим надо… Править – это не только нос задирать да всяческими благами себя обеспечить, как думают многие.
– Да так и делают; оглядываются на других, как безнаказанно берут, хватают, выносят, – ворчал высокий парень. – О тех, наверху, даже слова такого грубого – воровство – нельзя сказать. Воруют только маленькие люди, которые внизу, и за это их, чтоб другим неповадно было, наказывают…
– Мы это понимаем и потому намалевали на стенах замка:
Сегодня закон под себя гребут,
а завтра их всех по закону турнут!
– Или еще такое, – добавил веснушчатый, от удовольствия колотя пятками по песку:
Кто других мучит,
по шее получит!
Я присматривался к парню – напоминал мне кого-то очень знакомого.
– У тебя случаем нет брата-близнеца?
– Есть. А как вы догадались?
– Да двое таких же веснушчатых сорванцов засыпали как-то в пушку котел клецок с маком, и это решило исход битвы…
– Это мы! Мы сыновья мастера иголки, старого Узла, поэтому нас прозвали Узелками. Моего брата дважды ловили банщики и хотели смыть веснушки, да не вышло… – оповестил он с гордостью. – У него тоже железный организм, от воды только ржавеет.
– Помнится, один ученый астроном влюблен был в свою веснушчатую невесту, так он утверждал, что мордашка без веснушек – как небо без звезд.
– Да уж, вся краса мухомора – в веснушках, – ядовито подсказали его приятели. – Да и божьи коровки…
– А индюшачьи яйца!
Все смеялись, и больше всех Узелок.
– А скажите-ка откровенно, почему вы против правительства банщиков, ведь настоящие-то заправилы акиимы? Мыться не самое страшное. Я сам слышал, акиимы повсюду трезвонили, все, дескать, для молодых – только бы слушались, шли по назначенному пути… Наука, работа, должности и посты, пусть самые высокие… Достойны молодые доверия – акиимы сегодня же готовы освободить им свои кресла…
– Э-э, все равно что Кошмарку кнутом повернуть вспять… Болтовня на ветер! Сегодня суббота, канун розыгрыша Большой Лотереи, Вечер Примерки! – фыркали сердито. – Вы пойдете с нами? Мы всю эту липу насквозь знаем, а все-таки пойдем, есть на что посмотреть.
– Одна очередь чего стоит! Все сокровенное из людей так и прет наружу! Истый цирк!
– Я с вами. Все, о чем говорите, чертовски интересно, вроде и знаю Блаблацию, а на каждом шагу спотыкаюсь…
Я пытался объяснить им, чем занимаюсь, как пишется хроника. Сопоставить события легко, но этого мало, хотя и очень важно; необходимо выяснить, почему история развернулась так, а не иначе, кто выпихивал актеров на сцену и дергал за веревочки, включал или гасил прожекторы, дабы направлять внимание толпы… И каков был расчет, потому что этот некто выигрывал там, где проигрывал весь народ.
– Больно уж все изменилось со времен войны с Тютюрлистаном. А ведь нам удалось ее вовремя предотвратить.
– Да, все переменилось, – хором признали парни.
– Мы тут все самые толковые. – Узелок с гордостью задрал нос. – Если уж следовать отцам, пусть никто нас не волочет в ошейнике. Мы не бульдоги!
– Только не говорите плохо о собаках! У них-то остались верность, умение любить, что люди совсем утратили.
– Любовь за миску жратвы по милости хозяина.
– За мозговую кость, – презрительно фыркнул Узелок.
– А я знал собак благородного сердца, они и в голод не ушли от хозяина, не оставили его. А насчет продаться… так из вас каждый может сделаться своим собственным Иудой, предать все, что вчера считал самым сокровенным, отречься от тех, кем восхищался, издеваться над теми, кого любил… И только в глубине своей совести знает, за сколько предал, сколь нищенскую получил плату.
– А это не про нас, – возмутились все разом.
Помолчали. Догорающий костер стрелял искрами, то и дело вспыхивал петушиный гребешок пламени, и лица отливали медью.
– Вы молоды, не знаете законов жизненного торжища, вам кажется, преодолеете любую преграду! В этом сила молодости, но сколь часто помыкают ею хитрые старики. По-отцовски приютят под своим крылом, опутают обещаниями, похвалами, молчать вынудят. Да, испытание еще ждет вас.
– А мы не из тех, кто бежит на первый свист, – начал Узелок. – Видали мы таких, уверенных в своих силах, – лезли на верх башни, на балкон, где заседал Совет банщиков, Людей Чистых Рук. Эпикур играл на трубе: „Молодых да проницательных – в Совет, а то смельчаков маловато!“
– Ну и что же, у смельчаков не было шансов?
– Было, чересчур много… Люди смотрели на них доброжелательно, напутствовали: „Парни, наверх! Скажите им, как тут внизу у нас обстоят дела. Правду, да без бюрократических манипуляций, заглушающих плач и отчаяние победными маршами!“
– А победы-то не было и нет! Нетути!
– Так вот, в Праздник Лестниц молодежь испытывает свои силы. Выставляются высокие, узкие связанные лестницы до самого балкона, где заседает Совет. Посмотришь вверх – голова кружится. Парни вызываются испытать свои силы под горячие аплодисменты. Только поставит такой смельчак ногу на первую ступеньку, сверху предупреждение: „Не с той ноги начинаешь! Смени ногу!“ Разницы никакой – смельчак уступает, вместо левой правую ставит на ступеньку. Сверху опять указание: „Да не с этой! Спятил, что ли? Смени ногу!“ Вот парень и топчется на месте, пока не истекает отведенное время, и уходит под всеобщий смех и свист. Так и приучили к послушанию. Всякую уверенность убили, дарованную молодостью. Подбегал другой – не упустить бы своего шанса… Не слушал указаний с балкона, смело лез наверх, все выше и выше по качающейся лестнице. Лицо сосредоточенное, смотрит только вверх, далеко ли до балюстрады, до пустых кресел в Совете для таких, как он, смельчаков. Толпа затаила дыхание. Сверху площадь будто вымощена головами. Только бы не упасть… Еще одно усилие, а ноги дрожат от напряжения. Парень, пока лезет, клянется: послужу тем, внизу, всеми своими знаниями, всеми силами, и это его окрыляет. Еще чуть-чуть – и конец…
И вдруг… вверх уходят две длинные жерди, а перекладины держит в охапке Директор, наклонясь над балюстрадой.
„Вот они, ступени, паренек, – у меня! От меня их можешь получить, заслужить послушанием, покорностью вымолить. Меня не перепрыгнешь, обо мне всегда помнить надо! Прими сие в расчет!“ Снизу не видно, как Директор грозит пальцем и отечески улыбается.
И смельчак, молодой, чуть постарше нас, слезает несолоно хлебавши, ступает наконец на землю, а она качается под ним, будто лестница. И стал смельчак уже не тот, каким был, когда так дерзко взбирался вперед и выше! Многому научили. Прикидывать, а может, и видеть, что да как. А раз начавши, рассчитывать… Предал нас, наше поколение.
Все примолкли, задумались.
– Неужели люди думающие заслуживают только осуждения? – Узелок обратил свой вопрос подернутому пеплом зареву, туманным водам Кошмарки, огромным кустам ивы и ракитника; их золотая листва в сумерках начинала светиться собственным светом и все шептала что-то неустанно, шептала, осыпаясь на высохшие лохмы водорослей, принесенных летним, на Ивана Купалу, паводком.
– Высоко замахнулся – с фигой вернулся. – Один из пареньков, смахнув тонкую струйку дыма, подсунул мне под нос кулак с большим пальцем между средним и указательным, кукиш, по распоряжению министра финансов тисненный на кожаных кружочках, заменивших золотые талеры королевства Блаблации.
Сделалось тихо-тихо, только плеснула большая рыба, схватившая ночную бабочку, привлеченную отражением огня в воде. В кустах на берегу потемнело, а на быстро исчезавший красный краешек солнца можно было смотреть не щурясь.
– Пора идти. – Я поднялся с остывшего песка.
Мы долго отмывали руки в склизкой воде, черпали ее пригоршнями и заливали уголья, притаившиеся под пеплом. Ребята провожали меня к столичной стене, спрямляя тропинки под ливнем листвы.
– Предпочитаю обойти караульных, – ворчал я, с трудом поспевая за Узелком. – Начнут спрашивать, откуда да куда. А мой последний адрес – камера в замковых подземельях, ожидал приговора.
– Какая статья? – со знанием дела спросил паренек.
– Заговор против властей. Нелегальный переход границы. Отравление колодцев, поджог города и еще парочка не столь важных преступлений.
– Могли схлопотать болташку.
– Мог, конечно. Люди на площади только и думали, как бы получить кусок веревки на счастье. Если завтра разыгрывается лотерея, понятно – веревка им на счастье понадобилась.
– А все же вас выпустили… Небось наобещали кой-чего, свалили вину на других и при свидетелях умыли руки, – с недоверием допрашивал парень, сожалея об откровенных разговорах.