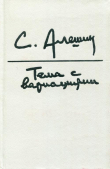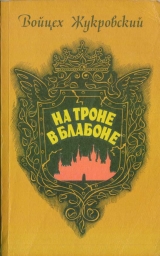
Текст книги "На троне в Блабоне"
Автор книги: Войцех Жукровский
Жанр:
Сказочная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Директор уселся за стол и, отослав бульдогов, начал допрос:
– Прошу отдать хронику. Охотно почитаю, познакомлюсь, чем обвиняемый занимался в последние дни, какие строил козни…
– Книги нет. – Я бессильно развел руками. – Потерял.
– Какая жалость! У нас в судебном архиве не потерялась бы ни в коем разе. Как можно – готовая документация к обвинительному заключению. Ибо суд назначен в ускоренном порядке и приговор вынесут быстрехонько, поверьте уж мне… Собственно, приговорчик уже вынесен.
– Болташка? – улыбнулся я безмятежно.
– Болташка, разумеется, болташка… Народ похлопает в ладошки. Четверть часика повисим, люди вдоволь налюбуются, а после за городскую стену вынесут, в парк для покойничков. Так-то. Закопали, заровняли… вот и нету паренька! – затянул он с издевкой.
– Все останется так, как записано в летописи, память истории мы завещаем нашим сыновьям и внукам; есть ли более ценное наследие?
– Отдай Книгу, – настырно зудел Директор. – Где ее укрыл? Пошлю, сейчас же принесут. К чему отягощать людскую память? История ничему не учит, она лишь непосильное бремя, наследственный груз давних неприязней и неразумных предубеждений. Мудрый человеческий организм быстро отринет все плохое из своего опыта и, напротив, присваивает и оберегает приятное, доброе… То бишь подтасовывает прошлое. Чтобы жить завтра, надо от прошлого требовать побольше добришка.
– Народ помнит, должен помнить…
– У народа куриная память. Каждые десять лет прошлое можно изгладить из памяти, как можно смыть написанное на доске мелом. Людишки хотят жить хорошо, но что такое хорошо – не знают. Побольше заработать, не работая, всласть пожрать и выпить, барахлом набить шкафы, как набиваешь утробу, наволочь всего – не упомнишь, что у тебя есть, а чего нету, а дом вещами захламить – ни пройти, ни проехать… Забить голову чужими мыслями – не осталось бы места собственным. Ясно? Тут уж не до хроники, не до истории! – язвил меня Директор; жирная физиономия кривилась презрительной гримасой.
– А народы все-таки хотят иметь собственную историю. Ведь любой человек хочет быть хорошего происхождения, иметь достойных предков.
– И что сие означает? Голубая кровь, связишки с королевским родом? А может, выгодней: дед, мол, землепашец, каменщик, кузнец с молотом в гербе, все зависит от эпохи… И другое случалось: кое-кто от собственных родителей отказывался, мать гостям за прислугу выдавал, не помешала бы карьере.
– Я записываю, дабы свидетельствовать правду, – огрызнулся я.
– Правду? – хихикнул он. – Каждый понимает ее по-своему – не как слышал, а как хотел слышать. И твою Книгу усечет на свой лад, абы повыгоднее, твою правду водой разбавит, зря ты за нее горой стоишь. И вообще много ль ты, чванливый ты человечишка, знаешь о том, что такое история? Записываешь только следствия, причин не усматриваешь. Да и откуда тебе знать, кто возвышает этих марионеток, называемых руководителями, кто разжигает в толпе доверие к ним, веру в то, что мудро поведут вперед? Откуда тебе знать, кто этим ничтожествам умеет привить столько высокомерия, что они сами верят в свое сезонное величие? Кто поставляет лозунги, кои после народ скандирует как программу поколения?
Видишь, сколько труда вкладываю, дабы породить сомнения в твоем сердце и напомнить: и ты можешь стать в ряды тех, кто делает историю. Жаль твоих способностей. Еще раз призываю: иди с нами. Напрасно упрямишься.
– Я верен.
– Кому? Королю, счастливому тем, что избавился от бремени короны? Насильно хотите нахлобучить ему корону на башку? Сделать несчастным? Неужели не понимаешь: верность для человека мыслящего – что ядро у ноги. Взгляды надо менять, как пьесы – с каждым новым сезоном, согласно моде. Так же и с историей – менять надобно согласно запросам момента.
– События не изменишь, что однажды случилось, пребудет в веках.
Директор глянул на меня, будто только что уразумел всю меру моего ослиного упрямства.
– События-то остаются, зато комментарии к ним меняются: можно выпотрошить смысл деяний, вывернуть на свет божий гнусную подкладку вчерашнего величия. И неожиданно все, что считалось добром, окажется злом – памятники исчезают по ночам, книги изымаются, их остерегаются пуще яда. Мы обязаны постоянно поправлять историю, благодаря нам она живехонька, а следовательно, то да сё в ней и подменить можно. Ты это прекрасно знаешь. Нет у блаблаков никакого наследственного опыта, каждый, пока не сунет палец в пламя свечи, не поверит, что пламя жжет.
Клячу истории, как сказал поэт, следует погонять так, чтобы не оставалось времени оглянуться назад и сообразить то, о чем в классе самые смышленые ученики всегда знают: „Мы это уже проходили и уверены, что и на сей раз это до добра не доведет!“ Потому-то и следует вырывать страницы истории и вклеивать новые – и нумерация вроде бы совпадает.
– Но остаются памятники героям, имена, высеченные в камне, хотя бы на кладбищах, – отчаянно настаивал я на своем. – А от имени – всего шаг до знакомства с житием героя, то есть до образца поведения в делании сегодняшней истории. Так используется пример героев, творивших историю прошлого.
– И ты, человече все-таки мыслящий, наивно полагаешь, что опыт героев окажется блаблакам полезен? И они не воспользуются этим опытом на свою погибель? Глупость – это сила, с коей каждый властитель вынужден считаться. Глупость точь-в-точь лавина, а лавину нередко вызывает несколько в нужное время сказанных простых слов, вроде бы всем понятных, вроде бы своих собственных… Ежели лавина двинулась, она повалит, раздавит и снова замрет в неподвижности. И не очень-то знает, куда мчалась. Может, к уничтожению построенного с таким трудом? Или к саморазрушению? Хочешь пример? Брось лозунг: равенство. Толпа подхватит его, ибо это шанс для всех недотеп, лентяев, явных дураков. Равенство погасит выдающихся, талантливых. Делить поровну всем, давать любому столько же вовсе не значит делить справедливо. Справедливо только неравенство. Посему предлагаю тебе в нем участие.
А что касается кладбищ… И покойники кочуют, и у них бывают стыдливые погребения и триумфальные возвращения. Камень крошится, процесс можно ускорить, поставить новый памятник, почти такой же, с мелкими переделками, которые смысл уже свершившейся жизни чуть-чуть подправят. Вот и снова хорошо. На некоторое время. Удалось прошлое подогнать к грядущему завтра.
А теперь скажи-ка мне быстренько: где спрятал хронику?
В его голосе зазвучала умоляющая нота – значит, правда, которой я завершил хронику, имела-таки для него особое значение.
Протоколистка лиса изящно склонила мордашку набок, выжидая, когда я сдамся, – ни звука не хотела упустить, зафиксировать все доказательства. Вдруг ее линялый хвост, украшенный выгоревшим бантом, предостерегающе поднялся, качнулся в одну сторону, в другую, словно за спиной Директора она подавала мне знак: нет! Не отдавай Книгу! В ней – твоя сила. Будь верен…
А чему быть верным? Проигранному делу королевства? Стать пожизненным стражем украденной Короны – никому не нужная, она будет висеть в домике садовника, в кухне между кастрюлей и решетом? А мои наспех набросанные записи событий на периодически подшиваемых страницах – сохранятся ли они, уцелеют ли? Помогут ли хоть кому-нибудь из поколения Узелков? Когда я сам уже замолкну навсегда, засвидетельствуют ли, поручатся запыхавшимися словами: да, именно так все и было? Меня одолели сомнения. Я видел Книгу под соломой, заваленную снегом, тлеющую в собачьей будке, охраняемую давно похороненной собакой, которую добрая старушка с пустым ошейником на поводке выводит на воображаемую прогулку. Возможно, она засеменит к кладбищенским воротам, посидит между черными туями и семейными надгробиями – здесь ей так покойно. С облегчением подумает о долгом отдыхе, о сне без пробуждения, а дрема в осеннем солнышке покажется ей предвестием этого сна.
– Нет у меня Книги, – вернулся я из далекого путешествия.
– Ну так подержим пана летописца в подземельице до тех пор, пока память не вернется. А не соизволите ли объяснить, что искали в моем кабинете?
Козлик много подслушал, еще больше донес, поэтому я не выдал тайны, ляпнув:
– Корону.
– Корона, этот важный залог, покоится в казне Банка Совета банщиков, прежнего банка королевства Блаблации. Ее надежно стерегут кровожадные блохи, бестии из цирка Финтино. Даже сам председатель банка, спускаясь в казну, берет с собой не только ключи, но и хлыст укротителя и даже пистоль. Жаль, вы не вломились туда. Остались бы от вас продырявленная кожа и дочиста обглоданные косточки. Составили бы протокольчик и отделались бы от вас раз и навсегда.
Мне вспомнился цыган Волдырь – смуглое лицо, грозный взгляд из-под насупленных бровей, спутанная черная борода – и эти его хищные блохи, тяжко прыгающие под ударами хлыста, усмирить их удавалось лишь выстрелами и долгим постом в ящике со стеклянной крышкой. Мне уже слышалось жадное чавканье, это Волдырь награждал их каплей крови за службу: делал себе надкол булавкой; вслед за тем раздавалось довольное чмоканье и сытое урчание.
Почему Директор заговорил о подземельях банка, уж не собирается ли нас туда пригласить? Новая ловушка? Благо к множеству обвинительных пунктов добавится еще один: „Разоблачение летописца-самозванца, оказавшегося международным медвежатником, глубоко ценимым в этой сфере профессионалом…“ Разумеется, на нас свалил бы ограбление казны, подмену почтенных золотых талеров кожаными кружочками…
– Председатель Волдырь еще не успел вас надуть? – любезно осведомился я. – Хоть он и носит фрак, в котором выступал на арене, у него душа бродяги, мошенника и обыкновенного прохвоста.
– Он клялся светлой памятью матери, славной гадалки, предсказавшей ему этот пост, еще когда был ребенком.
– Клятвопреступление, даже перед судом, его специальность… Его не раз нанимали лжесвидетельствовать.
– Пока что банк работает исправно, граждане с полным доверием приносят свое золото, а взамен получают кожаные кружки с тисненой печатью. За один талер – три фиги… Кроме того, выдаются долговые расписки, – терпеливо объяснял Директор. – Проценты растут, сам председатель ежегодно нули приписывает. Чем больше нулей, тем больше сумма, и он нулей не жалеет… А давай мы твою тяжелую, неудобную Книгу обменяем на удобненькую долговую расписку с круглым депозитом и четырьмя нулями? Ба, с пятью нулями, кругленькими, как изумленный глаз, – вот-де сколько набежало… Будешь каждый вечер расписочку сию после молитвы перечитывать, в радости, что богат и ничто тебе не угрожает, ибо денежки на совесть стерегут в банковском сейфе… И приумножаются они под мудрой опекой и чуткой охраной.
– Я не верю в магию денег. Мне много не надо. Впрочем, и продается далеко не все.
– Ошибаешься! Все! Люди – с их честью, – верность Родине, даже любовь, все, все…
– Разве что пса так можно купить. Только он, хоть и купленный за деньги, умеет любить и быть верным.
– Если никто не сманит кусочком колбасы, – фальшиво хихикнул Директор. – Ну так что же? Махнемся?
Он костяшками пальцев постукивал по столу. И вдруг пискливый голосок произнес:
– Войдите!
Мышик, утомленный переживаниями во время долгого разговора, попросту задремал в столе. И очнулся на стук. Бедный смельчак Мышик!
– Нет! – крикнул я изо всех сил. – Нет! – повторил, стиснув зубы. Я хотел разозлить его, чтобы сосредоточить все его внимание на себе. Ты, искуситель! Ты, слуга дьявола!
Директор сидел угрюмый, с каменным лицом, похоже, он принял окончательное решение. Долой вежливость, усилия, игру, рассчитанную на то, чтобы сбить обвиняемого с толку, использовать хотя бы минутную его слабость.
– Ты меня никак не задел. Дьявол правит на земле, и сие вне сомнений. Он не только хорошо платит, но и угождает кому надо, высоко возносит тех, кто ему служит. А вот ты кому подслуживаешься?
– Тому, кто сказал: „Царствие мое не от мира сего“.
– Легче всего обещать награду уже за черным порогом, после смерти: избежишь разочарований, не услышишь жалоб. Я предпочитаю расплачиваться здесь, сразу, при жизни, золотом или крупными наличными… Ты и понятия не имеешь, как восхитительно пахнет пачка свежих банкнотов! Как поют они под пальцами! Денежки можешь обменять на все, о чем мечтаешь! Купишь все, чего пожелаешь!
– Вот так человек становится слугой вещей – только и делает, что их оберегает, дрожит, не вломился бы вор, не унес, не украл, а вдруг пожар… За обладателем по пятам ходит страх, обладание отнимает свободу, становишься узником накопленных вещей. А ведь жизнь коротка – оглянуться не успеешь, как все окажется ненужным, все, что тебе было дорого, растащат и разбазарят те, кому ты столько раз отказывал… Не лучше ли раздавать заблаговременно? Знавали ли вы радость оттого, что одарили любимого человека? Без всякого расчета, без этой вашей широты по-аптекарски: сколько сегодня я тебе, столько завтра ты мне…
– Сказки для послушных деток. Такого просто не бывает. Обычно получивший думает: чего он от меня хочет, о чем хлопочет? Тут же и нахохлился… Окажись вдруг – ничего не хочет, другое замучает: это сколько же он имеет, если так транжирит, раздает? Делая добро, лишь сеем зависть и недоброжелательство. Лучше иметь для себя в укрытии, как хищник скрывает добычу в своем логовище. Истинная радость – обладать тем, чего у других нет и никогда не будет. Провозглашать себя слугой народа, тогда как народ верно служит тебе. Ничего ты об этом не знаешь, несчастный писака… Довольно учтивой болтовни. Не выпросим, так вытрясем.
Грузный и плотный, он поднялся неожиданно легко и дернул за подкову, подвешенную на проволоке; в коридоре расчирикался звонок. Мы молча слушали.
Двери распахнулись с треском, влетели бульдоги.
– Пан Директор, вызывали? Обвиняемый оказал сопротивление?
– Обыскать его!
У меня с плеча сорвали сумку, вывернули карманы. Фонарик, початая банка с коричневым содержимым, два пера, платок не первой свежести. Маленькая Мышикова рогатка и несколько туго скатанных трамвайных билетов – боеприпасы для рогатки. Было и несколько страниц текста, благо сочли, что в помятые бумажки завернута банка. Так их и оставили – прилипшими ко дну.
– Что в банке?
– Попробуйте. – Я подсунул им под нос желеобразное содержимое.
– Яд? Чтоб отравлять колодцы? – всполошился стражник.
Да, клевета принялась, пустила корни.
– Оставьте ему, – снисходительно разрешил Директор. – Бумагу и ручки тоже… Намарает чего-нибудь, всегда используем против него. Если это яд, у него есть выход, может бежать на тот свет. А коль непризванный предстанет пред господом, господь с ним рассчитается…
В его голосе сгустком клокотала ненависть, мне сделалось холодно. Какое новое испытание изобрели для меня? Он уже вознамерился отдать распоряжение, как вдруг в коридоре раздался выстрел, звон разбитого стекла, потом крики и топот. Кого-то ловили или от кого-то бежали?
– За мной! – крикнул Директор и бросился к дверям.
В коридоре темень, крики слышались наверху, на лестнице, а может, и с чердака. Бульдоги заходились от лая:
– Держи его! Держи! Держи!
Директор значительно глянул на Хитраску, она услужливо кивнула, последит-де за мной. Мы остались одни.
– Что ты здесь делаешь, Хитраска?
– Работаю. Всю свою жизнь я тяжко работала, – скромно прошептала она. – Вы узнали меня, а прошло столько лет…
– Ты совсем не изменилась… Пожалуй, глаза погрустнели.
Она протянула ко мне обе лапки, с чувством обняла. Ее узенькая мордочка потерлась о мою колючую, давно не бритую щеку. Зарыдала без слез. Шерстка пахла увядшей сиренью.
– Какие прекрасные были времена! Какие добрые люди! Сколько надежд, веры, что все удастся, исполнится…
Вдруг она оттолкнула меня и голосом гувернантки распорядилась:
– Ты должен бежать. Они тебя замучают!
– А ты? Что будет с тобой, Хитраска?
– За меня не беспокойся. Упаду в обморок! Я теперь научилась падать в обморок по мере надобности…
Она повесила мне на плечо сумку. Я хотел открыть окно.
– Не сюда! Потом открою, пущу погоню по ложному следу, уж побегают с фонарями по парку! Директор велит отстегать бульдогов за отсутствие бдительности!
– Нас видят! Донесут!
– Погасим свет! А теперь помоги мне!
Она возилась со столом, стараясь приподнять и отодвинуть. Я подбежал, толкнул изо всех сил. Погоня уже возвращалась.
Стол, как бы насаженный на ось, повернулся, открылся черный лаз, железные скобы постепенно исчезали во мраке.
– Быстрее! Немного спустишься, поддержи стол плечами, помоги задвинуть на место, – задыхалась она. Все-таки сказывался возраст уставшей от жизни Хитраски. – Это тайный ход для бегства самого Директора, он все предвидит… Ты молодец, не отдал Книгу! Они бы все подделали, нашпиговали ложью…
Понемногу, пыхтя от напряжения, я водворил стол на место. Перед самым моим носом топтались лапки в высоких сапожках на кнопках, я был бы не я, если бы перед уходом во мрак не погладил ее на прощание.
– Спасибо! Прощай, Хитраска…
И нагруженный бумагами стол, тяжелый, как жернов, мягко встал на свое место, закрыв потайной ход.
Я начал осторожно спускаться, нащупывая ногами ржавые железные скобы. До меня все еще доносились ее беспокойные наставления:
– Только не попадись! Будь осторожен! Осторожен!..
Она говорила еще что-то, но я уже не расслышал. Меня охватило чувство огромной благодарности. Почему она оказалась у Директора, ведь давно уже хозяйничала у старого каноника, где ей так славно жилось… Занавесочки на окнах, пеларгонии в зеленых горшочках, ежедневно птица на обед… Обеспеченная осень жизни… Я не знал лисы, которой бы так повезло.
В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ
Довольно ровная дорога успокаивала, ведь имеет же этот туннель выход, возможно, он ведет за оборонительные стены, на берег Кошмарки? Фонарик я погасил. Надо экономить свет. Чувствовал себя все увереннее, даже насвистывал от удовольствия – ха, удалось бежать.
Вдруг коридор оборвался, кирпичная дорожка под моими ногами исчезла, и я с отчаянным криком полетел вниз. Мгновение я удерживался за край, но пальцы разжались – за скользкие кирпичи невозможно зацепиться, – и я съехал в глубокий колодец. Пока поднялся, вытер ободранные колени, горсть гравия посыпалась мне на голову, словно кто-то прощался навсегда согласно погребальным обычаям.
Я на минуту включил фонарик. Стены отвесные, никакой надежды выбраться из ловушки. Колодец на дне немного расширялся, наклонные стены отталкивали. Фонарик едва светил, я попытался ощупать камни. Я находился в водосборнике, куда стекала вода из коридора, где кто-то потрудился убрать решетку, закрывавшую колодец. Рядом со мной из песка щерил зубы череп и, словно поблекшие стебли, торчали ребра того, кто упал сюда до меня, верно, несколько лет назад… Вот и ответ на вопрос: что со мной будет? Ничего особенного – как и мой предшественник, погибну, к облегчению многих. Может быть, тот бедняга оказался счастливее и сразу свернул себе шею, а не умирал долго голодной смертью.
Я сел на влажный песок, нанесенный водой. Обхватил руками колени. Затылком прислонился к холодным камням. Помощи ждать не приходилось. Обречен. Судьба должна свершиться, жаль, моя гибель минет бесследно. Ни то ни сё: жил, больше не живет.
Весь наш поход с самого начала показался мне обреченным на неудачу. Что может сделать горстка честных людей против организованного насилия, против хитрости акиимов, жестокости Директора, против армии бульдогов, вооруженной стражи, специальных отрядов у ворот и в замке, множества доносчиков, осведомителей, целого муравейника рьяных дураков, жадюг и маленьких иуд, свои доносы начинающих словами: „Считаю своим гражданским долгом сообщить, что…“
Много их, готовых, как гончие, идти по нашему следу, и даже не ради денег, а ради похвалы, одобрительной усмешки на узких губах вышестоящего, лишь бы подладиться. Хотя власти всегда презирают тех, кто готов продать все, и совесть в том числе.
А кто же такой Директор, если он и вправду стоит „во главе“? Возможно, над ним тоже есть кто-нибудь, а еще выше – другие, глубоко законспирированные, и я, не ведая всех взаимосвязей, доверялся им, строил предположения, развивал планы, мечтал? Они, нераспознанные, с достоинством восседают, окруженные всеобщим уважением, каковое подобает оказывать людям науки, экспертам, знатокам проблемы: как ускорить разложение королевства. Холодно взирают они на толпы, потрясаемые то отчаянием, гневом, то взрывом надежды, энтузиазма, слепой веры. И потирают руки в удовлетворении, что блаблаки сами себя хватают за горло, душат друг друга и рьяно трудятся над разрушением собственного государства.
Все здесь идет псу под хвост. Король обцирюлился. Королева, обычная кумушка, с соседками чешет языком, принцесса бездельничает, а не учится, свою жизнь хотела бы превратить в приключенческий роман, какие отдельными тетрадками продаются на ярмарках. Добряк Бухло давно забыл, зачем нужна пушка, и через жерло звездами любуется. Петух Эпикур с башни ратуши себе и небу кукарекает, трубит, трубит тревогу. А о безвозвратно уходящих днях никто не желает помнить. На бесполезные споры уходит время – единственная ценность, которой не выкупишь обратно, не вернешь бессмысленной спешкой, не отработаешь.
Только кот Мышебрат смело путешествует по крышам: некая черная кошечка у него в башке. О ней мечтает. Да, это уже не тот дерзкий батрак с мельницы, с мешком муки на спине вбегавший по крутой лестнице в амбар. А Мышик? Мне стало стыдно: спасаясь, я забыл о нем, оставил закрытым в столе нашего храброго Мышика! Если бы я о нем помнил… Взял бы с собой, освободил из ловушки. Он бежал бы впереди меня и предупредил вовремя – он прекрасно видит в темноте, чувствует несчастье. Позор! Даже теперь думаю о нем, а забочусь только о себе. Однажды Мышик уже выбрался из стола, может, и сейчас выберется? Спасется… Только для меня нет спасения, убивался я, горе мне, несчастному.
Сжавшись в комок, я впал в дрему, полную видений. Раз показалось, что слышу высоко над собой какой-то шепот, и даже несколько песчинок упало мне на лицо.
– На помощь! – крикнул я. – Смилуйтесь! Не дайте мне подохнуть в этой дыре!
Сверху никто не отозвался.
Напрасно я ругал их извергами, трусами, подлыми убийцами. Молчали. Верно, там, наверху, просто никого не было. Но где же выход? Я нащупал на дне углубление, разгреб песок руками, обнажилось отверстие не больше кулака, засыпанное костями скелета, о который я столько раз спотыкался, когда в отчаянии обтанцовывал дно колодца. Череп давал мне ответ: оставить надежду. Колодец оказался вместительной могилой, еще многих может принять.
Я мечтал только об одном: лестница! Если бы у меня была лестница… Рулон легких поперечин, обмотанных крепкой веревкой. На крышу замка мне удалось забраться по ней без труда, вылез бы и отсюда…
– Дайте мне лестницу! Пол жизни за лестницу! – выл я, кулаком ударяя в мокрые камни. А удары отдавались эхом – словно по грязной дороге прыгала лягушка.
И вдруг я услышал нарастающий грохот. Камни и песок сыпались на голову. Я втиснулся в углубление у самого дна колодца. Сверху с сухим треском, обиваясь о стены, упала моя вожделенная веревочная лестница! Ухнула в песок. Я тотчас нащупал ее, прижал к груди и… расплакался. Не могли унизить больнее! На кой черт мне лестница здесь, внизу, если веревку наверху никто не закрепил. Как я могу выбраться, ведь лестница издевательски лежит у моих ног, а наверху нет руки друга!
Я подложил свернутый рулон под голову и улегся в тупом забытьи, глотая соленую горечь слез. С небывалой ясностью размышлял о Книге. Поможет ли кому-нибудь обрести правду? Увидеть прошлое? Понять причины поражений и возродить надежду?
Нет, даже ценой жизни я не отдал бы Книгу в руки Директора для мелких, как уверял, поправок и дополнений. Холодный песок дрожью пронизывал тело. В широко открытых глазах мельтешила темнота. По-видимому, я уснул; когда проснулся и пошарил под головой, стряхивая с волос песок, лестницы уже не было. Вытянули наверх? Незаметно забрали обратно? И вдруг я понял: лестницы здесь никогда не было, просто я надеялся выбраться с ее помощью, вот и появился в горячечном сне мучительный кошмар.
Из задумчивости меня вывел плевок – попало на лоб. Я стер слюну тыльной стороной руки и заорал, подняв лицо:
– Свиньи! Дайте мне только выбраться, такого пинка получите…
И вытер глаз – снова попали сверху. Наконец до меня дошло: там, на земле, прошел осенний ливень, вода просочилась в подземный ход, на потолке стянулись крупные капли и падают на меня. А мне казалось: вон высунулись бульдожьи морды и с брыл на меня капает слюна. Клянусь, даже слышал сопение приплюснутых носов, вынюхивающих меня, а возможно, прислушивающихся, бьется ли сердце, потому что, будь судьба немного доброжелательнее, при падении я мог бы убиться сразу.
Я поправил сумку и нащупал закрытую банку. Достал и начал поглощать римское варенье. Какой вкус! Какая спелая сладость слив-венгерок, яблочного желе! Я наслаждался зернистыми дольками груш и долго сосал набухшие изюмины… После варенья почувствовал себя лучше. Дом в саду, столь часто посещаемый не только героями моего сказа, показался мне желанным прибежищем.
Аромат терпкого крепкого чая. Тихая музыка из Касиной комнаты, у нее-то, пожалуй, и громкая – через две закрытые двери так отчетливо слышу ритмы. Осторожно ступает пес, стучит когтями по паркету, вот он мягко плюхнулся на пол. Теплая тяжесть кудлатой морды на моей ноге. И ему, и мне очень необходимо это чувство единства, стада.
Видно, я громко звал его: все ближе голос дочки, нетерпеливый лай пса, словно не камень нас разделял, а закрытые двери комнаты, где я работаю.
– Он здесь! – нежно посапывал Мумик. – Здесь наверняка…
– Папа! Что с тобой? Почему сидишь в темноте?
Дочка погладила меня по лицу, пальцами ощутила влагу.
– Ты плакал? Вылезай из своей норы, сделай небольшой перерыв. Они подождут… Мамонтенок ужасно злится, что ты не спускаешься ужинать, я боюсь ей и на глаза попадаться…
И это был не сон. Это было спасение. Мумик поставил передние лапы мне на колени, лизнул теплым языком доверительно, выражая радость.
Каська с Мумиком появились в самое время: останься я дольше узником на дне каменного колодца в ожидании голодной смерти, я и вправду потерял бы сознание… Столь велика сила фантазии.
Я встал, поправил на плече ремень. Сумка на боку, ложка, всунутая в наполовину опростанную банку, звякала о края.
Как ноющая зубная боль, меня мучил вопрос: что дальше? Как выбраться, чтобы разыскать разобщенных облавой друзей… И я испугался, что Мумик и Каська вызовут меня надолго, выманят из подземелий королевского замка в Блабоне и я опять не скоро, очень не скоро смогу вернуться на реку Кошмарку в рощах Блаблации…
Я отстранил онемелых от удивления Касю и Мумика и на их глазах погрузился в темный, с затхлым воздухом подземный тоннель.
– За ним! – рвался Мумик. – Мы его еще догоним.
Умница Каська придержала пальцем за ошейник:
– Нельзя. Подождем, пока он сам нас не позовет. Ты же знаешь, он не выносит, когда ему мешают писать. Позовешь – и вспугнешь видение, слова-заклятия, которыми он оживляет своих героев. „Папа живет на пограничье двух миров, – говорит мама. – Никогда не известно, какой из них сегодня самый-самый настоящий, но важнее, скорей всего, тот, который ему одному принадлежит. Ты потерпи немного, он и нас введет в этот мир, всех им одарит“.
– А мне показалось, был так счастлив, когда мы ворвались, – упрямился пес.
– Похоже, мы ему и помогли… Но теперь надо оставить в покое. Это уж я знаю.
И Кася тихонечко закрыла дверь в комнату, где столько вечеров я провел, сгорбившись над пишущей машинкой.
– Его уже нет, отправился далеко-далеко. Пойдем, Мумик.
– Нет, он там, – упирался пес, доверяя своему носу. – Не слышишь разве, как стучат клавиши?
– Даже мыши знают: как раз тогда его и нету – и резвятся по всей комнате, а ты до сих пор веришь только тому, что есть на самом деле, что видишь и слышишь! Да, все это трудно понять такому простодушному псу, как ты, Мумичек!
Я не отзывался, притаился, за спиной открывался вход. Снова я в тесном тоннеле, со стен стекала влага.
Я напрягал слух, опасаясь встречи с облавой, но слышался лишь мерный плеск капель. Открытый сток, страшный колодец-ловушка, к счастью, остался позади.
– Не добра от худа ждать, – повторил я любимую поговорку петуха капрала Типуна.
Двигался медленно, нащупывая каждый шаг – что, если на выходе из подземелья подстерегает новая западня?
Передо мной маячило светлое пятно. Я сперва думал, померещилось, как вдруг путь мне перегородила дверь, обитая шероховатой от ржавчины толстой жестью. Из небольшого зазора сочился дневной свет. Я затаил дыхание и, как мне казалось, шевелился тихонько, словно мышка.
Подземный коридор кончался маленькой, странных очертаний комнаткой, я разглядел скамью, березовые метлы на крепких жердях, ивовые корзины и большую лопату – небольшой подручный склад под каменной винтовой лестницей. Наконец донеслись до меня и человеческие голоса, невнятное бормотанье, прерываемое зевотой.
Осторожно отковыривая пласты ржавчины, я увеличил дыру. Пнуть бы посильнее, отвалится целый кусок изъеденной влагой жести. Нечего ждать. Коленом я прогнул низ дверцы, жесть рвалась, как размокший картон. На четвереньках пролез в каморку. Корзиной прикрыл дыру. Схватил метлу и поволок за собой вторую корзину, через вытоптанный каменный порог перешагнул на улицу.
Я оказался в переулке, рядом с блабонскими воротами в оборонительной стене. Страж в шлеме и кольчуге дремал, опираясь на алебарду. Красное зарево бросало скользящий отблеск на выщербленные стены и верхушки деревьев, качающиеся на осеннем ветру и осыпающие листву. После грибной затхлости подземелья ветерок с Кошмарки одурял свежестью, я закрыл глаза и глубоко дышал.
– Эй! Рыжий! – крикнул стражник. – Убери здесь, листьев навалило и полно лошадиных яблок. Давно тебя поймали?
– Вечером, – бросил я небрежно и начал изо всех сил пылить, царапая булыжник метлой.
– Ты, рыжий! – поучал сонно стражник. – Мести надо по ветру, а не против, это же работа для дурака…
– Ладно, ладно… А я что делаю?
Рыжий – это я, благодаря мастерству бывшего короля. Открытые ворота так и манили. Я выглянул из ворот – дорога к березовым рощам и встревоженным осинам, а дальше темная зелень бора. Небо порозовело на утренней заре. Перистые облака на голубом небе предвещали ветреную погоду – добрый день для мельников, которые, покряхтывая, уже пускали свои ветряные мельницы, закрепляли брусом.
Я собрал мусор в корзину, забросил за спину – рукой удалось немного заслонить лицо – и направился мимо стражника. План простой: мести и постепенно удаляться от него, пока не окажусь за углом. А там только меня и видели.