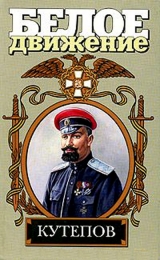
Текст книги "Мираж"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
За лесом громыхнуло с такой силой, что тряхнуло избу, задребезжали стекла. Ещё не начал затихать первый гром, как земля сотряслась от нового взрыва, ещё более сильного. Гроза уже не затихала. Загудели зуммеры полевых телефонов, доносивших срочные сообщения с передовой.
– Всё выяснилось, – сказал Кутепов. – Латыши начали наступление.
15 октября красные войска взяли Кромы. Один батальон дроздовцев был полностью уничтожен. Кутепов собрал в Орле в штабе корпуса совещание. Полковник Скоблин предложил свой план: поскольку свежие красные войска наступают на левый фланг из района Брянск—Карачев, а правый фланг корпуса и Орел находятся в безопасности, собрать все части в кулак и разбить войска красных в районе Кромы. Фронт правого фланга можно растянуть.
Скоблин говорил спокойно, внешне нисколько не переживая за судьбу своего плана – хотите берите, хотите нет, – обводил взглядом присутствующих, но по этому взгляду чувствовалось, что мысли полковника обращены куда-то вглубь его стратегических предложений. На командира корпуса он смотрел так же рассеянно, не выражая просьбы о поддержке, не пытаясь быть особенно убедительным, знал, что его план единственно правильный и должен быть принят. Так нет же!
– Я не могу оголить правый фланг корпуса и оставить без защиты Орел, – сказал Кутепов. – На Кромы, Николай Владимирович, для выполнения своего плана направьте только 2-й полк.
Скоблин молча кивнул и опустил взгляд – опасался, что Кутепов заметит с трудом скрываемое профессиональное презрение. Разве можно мельчить войска в такой обстановке и не предпринимать решительных действий?
– Я переношу свой штаб в Курск, – продолжал Кутепов. – Штаб Корниловской дивизии остаётся здесь.
20 октября полковник Скоблин своей властью приказал оставить Орел.
В штабе корпуса Кутепов собрал совещание большинства офицеров – всех, кто оказался поблизости и не был занят службой.
На большой карте на стене – в центре Москва. Чуть южнее, совсем недалеко, всего 300 километров – Орел. Здесь остановилась чёрная стрела кутеповского корпуса. На её пути к Москве несколько разрозненных красных кружков разбитых красных войск. Слева от Карачева большие жирные красные стрелы, впивающиеся в бок 1-го корпуса.
Генерал кратко охарактеризовал обстановку и попросил высказаться всех желающих, начиная с младших офицеров. Сразу поднялся штабс-капитан Яскевич, это был уже не прежний мальчик, а опытный офицер, но говорил он, волнуясь:
– Моё мнение таково. Прежде всего надо приказать всем штабам выйти из вагонов, а свои обозы, больных и раненых отправить как можно дальше в тыл. Затем собрать в один кулак все наши полки и обрушиться ими на Латышскую дивизию. Латыши уже сильно потрёпаны корниловцами, и 1-й корпус без сомнения уничтожит всю Латышскую дивизию. Все остальные советские полки будут потом не страшны. Мы снова возьмём Орел, и, не задерживаясь в нём, нам надо будет идти быстрым маршем на Москву. За Орлом, кроме только что мобилизованных частей, мы никого не встретим и Москву возьмём. Это произведёт сильнейшее впечатление на все красные армии. Карты большевиков будут спутаны, советские войска потеряют управление. Наверняка кавалерия Будённого будет громить наши тылы, но с нею быстро случится то же, что было с казаками Мамонтова, – обозы разбухнут от награбленного добра, и весь её порыв спадёт. Удар Будённого по Харькову был бы даже полезен для тыла, многим поневоле пришлось бы взяться за винтовки...
– Штаб армии никогда не согласится с вашим планом, – прервал Яскевича Кутепов.
– Об этой операции надо только предупредить штаб армии, а потом немедленно оборвать с ним всю связь...
– Это предложение обсуждаться не будет, – сказал Кутепов.
Выслушав другие выступления, он принял решение:
– Корпус наступает на Орел и на Кромы.
Капитан Дымников не только не выступал, но и почти не слушал. Все кровавые месяцы Гражданской войны, начиная с января 18-го, он видел себя участником большого дела и чувствовал, что его собственные поступки, его поведение в бою влияют на ход дела. Последние же дни им овладела апатия. Он сравнивал себя с гонимым на убой, сражающимся неизвестно за что подневольным рабом-воином, ощущал себя щепкой, швыряемой волнами истории... Это, кажется, из Толстого.
В конце осеннего дня вдруг выглянуло солнце, захотелось окунуться в его скудные лучи, и после совещания многие офицеры стояли на улице, продолжая спорить. Большая группа столпилась вокруг Яскевича. Одни его поддерживали, другие обвиняли в мальчишестве.
– Вспомните март 1814-го, – отбивался Яскевич, – гениальное решение союзников идти на Париж! В этом не было военной необходимости. Даже была опасность – Бонапарт мог ударить во фланг. Но они взяли Париж, и кампания была окончена.
– Позвольте, но там же было превосходство сил, – возразил кто-то.
– Но там же был великий полководец! – возразил Яскевич. – А нам предлагают контрнаступление в расходящихся направлениях, что осуждается в любом учебнике.
– Нам не предлагают, а приказывают.
– Тем хуже.
– Дымников с трудом вытащил штабс-капитана из толпы спорщиков.
– Пойдёмте, Виктор, выпьем – на рассвете мне выступать на Кромы, на «расходящееся направление». Донесут Кутепову, что вы его носом в учебник тычете.
Последующие несколько часов, почти сутки, оказались расколотыми на несколько совершенно разных кусков-эпизодов, но всё было соединено тонким, но крепким как сталь, вросшим в организм ещё в юнкерские времена, особенным нервом: исполнение офицерского долга. Время выхода батареи, маршрут движения, конечная цель, боевая задача – всё это он помнил в любом состоянии. Не помехой были и обстоятельства этой ночи, начавшейся тем, что в каком-то грязном подъезде Яскевич прикрывал его операцию по доставанию английских фунтов из специального пояса-подсумка. Раскололось не только время, но и сам Леонтий, его сознание, его представление о себе. В том же подъезде он некоторое время думал, что лучше достать из-под шинели – деньги или наган, чтобы застрелить человека, с которым спала Марыся.
Потом в подвале у какого-то армянина, где на столиках лежали горы свежих яблок, пили настоящий французский коньяк. И Леонтий раскалывал, разламывал себя, как яблоко для закуски.
– Рассказывай, Витя, про мадам Крайскую. Как ты с ней?
С неприлично острым интересом слушал:
– Она сказала: «Жарко. Раздень же меня...» А у неё, знаете, такое прекрасное тонкое голубое бельё.
Дымников слушал и мысленно называл себя извращенцем, сумасшедшим декадентом, начитавшимся Вербицкой и Арцыбашева...
Но помнил точно, что армянин ходил за бутылкой три раза.
И как-то без перехода вдруг оказался перед своей батареей верхом на любимом Стане. Рядом ехал заместитель командира батареи штабс-капитан Воронцов, он смотрел на Леонтия с удивлением и некоторым восхищением.
– Когда вы явились на рассвете, я растерялся, – говорил Воронцов. – Вы никого и ничего не видели. На меня, как на столб, натолкнулись и пошли дальше. И вдруг ровно в шесть ноль-ноль выходите и начинаете командовать.
– Офицерская привычка командовать, – сказал Леонтий, а сам чуть ли не с ужасом подумал, что только сейчас проснулся.
Шёл первый, ещё ненастоящий снег, щекотал лицо и шею, таял на дороге. Ехали по невысокому сосновому лесу. Стрельба доносилась откуда-то издалека.
– До огневой позиции ещё вёрст пять, – сказал Воронцов. – Я сейчас по карте смотрел.
Слева от дороги лес начал редеть, вдруг открылась большая поляна, а по ней скакали всадники с красными звёздами на шлемах. И вновь сработал тот особенный нерв – Дымников ещё не совсем понял, что происходит, но уже командовал: «Стой! С передков! Хобота налево! Картечью беглый огонь!»
В передке каждого орудия 16 шрапнелей с установкой трубки «на картечь» – это значит, что снаряд взрывается в 15 метрах от орудия, а гроздья огня и железа бьют врага прямо в лицо.
Израсходовали всего снарядов 5—7, и бой закончился. Оказывается, красных преследовал кавалерийский отряд дроздовцев. Теперь на серой гнилой хвое, припорошённой снегом, лежали убитые красноармейцы, а дроздовский ротмистр в бараньей папахе, сдвинутой чуть не на ухо, с развевающимся рыжим вихром, допрашивал пленных.
– Ты кто? – спрашивал он человека в шинели, украшенной нагрудными и нарукавными нашивками. – Комиссар, сволочь?
– Я командир 9-го кавалерийского полка Брусилов.
– О-о! Родственник?
– Я сын генерала Брусилова, На большой войне я служил офицером в лейб-гвардии. Я не согласен с отцом и сейчас ехал, чтобы перейти к вам.
– Ах ты, сучёнок! Сын предателя, сам предатель, а теперь ещё и своих красных предаёшь. Ты три раза должен умереть, и я тебе это устрою.
Ротмистр привычным движением выхватил шашку, и запорхали над его головой узкие длинные серебристые крылья смерти.
Дымников подошёл к ротмистру и сказал осторожно:
– Может быть, этот пленный пригодится в штабе корпуса?
– В корпус? – удивился ротмистр. – Дав корпусе Кутепов его в один момент сам расстреляет без всяких допросов. Ты спроси, сколько моих людей вчера полк этого Брусилова погубил.
– Но это же война, – сказал сын генерала.
– Война? – с усмешкой переспросил ротмистр. – Это не война, а гражданская война, и я тебе сейчас покажу, какая она есть.
Взмах шашки – и шлёпнулась в таявший на глазах снег отрубленная рука Брусилова. Ещё взмах – густые брызги крови на шинели, на искажённом кричащем лице пленного, на земле вокруг. Он упал, но пытался ползти, из последних сил скрёб ногами, и ротмистр добивал его лежачего и кричал: «Всех их так!» Засверкали лезвия шашек, брызнула новая кровь, отчаянно закричали обречённые, возмущённо ржали лошади, почуявшие запах смерти.
Дымников повёл батарею дальше. Снег перестал подбелить дорогу, утих ветер, стреляли впереди не очень далеко, но и не очень интенсивно – видно, не бой, а перестрелка.
– Нас ожидают, – сказал Дымников.
– Думаете, Кутепов не расстрелял бы Брусилова? – спросил Воронцов, ехавший рядом, и сам же и ответил: – Скорее всего, расстрелял бы. Вы знаете, что на днях взяли в плен помощника командующего 13-й армией Станкевича и расстреляли?
Впереди загрохотала артиллерия, пока не густо, но слышны были близко и выстрелы, и разрывы. Снаряды рвались километрах в двух.
– Не дождались, – констатировал равнодушно Дымников.
Одновременно с его словами вверху прозвучало зловещее шуршание, сзади грянул сокрушительный взрыв. Полетели сверху комья земли, части разбитого передка, куски человеческих тел. Кричали раненые, дико ржали лошади. Дымников и Воронцов соскочили с коней, увидели страшные результаты прямого попадания снаряда в упряжку четвёртого орудия. На земле барахтались изуродованные лошади, пытавшиеся вырваться из постромок. Вот одна поднялась, было, но у неё вместо задних ног струи крови, и она упала с диким ржанием. Поручика Арефьева разнесло на куски, голова лежала на дороге – по ней и узнали. Ездовые были убиты, некоторые номера расчёта ранены. Второй снаряд упал шагах в пятнадцати от дороги, ближе ко второму орудию, и вновь разорванные лошади, крики раненых, перевёрнутая пушка...
– С закрытой с наблюдателем, – сказал Дымников. – Высоких деревьев полно. Разбегаться надо – ещё будут выстрелы. Батарея в укрытие, 100 шагов от дороги!..
Его команда совпала с третьим снарядом...
Ещё несколько разрывов, и на дороге остались только обломки передков и зарядных ящиков, разбитые орудия, трупы. У всех четырёх пушек искорёжены и стволы и затворы – батарея больше не существует. Солдаты ловили разбежавшихся лошадей.
– Без орудий нам на передовой нечего делать, – сказал Дымников. – Собираем раненых, устраиваем их на оставшиеся зарядные ящики, на лошадей и двигаемся по направлению к Курску.
Наступление красных продолжалось. В этот день интенсивность их огня была такой, что плавились стволы пулемётов. 3-й Марковский полк стоял насмерть, обороняя Кромы, – здесь сражались только офицеры. Из штаба корпуса приехали Ермолин и Соболь с личной благодарностью Кутепова. Привезли бочку спирта. Ещё до рассвета все были почти без сознания. В это время красные и начали атаку. Два батальона марковцев были разгромлены полностью. Многих, допившихся до бесчувствия, резали, как свиней. Так умерли и Ермолин, и Соболь. Уцелевшие бежали, оставив Кромы.
20 октября Будённый взял Воронеж.
Скоблин докладывал: «За трое суток Корниловская дивизия потеряла треть своего состава».
1919. НОЯБРЬ
Яскевич так и не успел сформулировать для себя, была ли это его первая и роковая ошибка в военной разведке или надо употребить выражение Дымникова – мираж. Он пытался убедить Кутепова, что красные обязательно будут атаковать самое слабое место корпуса – стык между Корниловской и Дроздовской дивизиями.
– Зачем они полезут в лоб, если Будённый имеет успех на фланге?
– Затем, Александр Павлович, что стык – самое слабое место, и его надо атаковать.
– Интуиция? Теория? Чёрт вас знает. Хорошо. Я предостерегу командиров дивизий, а вы лично поедете туда и установите точное расположение красных войск в этом районе. Вы это умеете.
Снег ещё не выпал, и ночная темь поднималась с корявой замороженной земли, пронизывая всё острым холодом. Капитан Чижов, командир роты, занимавшей самый левый фланг корниловской дивизии, повёл Яскевича на передовую около полуночи. Чижов совсем недавно получил повышение и продолжал служить старательно – ведь на Великой войне он был подполковником. Вот и человеку из штаба надо угодить, хотя бросать тёплую избу и лезть в поле не было никакого смысла – разведка, посланная капитаном, до утра не вернётся, а на передовой ночью ничего не может произойти – красных близко нет. За целый день ни одного не видели.
– Кто идёт? – окликали их посты боевого охранения. – Пароль.
– Корнилов. Отзыв.
– Москва. Проходите.
Вышли на самую что ни на есть передовую. Ближайший пост охранения шагах в тридцати искрил махоркой.
– Неужели никаких следов красных? – удивлялся Яскевич.
– Никаких. Даже выстрелов не слышно. Только дальние.
Посидели минут 15, и чёрный мрак впереди превратился в опушку леса с выемкой – наверное, дорога или просека. Поднялся ветер, зашумели тревожно вершины деревьев, и вдруг с порывом ветра донёсся лишний звук, мягкий, густой, распадающийся на удары, приближающийся.
– Кавалерия! – испуганно сказал Чижов. – Чья?
– Здесь может быть только красная кавалерия. Надо объявлять тревогу.
Но кони ржали уже близко, на опушке появились всадники в белых папахах и белых полушубках, на плечах погоны.
– Стой! – закричал Чижов. – Пароль или дам из пулемёта.
– Да вы что, господа? Я командир 7-го эскадрона конницы генерала Шкуро. Нам приказано прибыть в распоряжение Кутепова.
– Командир с документами подъезжайте, – крикнул Чижов. – Боевое охранение ко мне.
Командир подъехал с большой свитой. Глаза, привыкшие к темноте, уже различали красавца командира в папахе набекрень и ловко сидящем на нём полушубке, и коня, что так и рвётся вперёд. Командир хитро улыбался, глядя на растерянного Яскевича, который думал о том, что только красные могут быть здесь, и никак не мог поверить, что впервые ошибся... Правда, для размышлений отвели ему времени слишком мало – красавец командир рубанул его шашкой, и ледяное лезвие смерти скользнуло по шее и плечу.
Капитан Чижов уже лежал рассечённый шашкой другого кавалериста. Падало под беспощадными ударами боевое охранение...
Так начался знаменитый рейд полуторатысячной «червоно-казачьей» группы Виталия Примакова[43]43
Примаков Виталий Маркович (1897—1937) – военачальник, комкор. В Гражданскую войну командовал кавалерийской бригадой, дивизией и конным корпусом Червонного казачества.
[Закрыть], прошедшей 120 вёрст, разгромившей кутеповские тылы и склады, взорвавшей железную дорогу.
6 ноября примаковцы разбили 3-й полк Корниловской дивизии, 7 ноября – 2-й полк и остатки 3-го, 19 ноября – 3-й полк и кавалерию дроздовцев. «Червонные казаки» окружили кавалеристов и рубили их шашками, на одного дроздовца пришлось примерно трое казаков. Рыжий ротмистр, недавно расправившийся с Брусиловым, выхватил наган, но выстрелил не в приближающихся к нему с шашками наготове примаковцев, а в себя. И защёлкали револьверные выстрелы – офицеры предпочли самоубийство.
Когда в штаб Май-Маевского в Харьков приехал Шкуро, перед генералом лежали донесения Кутепова:
«Под натиском превосходящих сил противника наши части отходят на всех направлениях. Корниловцы выдержали в течение дня семь яростных штыковых атак красных. Появились новые части противника, преимущественно латыши и китайцы. Численность появившегося противника установить не удалось. Потери с нашей стороны достигают восьмидесяти процентов».
«Под натиском превосходящих сил противника наши части продолжают отход. В некоторых полках Корниловской и Дроздовской дивизий осталось по двести штыков. Остатки Корниловской дивизии сосредоточились севернее Курска. Крестьяне относятся враждебно. В тылу происходят восстания».
– Опоздала писулька, – сказал Шкуро. – 18-го Курск взяли красные.
– Я всегда утверждал, что нам для победы необходимы два условия: земельная реформа и поголовные расстрелы Мародёров. Меня не слушали. А теперь невозможно удержать красную лаву, опьянённую победой над Колчаком.
– Брось, отец, эту лавочку! Поедем в Италию. Всё равно здесь ты уже не спасёшь положения. Денежки-то у тебя есть? А то я тебе дам. У меня, знаешь; двадцать миллиончиков. На жизнь хватит.
– Оставь, Андрюша, глупости. Я всё-таки попытаюсь выровнять фронт и хотя бы на время остановить наступление красных.
– Теперь уже поздно. Надо было раньше выравнивать. Сиди, думай, а я в Ставку, а оттуда прямо в Италию. До свиданья, отец. Не поминай лихом.
Шкуро ушёл, но командующему недолго удалось поразмышлять над картой фронта: вошёл озабоченный адъютант Макаров.
– Что случилось, Павел Васильевич?
– Прибыл капитан из Ставки с пакетом. Сказал, что ему приказано вручить пакет лично вам.
– Давай сюда этого капитана.
Май-Маевский распечатал пакет и прочитал:
«Дорогой Владимир Зенонович, мне грустно писать это письмо, переживая памятью вашу героическую борьбу по удержанию Донецкого бассейна и взятие городов: Екатеринослава, Полтавы, Харькова, Киева, Курска, Орла.
Последние события показали: в этой войне играет главную роль конница. Поэтому я решил: части барона Врангеля перебросить на ваш фронт, подчинив ему Добровольческую армию, вас же отозвать в моё распоряжение. Я твёрдо уверен, от этого будет полный успех в дальнейшей борьбе с красными. Родина требует этого, и я надеюсь, что вы не пойдёте против неё. С искренним уважением к вам – Антон Деникин».
– Я этого давно ждал, – сказал генерал. – Писать в Ставку не нужно: я буду раньше, чем дойдёт ответ. Прикажите, Павел Васильевич, выделить из состава поезда мой вагон и приготовить паровоз.
Уже в сумерках, часа за два до отъезда Макарова нашёл в штабе Дымников. Адъютант бывшего командующего озабоченно перебирал бумаги, вытащенные из ящиков стола.
– Ищешь исторически значимые документы для будущих музеев? – спросил Леонтий капитана.
– Для музеев без нас найдут, для тюрьмы бы не нашли. Боюсь, что сюда могли попасть документы по складам и по отправке грузов. Вот один, – сказал Макаров удовлетворённо, – с подписью генерала: эшелон спирта в Крым. Это я ему подсунул пьяному. Хорошо тогда заработали.
– А у меня, Паша, денег нет. Только книжка Лондонского банка. Ты, помнится, тогда не стал эти чеки брать.
– Потому и не стал, что ходил бы теперь с такой же книжкой без гроша. А твоё золото?
– Золото у Марыси, а она... Наверное, навсегда разошлись.
– Значит, цель твоей жизни – Лондон. Я тебе пока фунтов сто выделю. Или николаевскими?
– Давай лучше валюту. А ты в Лондон разве не собираешься? Наверное, и генерал сейчас уедет.
– Тут бабы такую драму устроили. Анна Петровна уговаривала Зеноныча насчёт женитьбы, но ему нынче не до того. Он, как Наполеон, на Святую Елену собирается. А Катя на меня такую атаку вела! Едем за границу – и всё. У неё там капитал в банке, сестра замужем за англичанином-миллионером. Купим виллу и всё такое...
– Ат ы?
– У нас с братом другие планы.
– Секретно?
– Особой важности. Скоро узнаешь.
– А какой ужасный стал Харьков. Дождь, туман, на улицах одни раненые и нищие. А помнишь лето? Цветы, музыка, женщины, «Вперёд на Москву». Был мираж и растаял, – спокойно сказал Дымников.
Ещё не доехали до Таганрога, до Ставки, а капитан Макаров шепнул старшему брату:
– Полный порядок, Володя: я уговорил его – мы едем в Севастополь.
– За веб время службы Деникин никогда не принимал Май-Маевского так сердечно и дружески, как в день прощания.
– Владимир Зенонович, – говорил он, – мне неприятно было отзывать вас. Я долго не решался... У меня была мысль подчинить вам Врангеля. Но вы поймёте меня. Я это сделал в интересах нашего общего дела. Вам необходимо немного отдохнуть, а тогда снова приметесь за работу, мы снова будем вместе бороться за Великую Россию...
Они беседовали в уютной комнате отдыха. В дверь поскучал адъютант и доложил, что Главнокомандующего срочно просит Кутепов с фронта. Деникин извинился и вышел. Кутепов звонил из Харькова.
– Ваше превосходительство, – говорил он резко и требовательно. – Мне поручено оборонять Харьков, но в городе нет порядка. Дезертиры, мародёры. Прошу дать мне чрезвычайные полномочия по наведению порядка в городе вплоть до применения смертной казни на месте.
– Вы получили эти полномочия, – сказал Деникин, записывая что-то на календаре. – Вы знаете о замене Май-Маевского Врангелем?
– Знаю, Антон Иванович. Знаю и одобряю.
– Скажите, Александр Павлович, вы знали о... о безобразиях, которыми сопровождалась деятельность генерала Май-Маевского? О его запоях? О дискредитации армии и власти?
– Конечно, знал, Антон Иванович.
– Почему же вы не поставили меня в известность об этом во имя дела и боевого содружества?
– Вы могли бы подумать, что я наговариваю на командующего, чтобы самому сесть на его место.
– Александр Павлович, я всегда считал вас одним из самых порядочных офицеров нашей армии и теперь ещё раз в этом убедился.
В комнате отдыха разговор с Май-Маевским был продолжен. Говорили о тяжёлом положении на фронте, о предательском поведении Польши.
– Представляете, Владимир Зенонович, после стольких совещаний с польской миссией, после долгих детальных обсуждений Карницкий вдруг пишет в газете: «Что касается отношений к Добровольческой армии, то помощь в виде энергичной борьбы с русским большевизмом с удовольствием будет дана правительством, но за ней до сих пор к Польше не обращались».
– Возмутительно! – согласился Май-Маевский.
– А когда я напрямую спросил его, почему бездействуют польские войска на фронте против красных, он стал такое говорить... Будто бы в Варшаве считают, что я не признаю независимости Польши, что я не имею полномочий от Колчака...
В конце беседы решился вопрос о будущей жизни Май-Маевского:
– Антон Иванович, разрешите мне выехать в Севастополь, где я буду жить. А также, если возможно, прикомандируйте ко мне временно моего адъютанта и двух ординарцев.
– Пожалуйста, пожалуйста, с полным содержанием.
Вечером возбуждённый разговорами о предательстве поляков Деникин решил написать письмо лично Начальнику Польского государства Пилсудскому:
«Встретив некогда с чувством полного удовлетворения поворот русской политики в сторону признания национальных прав польского народа, я верил, что этот поворот знаменует собою забвение прошлых исторических ошибок и союз двух родственных народов.
Но я ошибся.
В эти тяжкие для России дни вы – поляки – повторяете наши ошибки едва ли не в большей степени.
Я разумею стремление к занятию русских земель, не оправдываемое стратегической обстановкой; вводимое в них управление, отрицающее русскую государственность и имеющее характер полонизации; наконец, тяжёлое положение Русской православной церкви как в Польше, так и в оккупированных ею русских землях.
Для меня совершенно ясно, что именно теперь создаются те основы, на которых будут построены на долгие годы международные отношения. И нынешние ошибки наши будут оплачены в будущем обильной кровью и народным обнищанием на радость врагам славянства.
Мне нет надобности доказывать вам, что непонятная для русского общества политика польского правительства может дать весьма серьёзную опору германофильскому течению, которое ранее у нас не имело почвы.
Я нисколько не сомневаюсь, что, если бы когда-либо такое течение возобладало, оно имело бы роковое значение для Польской республики.
Этого допустить нельзя.
Между тем восточная польская армия, успешно наступавшая против большевиков и петлюровцев в дни, наиболее тяжкие для русских войск, вот уже около трёх месяцев прекратила наступление, дав возможность большевикам перебросить на мой фронт до 43 тысяч штыков и сабель. Большевики так уверены в пассивности польского фронта, что на киевском и черниговском направлениях они совершенно спокойно наступают тылом к нему.
Правда, вот уже более двух месяцев польская военная миссия выясняет наши взаимоотношения... Но за это время обстановка на нашем фронте становится всё более и более тяжёлой. При таких условиях, казалось бы, не время спорить о компенсациях. Тем более, что в сознании честных русских людей счастье родины не может быть приобретаемо ценою её расчленения.
Станем на реальную почву: падение вооружённых сил Юга России или даже значительное их ослабление поставят Польшу лицом к лицу с такою силой, которая, никем более не отвлекаемая, угрожает самому бытию Польши и гибелью её культуры. Всякие заверения большевиков в противном – обман.
Русские армии Юга вынесут новое испытание. Конечная победа наша несомненна. Вопрос лишь в том, как долго будет длиться анархия, какою ценою, какою кровью будет куплено освобождение.
Но тогда, встав на ноги, Россия вспомнит, кто был ей другом.
От души желаю, чтобы при этом не порадовались немцы.
Уважающий Вас А. Деникин».
Ответа на письмо не последовало, а через третьих лиц поступили сообщения, будто Пилсудский объяснял отсутствие взаимодействия с русскими противобольшевистскими силами тем обстоятельством, что ему, к сожалению, не с кем разговаривать, так как и Колчак, и Деникин – реакционеры и империалисты. И ещё Пилсудский заявил, что весной может начать наступление на Москву, а зимой он двигаться вперёд не может; его войска уже на Березине и в тылу у них 100 вёрст опустошённой страны.
Поезд Кутепова стоял у перрона Харьковского вокзала. Неустанный дождь, казалось, смывал не только грязь, но и всё лишнее. Оставались только железо, камень, люди. Среди людей было много лишних – тех, что погубили Великую Россию и помешали генералу войти в Москву и восстановить государство.
В, сопровождении офицеров Кутепов вышел из вагона. Часовые отдали честь, генерал ответил, задрав голову, направив бородку навстречу дождю.
Где-то недалеко под гитару запел молодой лихой голос:
Орёл и Курск забрали,
К Москве уже стремились,
Будённовцы нажали —
За Доном очутились.
Кутепов приказал:
– Найти артиста, арестовать и привести ко мне.
«Артистом» оказался поручик артиллерист из юнкеров-константиновцев.
– Издеваетесь над нашими неудачами, поручик? Радуетесь успехам красных?
– Никак нет, ваше превосходительство. Это шутка.
– Это для красных шутка, а для нас оскорбление. Я получил от Верховного главнокомандующего чрезвычайные полномочия по наведению порядка в городе и имею право вас повесить за распространение большевистских песенок. Как первопоходнику делаю снисхождение. Приказываю вам в течение всего дня в свободное от службы время играть и петь Преображенский марш!
Следующее, что привлекло внимание генерала – какой-то шум на запасных путях. Сразу направился туда, спустился по ступеням с перрона, обошёл вагоны.
Несколько сцепленных товарных вагонов стояли с широко раздвинутыми дверями, и люди выгружали оттуда ящики, мешки, коробки, даже какие-то бочонки. Всё, что выгружалось, люди, среди них были и оборванцы, и прилично одетые, и в шинелях, волокли по шпалам, через рельсы, куда-то в переулок.
– Задержать! – приказал Кутепов. – Всех ко мне!
Увидев военных, мародёры бросились врассыпную.
– Стреляйте! – кричал Кутепов. – Стрелять в грабителей.
Он и сам достал револьвер, но стрельба посреди путей с вагонами, паровозами, подготовленными к отправке поездами, представилась опасной. Кутепов отменил свой приказ, тем не менее человек семь самых нерасторопных задержали.
– Вы грабите государственное имущество, – сказал им генерал.
– Оно не государственное, оно ничьё, ваше превосходительство, – сказал какой-то смелый.
– Молчать! – рявкнул Кутепов. – Я наделён специальными полномочиями по наведению порядка и приказываю всех этих грабителей немедленно повесить на площади перед вокзалом. Господин адъютант, прошу поручить моей охране исполнить приговор.
Старичок в солдатской шинели забормотал со слезами:
– Ваше превосходительство, я генерал в отставке ещё с Русско-японской войны. Взял бочонок с виноградом. Он валялся возле вагона...
– Как вам не стыдно?
– Хотел в дорогу провиантом запастись.
– Этого отпустить, остальных – как приказано, – сказал Кутепов и пошёл, не оглядываясь, не слушая воплей приговорённых.
Вернулся он в штабной вагон, исполненный горькими мыслями: очень много в России людей – разрушителей государства. Это не только большевики – это и вот такие грабители-мародёры, это и некоторые тыловые офицеры, торгующие армейским имуществом. Новый командующий армией Врангель в первом же своём приказе заявил: «Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю тёмные силы, – погромы, грабежи, насилие, произвол и пьянство будут беспощадно караться мною».
«И мною!» – сказал себе Кутепов. Чем больше будет убито, расстреляно, повешено разрушителей государства, тем легче будет восстановить Великую Россию. Надо не ловить случайных грабителей, попавшихся на глаза, а провести большую карательную операцию по очистке города.
Немедленно в штабе был разработан план операции. Основные силы: конвой и охрана генерала. Они делятся на несколько групп, в каждую включается офицер, обладающий правом принимать решения о наказании нарушителей порядка вплоть до смертной казни. Одни группы – на легковых и грузовых автомобилях, другие – верхами. Все группы снабжены официальными приказами Кутепова, подтверждающими их права, верёвками для повешения и табличками «мародёр», которые будут надеваться на грудь казнённым.
Офицеры, назначенные на эту операцию, набились в коридор штабного вагона для краткого напутствия. Среди них оказался штабс-капитан Меженин – после долгих разбирательств ему вернули звание, признав его деятельность у красных полезной Добровольческой армии. Адъютант Кутепова, потерявший свой прежний лоск, усталый, отпустивший бороду, договаривался с офицерами о маршрутах. «Прошу для меня район заводских улиц», – сказал Меженин, пробившись к нему. Адъютант с трудом нашёл на плане города указанный район. Все уже разошлись, только Меженин объяснял адъютанту:








