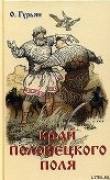Текст книги "Русалия"
Автор книги: Виталий Амутных
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
– Горностай? – улыбнулась ей Ольга.
– Да, горностай! Кажется…
– Ах, какое удовольствие сидеть с тобой за одним столом и вот так приятно беседовать! – вновь вступила августа. – Непременно попробуй вот эти сирийские финики, в них запечены пупки дроздов. Знаешь, Ольга, мне всегда казалось… Послушай, теперь ведь у тебя есть второе имя. Такое же, как мое – Елена. Можно, я буду тебя называть этим именем?
– Если августе это будет приятно…
– Ах, приятно, приятно! Получается, что теперь у ромейского автократора как бы две супруги с одним именем, да? Это, конечно, шутка. Мой удел – земной. А ты у него как бы духовная жена…
– Да ведь он мой крестный отец, – принужденно отшучивалась Ольга, – как же я могу быть его женой? Сама ведь знаешь, что за христианами такого не водится.
Она отпила вина из разложистой серебряной чаши, изображавшей тыкву, на боках которой были вычеканены яблоки и груши, а рукоять изображала змею, отпила, чтобы промочить постоянно пересыхавшее горло.
– Пью чашу великого царя ромеев – Константина3461! – провозгласила с некоторым запозданием княгиня и закашлялась. – А где же мой благодетель?
– А он сейчас, я думаю, как раз пьет чашу великой русской княгини в той палате, где собраны твои послы, и твои купцы… Но он, разумеется, не может не проститься со своей крестной дочерью, – Елена так же отпила из высокого золотого чешуйчатого кубка. – Ведь я слышала, что ты на днях покидаешь нас?
Ольга покрутила оказавшуюся под рукой покрышку своей чаши, на вершине которой помещался маленький козлоногий человечек, играющий на свирели, будто бы заинтересовавшись прихотливостью серебряной фигурки, а затем отвечала по возможности бесстрастно:
– Да. Пора уже.
– Но я надеюсь, мы ничем не разочаровали тебя. Все случилось так, как ты хотела?
– О, вполне.
Константин вместе с наперсниками, назначенными ему обществом, явился как раз тогда, когда разговоры почти совсем прекратились, и только ненавидящие взгляды, неспособные укрыться за учтивыми личинами улыбок, схлестываясь друг с другом, калили воздух над столиком цариц. Вновь прочие участники обеда, восславляя царя, полезли на пол. Ольга приветствовала Константина коротким кивком головы.
– Мы с княгиней говорили… – начала было Елена, но Ольга более не церемонясь перебила ее.
– Вот уже девять, нет, десять дней живу я во Дворце и только однажды могла говорить с тобой, царь ромеев. И что это был за разговор? Неужели ради того, чтобы глядеть на плясунов поборола я столько верст? Права августа, что мне уж пора домой отбывать…
– Да нет! Я же о том… – сробевшая от напора северной гостьи завертела головой Елена.
– Напротив, нам очень даже… – поддержали ее другие женщины.
– Права, права, – не останавливалась Ольга. – Здесь, у вас, неприметно, а в наших краях скоро белые мухи полетят. Пора. Только что ж я так… Хочу говорить тобой, царь. Хочешь ли ты того же?
Вытянутое лицо Константина будто сделалось худее прежнего, и нос точно высунулся вперед и заблестел. А взгляд его пойманной мышью кидался от лица к лицу своих приверженцев, ведь самодержец вовсе не хотел повторить печальный опыт своего предшественника – Романа Лакапина, а значит, он должен был умудриться проницать в их мысли. Но тут он различил направленный на него с одного из ближайших столиков нежно-ненавидящий взгляд своего протовестиария Василия Нофа, который со дня последнего переворота с легкостью выдавил из нового автократора одно за другим назначение патрикием, паракимоменом да еще и управляющим синклитом. Константин поймал этот негнущийся взгляд узеньких глазок, смотревших на него с нежно-розовой самодовольной жирной рожи, и тотчас предложил русской княгине небольшую прогулку по дворцу царицы.
– Что же это получается, царь? – горделиво развернув плечи и прямо глядя перед собой говорила Ольга, идя рядом с Константином, шествуя мимо золото-каменных достоинств царского дома. – Скажи мне без околичностей, звал ли ты меня сюда или мне это только почудилось?
Сейчас с ними не было толмача, и потому княгиня, поразмыслив, повторила последнюю фразу, соорудив ее попроще:
– Скажи правду, звал ты меня?
– Для моей державы посещение столь мудрой и великой властительницы всегда желанно.
– Нет ты скажи: звал или нет.
– И я, как правитель ромеев, не могу не оценить твоего внимания.
Ольга тяжело и открыто вздохнула:
– Конечно… когда у вас тут говорили прямо… Ладно. Ну вот я здесь. Чего же ты хочешь от меня?
– Наша жизнь преходяща, – принялся наигранно растягивать слова и понижать голос Константин, – и время сейчас задуматься, кому ты дашь отчет в совершенных за жизнь прегрешениях и в своей вере, когда наступит судный день. Теперь ты знаешь, что Христос и есть судия. «Не воскреснут нечестивые на суд, ни грешники на совет праведных, потому что знает Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет», – говорил Давид…
– Ну про Давида за эти дни я немало слышала. Про Моисея… – зло усмехнулась княгиня. – Теперь давай о деле говорить. Чего же хочет твоя премудрость?
– «Начало премудрости – страх Господень», как сказал… сказал Соломон, – Константин запнулся, поскольку сам заметил, что обилие цитат начинает придавать его речи некоторую смехотворность. – Издавна я лелеял мечту, чтобы золотой свет истинного Бога соединил наши державы, и мы вместе возрадовались ему с трепетом. И чтобы расточились наши враги, побежали прочь, исчезли, как исчезает дым, растаяли, как тает воск вблизи огня, и погибли бы грешники от лица Божия, а мы бы возвеселились.
– Ох и хитро же ты слова заплетаешь, царь ромейский! Значит, хочешь, чтобы я прислала тебе свои рати, витязей русских, так что ли? С кем воевать? С болгарами? С арабами?
– Пока еще хватает врагов у Христа, – чуть оживленнее заговорил Константин, – но, уверен, нет у тебя оснований разглядеть в движениях моей души какую-то корысть. Во всяком случае после того, как ты вышла из церкви уже во Христе, в семени Авраама, имея прекрасный обет, заключенный в Евангелии, после того, как любовь соединила…
– Любовь? – Ольга резко остановилась и дерзостно подняла на Константина требовательный взгляд. – Вот-вот, мне вспоминается, в тех словах, которые мне передавали твои посыльные, было что-то о любви…
– Христос – это и есть любовь! – не сморгнув глазом отвечал василевс.
– Ах, вот как…
– Как говорит святой апостол Иоанн Богослов в первом своем соборном послании, «будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога…»
– Вот так вот, значит, будем любить… Ага… – еле слышно произнесла княгиня, и глаза ее сделались фиолетовыми. – А вот я тебе проще скажу. Если ты думаешь, что перехитрил меня, и теперь Русь к Царьграду верой христианской, точно веревкой привязана, то не очень-то льсти себе. Все еще может перемениться.
Аккуратно подстриженная бородка на лице Константина слегка разъехалась в стороны, – он нескрываемо улыбался:
– Прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем все колена земные, все народы будут признавать его блаженным. Так говорится в псалме. Благословен Господь Бог Израилев, единственный творящий чудеса, и благословенно славное имя его вовек и во веки веков.
Вскоре они вернулись в триклиний, где несколько танцоров в непристойно узких туниках игривыми телодвижениями выдавливали из осоловевшей от неумеренной трапезы и вина публики пьяные поощрительные выкрики. Говорить больше было не о чем. В конце обеда император вновь одаривал присутствующих шелковыми покрывалами, своей старой одеждой, серебряными монетами. Русская княгиня тоже была одарена. Но на этот раз ей выдали не пятьсот, а двести милиарисий. Чтобы не привлекать к себе внимания посторонних Ольга приняла и этот унизительный дар. Единственное, что она себе позволила, – никак не поблагодарить за то императора.
Уже в тот же вечер она велела готовить все к отъезду, и на следующий день покинула Дворец. Провожать ее на пристани собралась небольшая толпа, две трети которой составляли русские из числа постоянно проживавших в Царьграде. Из Дворца были какие-то люди, но лица сплошь ничтожные. Лишь тогда, когда княгиня уж собиралась ступить на ладью, от василевса прибыл его тезка протоспафарий Константин. Он проговорил все назначенные уставом слова, а в конце своей насколько пространной, настолько же и пустопорожней речи в кудреватых фразах напомнил, что автократор Романии ждет от русской царицы военной поддержки для охраны теперь уже общих христианских ценностей. У княгини от таких слов аж дух захватило, ярко-красные пятна выступили на рябом ее лице, а засверкавшие глаза цвета перезревшей вишни просто напугали царева посыльного.
– Что ты сказал от меня требует твой василевс? – выплюнула Ольга слова с такой ненавистью, что только что такой вальяжный бородач, точно выловленная рыба захлопал округлившимся ртом и даже на шаг отступил. – Говоришь, силою моих богатырей хочет себе еще золота нажить? Ну что ж, передай ему, пусть для разговора ко мне в Киев приедет. Да постоит у меня в Почайне, сколько я здесь у него в Суду стояла, дожидаючись, когда мне на берег дозволят сойти. А тогда, может быть, и дам ему что…
И тут уж все ее лицо полыхнуло огнем.
– Эй, Руальд! – вскричала одного из послов княгиня. – Мне тут греческий царь от своих щедрот подарил семьсот милиарисий серебра. Так вот, возьми-ка, купи на них изюму да пришли от меня ромейскому василевсу, – она громко и грубо захохотала, отстегнула от шитого пояса зеленый сафьяновый кошелек и швырнула его Руальду. – Хочу, чтобы, сластями балуясь, он меня и вспоминал со сладостию. Да погоди, не все еще.
Казалось, бабой уж овладела лихоманка, так судорожны сделались ее движения, так воспаленно сверкал ее бегучий взгляд, не останавливавшийся ни на одном объекте.
– Подайте мне золотую тарель! На-ка вот, Руальд. Чтобы изюм царю на этой вот тарели подали, а то ведь не по-царски выйдет, ежели на чем другом…
И золотая тарелка, осыпанная разноцветными камушками, с крупной геммой из слоистого агата в центре, изображавшей уроженца Вифлиема – царя иудейского, с такой легкостью была запущена Ольгой, кто, казалось, и вовсе не имела никакого веса. Руальд едва изловчился ее ухватить.
– Может, пожертвовать ее в ризницу… – пробубнил он, не слишком надеясь быть услышанным.
Но Ольга поворотилась спиной к изумленной толпе, к рыбьей физиономии василика, к облепившим берег лачугам и дворцам Царьграда, присыпанным золотой солнечной пылью, будто ей уж и не было дела до всего того, что она оставляла здесь. Да вдруг с лодьи, на которую она взошла, вновь послышался ее властный голос, слишком громкий для того, чтобы ее могли слышать только те, кто находился на судне:
– Немедля найди кого, да сейчас же пошли в Саксию3471 к Оттону. Пусть передаст, что королева ругов3482 ждет его у себя в Киеве. Может, я решу его веру принять – римскую.
Еще какое-то время, уже находясь на лодье, она швыряла и крушила все, что ни попадало ей под руку, потом вдруг стихла… И всю дорогу домой княгиня находилась в странном состоянии, похожем на сон с открытыми глазами. Она почти ничего не ела, ни с кем не разговаривала, почти все время лежала, не смыкая слезящихся глаз. Даже ночью она пугала всяких свойственниц и прислуживающих девиц этими своими широко распахнутыми невидящими глазами. Если и говорила она что, то слова ее были столь медлительны и невнятны, что ее окружение не на шутку всполошилось, опасаясь как бы княгиня вовсе не помешалась в рассудке. А после того, как в один из дней она ни с того ни с сего выхватила из ножен у одного гребца акинак и пыталась проткнуть себя им, эти опасения приобрели пугающую мрачность. Для того, чтобы причинить себе сколь бы то ни было серьезные увечья у Ольги просто не хватило сил, она всего лишь изрезала одежду да кожу на груди, но после того случая ее уже не выпускали из поля зрения ни на миг. А она вновь потеряла интерес ко всему окружающему и, как и прежде, часами всматривалась в темные осенние волны Днепра, но теперь уже удерживаемая с двух сторон под белы руки своими товарками.
Маетное это путешествие закончилось в грудне. Мороз еще не успел сковать землю, но первые белые мухи уже чертили свои пути в черноте обессиленной за лето земли. Ольга сильно похудела, щеки на ее осунувшемся конопатом лице запали, зато остро стали выдаваться нездорово блестящие скулы, а всегда столь выразительные глаза вовсе померкли и сделались какими-то… какими-то седыми… вовсе бесцветными, вялыми, охладелыми. Она смотрела по сторонам, но, как и всю дорогу домой, не видела ничего. Та жизнь, золотые отблески которой вспыхивали подчас в ее мозгу, выглядела слишком уж ненатуральной, слишком рукотворной и шаткой, но значение ее лежало на поверхности. Все, что стояло сейчас перед ее глазами, было черным и белым, вековым, глубинным, и для того, чтобы овладеть таящимся здесь смыслом, нужны были верные непрестанные усилия, и большая любовь, и священная ненависть… Но чудилось Ольге, что все данные ей Богом силы дотла сожжены в одном прыжке, в одном броске. Тщетном…
Наверное, немало людей встречало Ольгу на пристани. Очевидно, народ на улицах города тоже не оставался безучастен, завидев приближающуюся повозку княгини. Глядишь, со всего княжеского двора собрался люд приветить возвратившуюся хозяйку… Никого не видела Ольга. И вдруг одно лицо… одно единственное лицо из гогочущей колеблющейся толпы захватило ее внимание. Такое же, как у нее самой, исхудалое лицо с выступающими скулами, ввалившимися щеками, а главное – со смертельным бесчувствием глаз смотрело на нее, или даже скорее мимо нее, куда-то в столь хорошо знакомую Ольге серую слякоть пустоты. Это была Добрава. Та самая зазноба покойного Игоря, последняя, кого он назвал своей женой. Когда-то румяная пышная юная теперь она казалась отражением обветшалой Ольги. Отражением она и была. Так же закружила ее небывалая мечта, так же оторвала от природных корней и так же бросила, насмеявшись, ничегошеньки не оставив в утешение.
– Княгиня! Княгиня! Ольга! – шипел над ее ухом кто-то из дружины. – Надо бы народу какое слово сказать. Будешь говорить-то?
– Нет, – отвечала Ольга, не поворачивая головы. – Ветер студеный. Трясет что-то. Пусть отведут меня в терем.
Часть вторая
С
колько различных образов составляют каждое мгновение жизни! Стальное поле Днепра, бледное небо над ним, холмы в ослепительных красных, желтых и желто-горячих рубахах, воздух перенасыщенный запахами зрелости, воздух имеющий вкус подгорелого хлеба, крохотная букашка (из последних), надсаживающаяся в попытках высвободиться из плена крупной светоносной капли на пильчатом краю пегого желто-зеленого яворового листа, неблизкая перекличка мужских голосов, воинственными выкриками уносящихся от цветистой обольстительности земли к мудрости холодного неба, раскачивающаяся на гибких плодовитых багрянеющих ветвях лещины рыжая белка с уже поседелым корнем хвоста и спинкой, разжиревшие перед смертью на бесконечных дождях травы, почти внезапно возникшая просинь в бело-пепельном небе, звонкий свет, грубый смех… и соединяющий все свежий ветер, касающийся каждого из творений, но не останавливающийся ни перед одним из них, подобно тому, как бестелесный, творящий бытие и небытие, приносящий счастье Единый Род, пребывая во всех образах мира, не проникается ничем мирским, оставаясь Сокровенным.
– Бей, ну же! Что ты… В голову бей! – кричал Асмуд невысокому, но необыкновенно широкоплечему молодцу годов семнадцати-восемнадцати, наступавшему на него с раскрасневшимся яростным лицом, сжимавшему в огромном кулаке на мощном запястье боевой нож. – Ну!
Малый сделал молниеносный выпад, но его разящая десница была отбита движением, едва уловимым глазом. Следующий приступ постигла та же участь. Еще наскок – и вновь неудача. Хлопец напористо возобновлял бесполезные попытки одолеть неуязвимого врага, становившиеся раз от раза все незадачливее, несмотря на суровое сопение и вздувшуюся жилу на покрасневшем широком лбу.
– А теперь я бью! Держись! – крутнул бритой бугристой головой (на висках и плосковатом затылке блестевшей седой щетиной) Асмуд.
И его нож сверкнул возле самой головы молодца. Возле шеи. Вновь пронесся мимо уха. Как ни стремительны были сыпавшиеся удары, хлопец все же каким-то чудом умудрялся их отбивать. Но один он все-таки пропустил, – и сверкающая сталь, намечая удар, распорола кожу на его оголенном боку. А припечатанный вслед за тем к груди кулак противника и вовсе сшиб его с ног, бросив в жидкие кусты вишни, с которых тут же испуганно спрыгнула стайка желтых листьев и, покружившись, насмешливо опустилась на бедолагу. Асмуд протянул малому руку, но малый тут же вспрянул, не воспользовавшись подмогой. Тогда старший вытащил у себя из-за красивого пояса с металлическим узорным набором, уснащенном большой серебряной бляхой, некое подобие уже изрядно загвазданного утиральника, протянул молодому:
– На-ка. Кровяку отереть.
– А, ну его…
– Ты, Святослав, чего дожидаешься? Надеешься удар что ли углядеть? Не углядишь. А ты не стопорись, тебе супротивника нутром чуять надеть, тебе нать3491 не удар его опередить, а помышление его опередить. Вот так. Видишь, ты втрое моложе, порный3502, а перебороть меня не можешь. Крепкое тело – это всего только подспорье в бою, а главная сшибка – она в умах деется.
Досадливо наклоняя широкое лицо, удерживая под сильными надбровьями злобный взгляд не привыкшего к неудачам и вот потерпевшего поражение бойца, Святослав лишь с тихим присвистом шипел своим широким носом, сдвигал темно-русые по-молодому шелковистые брови да покусывал крупные крепкие губы жесткого очерка.
– Ладно, князь, это завтра продолжим, – вроде бы высматривая сброшенную где-то рубаху вертел по сторонам головой Святославов дядька, на самом же деле чтя как молодое, так и княжеское достоинства своего питомца, вроде давно уж оперившегося, но все равно нуждающегося в его участии. – А сейчас созывай своих товарищей. Ты хотел сегодня ого, сколько успеть. Хотел, вроде, на чучелах упражняться… А дни меженные3513 когда еще кончились! Так что… Ай, молодцы!
Так и не отыскав рубаху, взгляд Асмуда остановился (моментально наполнившись восхищением) на доброй сотне молодцев Святославовых лет (с изрядными камнями, удерживаемыми за головой) единовременно взбегавших по охряному склону соседнего холма.
Между тем, чуть в стороне, ближе к Днепру, на краю еще довольно зеленой низины до семи дюжин молодых воинов под присмотром богатыря Вуефаста метали камни по расставленным на разном удалении целям при помощи пращи или просто рукой. Среди них можно было разглядеть с десяток шести-семилетних мальчишек, почти на равных принимавших участие в этом занятии. А по всей широте долины, вытянувшейся меж холмов (называемых здесь горами), рассыпалось сотни три хлопцев: одни еще продолжали укреплять врытые стойком в землю обрубки бревен четырех с половиной локтей в высоту (кое-кто даже умудрился напялить на верх бревна кудластую печенежскую шапку), большинство же успело закончить приготовления, и те, кто не согревал свое тело какими-либо движениями, успели набросить на голые плечи рубахи, поеживались от нешуточного осеннего холодка.
Это были обычные вседневные ученья малой дружины, предводительствуемой Святославом. Большая дружина, состоявшая из больших, зрелых витязей, не так давно покинувшая долину, чтобы совершить укрепляющий двадцативерстный поход, вроде бы тоже повиновалась Игореву сыну, как светлейшему князю русскому. И все-таки, несмотря на то, что князь уже вошел в мужские лета, слишком велики оставались в большой дружине права Свенельда. А этих молодцев Святослав сам подбирал себе в товарищи, с ними рос, с ними в этой долине одолевал тайности военного дела, соревнуясь с ловкими в прыганье, с быстрыми – в беге, с сильными – в борьбе, кулачном бою, в поднятии бревен и громадных камней. С ними, такими же, как он, сынами князей – потомственных ратоборцев, Святослав уже успел побывать в нескольких сшибках, и между пятью сотнями молодых мужчин (волею каких сил?) сумели сложиться те особенные доверительные отношения, некая священная круговая порука, той высоты взаимоуважение, которое почитаемо небесными Богами и чуждо земляной природе Велеса и его плодовитого окружения.
– Эк вы, как поселяне, что у баб своих набалованности обучились! – весело и вместе с тем сурово вскричал Святослав, приближаясь к подмерзшим соратникам. – Что вы на себя тряпье-то напялили? Чучела стоят?
– Стоят!!! – громовой отклик сотен глоток затопил долину, побежал вверх по склонам, истончаясь и тая в иссиня-лиловой листве жостеровой опушки, обводящей полупрозрачный светло-желтый лес на вершинах холмов.
– Русай, ты со своими бери щиты и мечи бери. Светлан, твои хлопцы копья берут, – раздавал указы Святослав. – Кто еще остался? Ольгрет? Тоже копья. Чистосвет – идешь камни метать. Всё. Начинай!
И тотчас обитавшее в долине оживление приумножилось многажды, вовсе затопило все буйством движения и звука, так что пытавшимся задремать цветистым холмам вновь пришлось оставить надежду наконец-то замириться с любезным осенним покоем. Такие учения для дружин русских князей были делом не просто обыкновенным, они являли собой каждодневное дело, ибо здесь знали: нет таких задач, исполнение которых с помощью регулярных упражнений нельзя было бы сделать очень легким. Кто сказал, что сеча – это труд безотрадный? Поселянин, оторванный от привычных занятий в годину лихолетья? Или баба, потерявшая верно стоявший на страже ее похоти михирь? Для молодца – наследника славы предков, чья череда теряется в бездне веков, узами крови соединяясь с самим громовержцем Перуном, для обученного военному делу молодого витязя ратоборство – не страх, а скорее услада. И только этот образ мысли мог обеспечить русское воинство несокрушимыми доблестью и отвагой, позволявшими вступать в сшибку с силами многократно превосходящими численностью, но не сноровкой и храбростью.
Итак, учения проходили для их участников самые что ни на есть заурядные, но тот, кому доводилось видеть воев единственно в боевом своем облачении, не исключено, что был бы весьма удивлен, а, может, и распотешен. Полураздетые люди со сплетенными из толстых сучьев подобиями щитов в шуйцах, с громадными дубинами (лишь весьма отдаленно напоминавшими мечи) в десницах непрестанно набрасывались на деревянные чучела с самой неподдельной яростью, а копья, которые они метали в воображаемых врагов, уж скорее напоминали нетолстые бревна. Между тем эти подобия вооружения, в два, в три, а то и более раз превосходящие весом подлинные, боевые щиты и копья, обеспечивали обретение опыта и навыка, а вместе с ними исключительной силы рук, которые, берясь уже за настоящее оружие, могли обращаться с ним, как с предметом забавы.
Вовсе молодой боец с разрумянившимися щеками, с раскрасневшейся спиной, лет четырнадцати от роду, не боле, под присмотром старшего товарища, несколько в стороне, на таком же деревянном чучеле раз за разом отрабатывал одни и те же упражнения на этот раз с настоящим боевым ножом. Весь блестящий от обильного пота, он вновь и вновь наскакивал на двухсаженный обрубок липового бревна кое-где с иссеченной корой, с раскосмаченным лубом, кое-где с уже оголившейся белой, едва желтоватой, древесиной, стремясь поразить деревянного противника в голову, в бок, подкатываясь к его ногам, чтобы подрезать под коленями сухожилья, отступая и вновь ополчаясь на него с удвоенным остервенением.
– Не раскрывайся! Когда бьешь, сам не раскрывайся, – покрикивал задористый наставник лет шестнадцати, невольно пританцовывающий возле своего подопечного, соединенный с ним единым порывом. – И не руби, а коли. Рубленая рана то ли вышибет дух, то ли нет – мерила бабка клюкой, да махнула рукой. А колотая, ежели в точное место, так довольно на полтора вершка, на вершок даже нож вошел – тут и околеванец.
Наставник, верно, и не примечал, что пошиб его речи больно уж напоминал Асмудов способ соединять слова, а, может быть, напротив – этим подражанием молодец нарочно хотел сделать еще более очевидным духовное родство свое с опытом матерого увенчанного славой вояки.
– Пошевеливайся! Пошевеливайся! Тебе супротивника понять надеть, почуять, надеть своим ударом его помышление обогнать, ежели воителем хочешь быть необлыжным3521. Ратуй за свою жизнь! Пошевеливайся! А то за нерадивость так и будешь получать ячменный хлеб вместо ситного.
Долина гудела от стука деревянных и звона настоящих мечей, от топота сотен ног и непрестанных воинственных кликов. А прикосновение холодных мышц ветра, густо наполненного подчас вертлявой золото-рдяной листвой, соединяло раскрасневшегося четырнадцатилетнего бойца, задававшего встрепку липовому болвану, с то и знай прищуривавшимися пращниками Вуефаста, с их громадным неулыбчивым учителем, а тех сопрягало с увертливым крутоплечим Олелем, к восхищению своих товарищей умудрявшегося косым ударом отклонять сразу по два летящих на него копья, и тот же мерцающе-червонный ветер связывал Олеля с отрядом лучников, на значительном отдалении от прочих на горе оттачивавших свои и без того соколиные взоры, доглядывая за полетом их стрел (с плоскими, треугольными, шиловидными клювами), уносящимися в пространство… ветер в конце концов становился посредником между человеком и всем естеством, явленым окрест – лесными шапками холмов, будто замедлившим свой бег Днепром, молочным светом, сочащимся из вымени Небесной Коровы, – между человеком и Тем, Кто открывается в размышлении, Тем, Кто не рождается и не умирает, Кто не разрушается, Кто лишен свойств и частей, Кто не знает ни самомнения, ни сомнения – всепроникающий, немыслимый и мыслимый одновременно, неописуемый, очищающий оскверненное. Ведь все эти люди, все эти листья, все облака и были Родом, извечно пребывающим в каждом существе, и каждое существо, каждый человек могли бы сказать: «Я – Род. Я – и есть Бог, предстающий единым или множественным, отраженный во всех существованиях, подобно тому, как отражаются белесо-дымчатые облака в зерцале вод Почайны».
– Каждому еще по две сшибки! – ненадолго отвлекаясь от размахивания огромной оструганной дубиной, заменявшей меч, подбрасывал указания своим дружинникам Святослав. – Потом с шалыгой3532 погоняем. И надобно сегодня раньше кончить. Завтра Сварога чествуем, так что…
Еще гоняли шалыгу. Отобрав две сотни из числа тех, кто проявлял особое усердие, упражняясь в искусствах стрельбы из лука, метании копья, обращении с пращей и прочая (воины, показавшие посредственную умелость, должны были оставаться в числе наблюдателей), юный князь разделил их на два равных счетом отряда, сам стал во главе одного из них, второй – сам выбрал себе вожака. Где место было поровней отмеряли пять десятков сажень, на этом расстоянии выстроились в ряд друг против друга готовящиеся вступить в состязание отряды. За спинами у бойцов мечом провели на земле по черте, обозначавших закраины защищаемых ими городов, свободу которых они тут же поклялись отстаивать не щадя живота своего. На равном удалении от тех и других, посередине условного поля брани, положили шалыгу, сплетенную из каких-то желтоватых лоз, возможно, ракитовых, и туго набитую паклей. К шалыге вышли Святослав, Русай, как верховоды своих отрядов, и еще трое витязей постарше во главе с похожим на гору Вуефастом, которым предстояло умозаключать, по справедливости ли идет борьба.
– Летит птица крылата, без глаз, без крыл, сама свистит, сама и бьет, – выдал соперникам не слишком складную, видно, только что сочиненную загадку гигант, правильный ответ на которую должен был обеспечить тому, кто не замешкает с ответом, право первому повести шалыгу.
– Стрела! – совершенно единовременно, точно сговорившись, откликнулись хлопцы.
Вуефаст поскреб гигантской пятерней рыжеватую щеку, – он, видимо, полагал, что хитрость его вопроса неодолима, – и приобняв за плечи двух своих товарищей, развернул их и отвел на несколько сажень в сторону для изобретения нового каверзного вопроса.
Новый вопрос был таков (на этот раз говорил Чистосвет; он хоть и был вдвое младше Вуефаста, но отличался куда большей сметливостью):
– Один говорит – «длинна». Другой – «коротка». И никак один другому не верит, а только сам по себе мерит.
– Река! – выпалил Русай, и тут же принялся смущенно озираться по сторонам, чувствуя, что сморозил что-то не то.
– Нет. Какая еще река!
– Это… – Святослав зачем-то прищурил один глаз. – Ну это, житье. Жизнь, то есть.
– Так оно и есть, – признали судьи и отдали новенькую золотистую вовсе целомудренную шалыгу Святославу.
Со своим трофеем тот вернулся к своему отряду, бросил его наземь, а когда мановение руки судителя ознаменовало начало поединка, Святослав, легонько пиная шалыгу, неспешно повел ее вперед. Стена из сотни молодых богатырей (молодец к молодцу) верно следовала за ним. Совместными стараниями им нужно было загнать плетеный колобок в город противника. Но с той же целью навстречу им выдвинулся строй ребят ничуть не уступавших в дородстве Святославовым. Отряды медленно сходились стена на стену. Князь все осторожнее подгонял шалыгу, легонько подталкивая ее внутренней лодыжкой, ведь от сильного удара она могла бы улететь в стан неприятеля. Расстояние между отрядами все сокращалось, пока наконец они не приблизились друг к другу вплотную. Вот тут-то и началась сшибка.
Распихивая налетавших на него игроков соперничающего отряда Святослав упрямо прорывался к заветной черте, и соратники по игре ему немало в том пособляли. Нельзя было отпускать зуботычины, бить носком сапога (чтобы случаем ногу кому не перебить), но почитай все остальные способы останавливающие рьяность соперника при помощи природной силы, дозволялись. Может быть, как раз борьба и была наиважнейшей частью этой игры. И сила мышц в ней предоставляла очевидные преимущества. Однако кто же не знает, что помимо дородства тела (без которого может обходиться только дармоед) во всяком бою подчас решающей становится не столько телесная сила, сколько отвага. И Святославу, как светлейшему князю русскому, как же было не знать, что каждое мгновение своей жизни он обязан в равной мере и по телесному совершенству, и по доблести души, и по настроению ума представлять самый высокий пример долга.
Нужно было бесперечь отражать наскоки то и дело прорывавшихся к нему супротивников, и вместе с тем двигаться вперед, двигаться, удерживая внимание на изменнической шалыге. Удары плеч, локтей, крутых бритых голов посыпались на князя – повалила сила сильная, но он не то, чтобы только собирался победить, – помыслом он уже находился по ту сторону границы вражьего города, и обстоятельства требовали от него всего лишь волевого порыва, способного соединить две временных точки. Время оказалось и вязким, и упругим, но все же преодолимым...