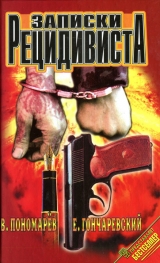
Текст книги "Записки рецидивиста"
Автор книги: Виктор Пономарев
Соавторы: Евгений Гончаревский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
Глава 2
ТОРЖЕСТВО МЕНТОВ
1
Комиссия из зоны уехала, а с ней и «хозяин». И с концами. Больше мы его не видели и ничего о нем не слышали. Зато прислали другого. Жизнь в зоне изменилась в лучшую сторону.
По зоне прошел слух, что будет большой этап. Куда, никто не знает. Через месяц после бунта собрали одних воров-законников и тех, кто придерживался воровских идей. Попал на этап и я. Нас всех отправили в Хабаровскую тюрьму. Когда привезли, то раскидали в подвальных камерах.
На другие сутки ночью нас стали по несколько человек «дергать» (вызывать на допрос) из камер. Вели по коридору, потом по одному человеку заводили в «сучью будку» (одиночную камеру). На наших глазах из нее вынесли двух зеков на носилках в бессознательном состоянии. Тогда мы еще не поняли, в чем дело. Дошла очередь до меня. Я зашел. В дверях надзиратели, по бокам камеры надзиратели, старший по корпусу. Напротив у стены стояли врач, начальник тюрьмы и начальник режима – старший оперуполномоченный, «кум» по-нашему. Посередине камеры лежала смирительная рубашка.
«Кум» сказал:
– Свыше есть указание сломать преступный мир и начинать с воров-законников. Кто дает подписку, что отказывается от воровских идей, к тому рубашку не применяем.
– Гражданин начальник, я не законник, – сказал я.
– Пономарев, ты активно придерживаешься воровских идей. Так что, даешь подписку? – спросил «кум».
– Нет, – ответил я.
На меня надзиратели надели рубашку и подвесили на веревке вниз головой, как ласточку. На шейной артерии врач проверял пульс. Я чувствовал, как голова моя наливается кровью, словно свинцом. Потом я ничего не помню: потерял сознание. Когда очнулся, надзиратель поливал меня из шланга водой и говорил:
– Такой молодой, перед тобой сколько уже не выдержали рубашки и отдали концы. Всю жизнь чифирят, таблетки глотают наркотические, анашу курят, вот сердце и не выдерживает, отдают концы. Многие воры дали подписки.
Тут в висках застучал другой голос:
– Пономарев, последний раз спрашиваем: даешь подписку?
– Нет, – прохрипел я и почувствовал, как тело мое дернулось, я опять заболтался в воздухе. «Падлы, менты поганые, – подумал я, – фашисты и те, наверное, так не издевались». И опять провал в памяти.
– Ну что, даешь подписку? – услышал я, когда снова пришел в себя.
– Да. Можете торжествовать, – ответил я, а про себя подумал: «Ни хера, мы еще „побуцкаемся“, будет и на нашей улице праздник. Дайте только вырваться отсюда».
Кое-как поднялся с пола, подвели к столу, сунули какую-то ксиву, в руку вставили ручку, я поставил каракулю.
Врач предложил:
– Сейчас в санчасть отнесем.
– Не надо, сам дойду, – огрызнулся я.
Занесли мне чистую куртку и брюки. С трудом я переоделся и, пошатываясь, в сопровождении надзирателя потащился наверх в санчасть. Здесь, в общей камере, лежало уже много воров, которые не выдержали и дали подписки.
Собрав около трех тысяч больных, поломанных и отказавшихся от воровских идей, стали отправлять в центральную больничку на станции Бира. Это от Хабаровска в сторону Биробиджана.
2
В больнице лежали зеки со всего Союза. Я довольно быстро поправился, вечерами брал гитару, шел из терапевтического отделения на улицу, садился на лавочку и пел. Возле меня собиралось много больных, которые могли ходить, все сидели и слушали. Так же, как и в зоне, варили чифирь, курили анашу, кололи морфий, глотали кодеин и теофедрин. Все ждали, в какие «командировки» (ссылки) отправят на этап.
Шел 1959 год. В больнице стали поговаривать, что должен выйти какой-то указ для заключенных. И точно. Через несколько месяцев вышел указ от 14 августа 1959 года «О рассмотрении уголовных дел и об освобождении из мест заключения, об изменении уголовных статей».
Приехала комиссия. Стали вызывать по одному и освобождать заключенных, имеющих даже большие сроки: по пятнадцать-двадцать лет. Человек шел на свободу, но при одном условии: в течение года-трех из его зарплаты в пользу государства будут удерживать 15–20 процентов.
А мне опять «геморрой» (неудача), второй раз не повезло. Как в том анекдоте, что ходил по зоне: «Как не повезет, так и на кобыле триппер схватишь». На семь суток попал я в изолятор. Нас накрыли надзиратели, когда мне на теле делали татуировку. На комиссию я попал уже из изолятора. Посмотрели личное дело – на мне висело четыре трупа. Сказали: «Совсем еще молодой, только двадцать два года, и нарушать продолжает. Пусть сидит». Даже разговаривать не стали. Так комиссия и постановила: «Отказать». И я продолжал мотать срок. А многих освободили.
Глава 3
ТАШТЮРЬМА
1
Тех, кого комиссия зарубила, стали отправлять в Среднюю Азию. Привезли нас в город Ташкент в Таштюрьму, распределили по камерам. Меня кинули в пятьдесят третью. Здесь уже сидели три «пассажира». Познакомились, кто откуда, кто за что.
Из всех выделялся Генка Свиридов, волжанин. Высокий, красивый парень атлетического сложения, на воле был акробатом-циркачом. В цирке теперь выступать не будет, и, пожалуй, долго. Зарезал семь человек. На его месте любой бы зарезал. А дело было так.
После представления в цирке Генка пошел провожать девушку. В парке его остановили семеро парней и все с ножами. Двое схватили девушку и потащили в кусты, начали срывать платье, трусы, повалили, стали насиловать. Она, как могла, сопротивлялась, кричала. Один из пятерых не выдержал, повернулся, крикнул по-узбекски: «Давай быстрей!» В этот момент Генка удачно выхватил у него нож и стал резать направо-налево. Кинулся к тем двоим, те бежать, да со спущенными штанами далеко не убежишь, зарезал и этих.
Потом взял девушку за руку, пошел с ней в милицию. Там сказал ей: «Рассказывай». Девушка долго не могла прийти в себя. Кофта, платье были на ней разорваны в клочья, от трусов осталось одно воспоминание. Придя в себя, девушка рассказала все, что случилось.
Директор цирка ездил, ходатайствовал за Генку, да бесполезно. Судья так и сказал Генке: «За пятерых я тебя не сужу, а вот тех двоих вы убили умышленно. Раз побежали они, пусть себе бегут». Короче, дали Генке семь лет, получилось по году за каждого.
Сидел в камере Павлик, тоже молодой парень. Батрачил он на хлопковом поле у одного бабая, работал от зари до зари. Бабай так замордовал и допек Павлика, что один раз он не выдержал. Получил расчет, так сказать. На хлопковом поле кетменем хватил бабая по голове, тот подышал еще пять дней и перестал.
Третьим в камере был Корсунский Леонид Моисеевич, в годах уже. Бывший военный летчик, воевал в Корее во время корейско-японской войны. Сидит по делу щеточников, а всего по этому делу проходит семьдесят пять человек. Были у них подпольные цехи и фабрики, делали щетки, расчески и прочую ерунду, а ворочали миллионами.
Вечером сели ужинать. Корсунский достал мешочек с сахаром, дал всем по ложке, отрезал по кусочку колбасы. Все поели, но вижу, что ребята какие-то пасмурные. Поиграли в домино. По тюрьме дали отбой, а из соседней камеры «позвонили» по стене: кто пришел на «кичу» этапом, кого кинули в камеру? Я вылез на решетку и сказал, откуда и кто пришел со мной. Потом тюрьма уснула своим тяжелым, безрадостным сном.
Ночью я проснулся по нужде. Вижу, Павлик и Генка не спят, о чем-то гутарят. Они и рассказали, что, когда меня не было, Корсунский никому ничего не давал, а как я пришел – стал давать.
– Вот что, ребята, слушайте сюда. Чтобы жид помнил, что такое «кича», надо провести воспитательную работу и так сделать: возьмите его мешочек с сахаром и высыпьте в бачок. Утром дадут кипяток, размешаем. Да и сейчас не мешает попить и поесть немного из запасов жмота, опять же для его пользы.
Из большого мешка Корсунского вытащили четыре вязанки копченой колбасы, мед, сыр голландский и много поломанного шоколада. Генка набрал его полную фуражку, положил на решетку и сказал:
– Пусть проветрится, плесенью уже покрылся.
Поели колбасы, сыру, попили чаю с медом, и я сказал ребятам:
– Утром, когда Корсунский «щекотнется» по поводу продуктов, вы молчите, я буду говорить.
Утром встали, получили кипяток, залили в бачок, размешали. После оправки сели завтракать. Корсунский налил в кружку кипятку, попробовал и говорит:
– Что-то кипяток сегодня сильно сладкий.
Мы молчим, Корсунский полез в мешок, а сахара-то там тю-тю, да и другие продукты основательно похудели. Корсунский ко мне:
– Дим Димыч, как-то нехорошо получается.
– Очень даже хорошо, Леонид Моисеевич. Вы в тюрьме первый раз, человек новенький-готовенький. Но я дам вам дельный совет на будущее. Это не по-каторжански гноить продукты в мешке, колбаса и шоколад плесневеть начали, сыр позеленел от стыда за вас. А что ребята сахар в бачок высыпали, так это они погорячились. Больше этого делать не будут. Надо все делать по-каторжански; все, что есть, надо есть, но не одному, а с товарищами по несчастью. И считайте для себя великим счастьем, что вы попали в камеру к таким ребятам. Попади вы к махновцам, и плакали бы все ваши продукты вместе с вами. Вы бы еще пендюлей приличных получили от этих шакалов. Надеюсь, Леонид Моисеевич, вы меня правильно поняли.
– Я вас отлично понял, Дим Димыч, – ответил еврей. – В таком случае давайте быстро все пустим в употребление.
Этот завтрак и последующие трапезы у нас проходили уже радостно и дружно.
2
Как-то вечером к нам в камеру кидают молодого парня-узбека, хотя мест у нас не было: камера на четверых. Парень бросил матрац на пол, сел на него. Я пригляделся к парню, вижу: кайфует, обкуренный. Отрывает каблук от ботинка, достает анашу и начинает забивать две «беломорины».
Генка с Павликом подсели к нему. Парень назвался Шовкатом и спросил, обращаясь ко мне:
– А ты?
– Вообще не курю, – ответил я.
Выкурив папиросы, ребята стали играть в домино, а я беседовал с Корсунским и втихаря наблюдал за новичком. Корсунский рассказывал мне, как они «спалились».
Одному еврею из их компании на предварительном следствии в КПЗ сделали укольчик снотворного. С кем не бывает: «впал в распятие» (переживает) человек, не спит, вот и сделали. И помогло. Уснул человек, только навсегда. В это время стали «дергать» подельников и, ссылаясь на показания «уснувшего», раскалывать их. А они давай валить все друг на друга. Так вышли на самого главного цеховика, на Алендра. Алендр, в свою очередь, в знак глубокой признательности друзьям рассказал, кто чем занимался, откуда поступали свиные шкуры, кто бумаги подписывал. Не забыл и своих московских друзей на очень даже высоких должностях. Так все было четко отлажено, а «спалились» на сущем пустячке. Один их рабочий, не рассчитав сил и откушав лишнюю порцию горячительного, попал в вытрезвитель. Там, ясное дело, поинтересовались: кто такой, где работает? Пролетарий давай мяться. Но блюстители порядка знали свое дело хорошо, государственный хлеб не зря ели, поприжали бедолагу как следует. Тот и сказал: в подпольной еврейской фирме.
Шовкат заметил, что я на него посматриваю, спросил:
– Почему ты как волк смотришь на меня?
– Тебе показалось, я на всех так смотрю, привычка такая, – ответил я.
Пройдя уроки жизни в преступном мире Ванинской зоны, я был очень осторожен среди зеков, у меня появилось какое-то звериное чутье на людей. Собака и та порой к одному человеку ластится, а на другого рычит, чувствует погань. Вот и сейчас: в камере мест нет, а к нам кинули человека. Почему? Зачем?
После ужина легли спать. Я лежал на нижних нарах, Корсунский надо мной, Генка с Павликом на других нарах. Шовкат расположился на полу между нарами. Достал анашу, зарядил папиросу, втроем ребята покурили. Я спросил у Шовката, за что тот попал, сколько «отломили». Он рассказал, как его били в ментовке, а сел он за килограмм анаши, год дали. Я слушаю, но чую: «пургу гонит» (врет). Но ничего не стал ему говорить.
На другой день после завтрака и проверки стали выводить на прогулку. Надзирателю я сказал, что заболел, плохо себя чувствую, на прогулку не пойду.
Сокамерники мои ушли, я остался один. Проверил матрац Шовката и обнаружил длинную заточку. Ее я перепрятал в свой матрац, быстро распустил чулок и сплел веревку в палец толщиной.
Когда ребята пришли с прогулки, я уже спокойно лежал на нарах и читал книгу. Прошел обед, ужин и лишь после вечерней проверки, когда тюрьма готовилась ко сну, я подошел к Шовкату сзади и накинул на него удавку, придавил, пока он не вырубился. Ребята с удивлением наблюдали за этой сценой, Генка спросил:
– Дим Димыч, что ты делаешь? Шовкат парень такой хороший.
– Он зашел к нам с заточкой. Значит, она предназначена для кого-то из нас. На тебя, Гена, этот хороший парень постоянно посматривал, – ответил я.
Шовката привели в чувство.
– Если ты, падла, не скажешь, зачем тебя кинули в нашу камеру, то сейчас тебе будет хана, – сказал я и натянул удавку, подержал маленько и отпустил.
– Ничего не делайте, я все скажу, – взмолился Шовкат.
Он должен был зарезать Генку. Родные убитых им парней заплатили хорошие бабки. Шовкат специально совершил преступление, а когда попал в тюрьму, заплатил надзирателю, чтобы тот кинул его в пятьдесят третью камеру. Те, кто его послал, пообещали, что долго он сидеть не будет, его выручат, а выйдет на волю, то получит еще кучу денег.
После этого признания я не вытерпел, трахнул Шовката пару раз по голове и сказал:
– Ломись на кормушку (уходи из камеры), стучи, сука, вызывай корпусного, чтобы он перевел тебя в другую камеру, а то я за себя не ручаюсь.
Шовкат стал стучать в дверь, пришел надзиратель, спросил:
– Что такое?
– Позови корпусного.
Пришел корпусной.
– Гражданин начальник, – сказал я, – уведите эту мразь отсюда по-хорошему, а то мы с ним что-нибудь сделаем.
– Так, в чем дело? – спросил корпусной.
– Он сам вам расскажет. А ты, мразь, быстро сворачивай свой матрац и вали отсюда.
Шовкат схватил матрац и выпрыгнул в коридор. Они ушли. А я рассказал ребятам, как наблюдал за Шовкатом ночью и на прогулку тоже не пошел.
Корсунский посмотрел на меня с какой-то детской улыбкой, похлопал легонько по плечу и сказал:
– Да, Дим Димыч, это мы тут дилетанты, а ты молодец, в преступном мире тебя не проведешь.
3
По соседству в пятьдесят четвертой камере сидели женщины. Один раз вечером я залез на «решку», стал с ними разговаривать, познакомился с одной девушкой. Звали ее Зоя, сама татарка, живет в Самарканде, воровка-карманница, по-нашему называется «кишиньковая». Я поинтересовался:
– Зоя, а как бы нам с тобой хоть разок сделать удовольствие?
– Только через туалет, – ответила Зоя.
– Нас первых выводят на оправку. Завтра я тормознусь в туалете, – сказал я.
– Все поняла. Жди.
И мы пожелали друг другу спокойной ночи. На другой день утром нас повели на оправку. В туалете проходила канализационная труба и за ней стояла параша – обрезанная бочка для мусора. Я сел за бочку.
Надзиратель, пожилой узбек, открыл дверь туалета, спросил:
– Все?
Ему ответили:
– Все.
Они ушли. Завели женщин, восемь человек. Когда дверь захлопнулась, я поднялся из-за бочки, спросил:
– Кто Зоя?
Женщины поначалу растерялись, охнули, одна говорит:
– Я Зоя.
– Тогда давай сотворим любовь.
Женщины постарше, сидевшие за растрату, начали возмущаться:
– Как вам не стыдно, срам-то какой.
Вперед вышла самая бойкая воровка и сказала:
– Замолчите вы, «ковырялки» старые… что ли, не видели. Ольга, встань к дверям, волчок загороди, чтобы мент не видел, а ты, Зойка, приступай к делу, раз обещала.
Зойка спустила трусы, нагнулась. Лошадиным способом я быстро совершил половой акт. А эта шустрая деваха говорит:
– Я Катя. Может, и меня?
Я только руками развел, глазами показав на опавший член.
– Ничего, милый, успокойся. Сейчас приведу твой аппарат в рабочее положение.
Катя подошла, обняла меня одной рукой, а другой стала гладить ниже пояса. Я снова почувствовал прилив энергии. Катька нагнулась, тем же способом четвероногого копытного я реализовал и эту представившуюся возможность. Видимо, разыгранная перед зрителями сцена их так увлекла и раззадорила, что нашлись еще желающие из зрителей стать участниками аттракциона. Деваха, что стояла на дверях атасником, говорит:
– А мне можно?
– Иди, Ольга, он парень молодой, помацай как следует, и тебе хватит, – сказала Катька.
Ольга подошла. Не помню уж, что она со мной сделала, но я опять захотел. Она быстро нагнулась и сама попятилась на меня. Молодость и природа, они берут свое. Я и на этот раз не ударил в грязь лицом. До меня долетали едкие реплики и комплименты со стороны пожилых баб, у которых, видимо, лебединая песня была уже спета.
– А Катька-то, Катька, как вертушка, крутилась на… и визжала, как свинья недорезанная.
– Да ты сама, Матрена, попадись на каркалыгу этому мерину, не так бы завизжала.
– А Ольге-сучке лучше всех досталось, дольше всех ее пилили, – сказала с каким-то радостным сожалением рябая баба, щерясь беззубым ртом.
В это время дверь туалета распахнулась, надзиратель крикнул:
– Хватит, девушки, еще много камер. Выходите.
Катька принялась его стыдить:
– Как тебе не стыдно, фундук фуев, закрой дверь, мы сейчас.
Но надзиратель настоял на своем. Мне запрятаться за бочку было уже никак нельзя. Бабы по одной стали выходить в коридор. Когда надзиратель увидел меня, у него глаза полезли на лоб, спросил:
– Из какой камеры?
– Из пятьдесят третьей.
Он захлопнул дверь, баб увел. Потом слышу – бегут. Открыли дверь, заорали:
– Выходи, сейчас мы тебе покажем …барь долбаный.
Я выскочил в коридор, надзиратели стали бить меня по голове. Я ломанулся по коридору корпуса. В конце его, я знал, внизу находился изолятор, но до него далеко бежать, на пути пять решетчатых дверей, и у каждой надзиратель. Все они били меня: кто кулаком по голове, кто сапогом. В последних дверях двое надзирателей. Один врезал мне по голове, а второй – сбоку ногой по печени. Я полетел по лестнице вниз головой в подвал глубиной метров пять и шмякнулся о бетонный пол. Лежал не двигался, хотя и был в себе. Но я знал одно: если поднимусь, надзиратели запинают наглухо (совсем). Они обступили меня, один пнул ногой, сказал:
– Кажется, готовый. Столько пролетел. Надо проверить. – Наклонился надо мной, я затаил дыхание. – Не дышит.
– Давай кинем его в камеру, – сказал второй «дубак». – Начальник придет и, если он очухается, разберется, что с ним делать.
Они взяли меня за руки, за ноги и, как полено, швырнули в камеру. Я опять сильно ударился о бетонный пол, особенно головой. Дверь с лязгом захлопнулась, и я услышал удаляющиеся шаги. Немного полежал, с трудом поднялся, все тело невыносимо болело. Да, подумал, неплохо менты поиграли мной в футбол.
Камера изолятора была очень маленькая, может, чуть больше могилы. Лежак был закрыт к стене. Я сидел на бетонном полу и приходил в себя. Через некоторое время дверь камеры открылась, вошел старший оперуполномоченный капитан Вахидов, спросил:
– Что, женщин захотел?
И сильно ударил меня в грудь ногой. А когда я упал на спину, стал пинать меня сапогами. Вот тут я потерял сознание. Очнулся, когда в камеру вошли два охранника, сказали:
– Сейчас отбой, мы откроем лежак, ложись, донжуан, – и ушли.
С трудом я поднялся с бетона, лег на деревянный лежак, но уснуть в эту ночь мне не удалось, все болело. Лежал я и думал: «Ох и дорого же мне обошлась тюремная любовь. Да и менты мерзавцы. Ну, нарушил, ну, накажите, но не так же зверски издеваться. А потом еще и удивляются, почему мы их так не любим, а при случае нередко и грохаем».
Был в моей жизни такой случай, когда мы вздернули в лесу под Казанью одного надзирателя из Абаканской колонии для малолеток. За побег из колонии этот выродок-садист по кличке Гнида так потом избил меня в камере велосипедной цепью, что я думал, не выживу, сдохну. А многих пацанов он искалечил. Вот высший воровской суд и свершился. Понятно, работа у них такая: каждый день возиться с ворами, бандитами и головорезами. Но надо же как-то соизмерять степень вины и меры наказания. Хотя, говоря откровенно, встречал я и среди ментов людей порядочных, пользующихся уважением преступного мира, но значительно реже.
Утром в камеру вошли два надзирателя, пристегнули лежак к стене, дали пайку – четыреста граммов хлеба и кипяток. В камере был бетонный столик и чуть пониже, как стул, бетонная тумба. Потянулись дни «летные» и «нелетные». «Летные» – когда дают на день только пайку и три раза кипяток, «нелетные» – утром я получаю черпачок овсяной или пшенной каши, в обед дают первое и второе, вечером – опять каша на воде.
Так просидел я в карцере пятнадцать суток. На шестнадцатые меня вывели, сводили в баню. На теле было еще множество ссадин и синяков, но прошедших уже все оттенки цветов радуги, начиная от багрово-синих, почти черных, до фиолетово-оранжевых с желтизной. Я хорошо помылся, побрился, и меня отвели в свою пятьдесят третью камеру.
4
В камере ребята первым делом посадили меня за стол, как следует накормили запасами Корсунского, у которого они почти не уменьшились. Ему постоянно с воли шел «подогрев», носили передачи. Потом я лег спать под одеяло. Начал засыпать, слышу женский голос:
– Дим Димыч пришел из «трюма»?
– Да, – ответил Генка, – поел и лег спать.
– Ладно, не будите, кидайте «коня».
«Конь» – это по-тюремному длинная веревка, сплетенная из распушенного чулка.
Ребята кинули «коня», приняли «подогрев» от девок: сало, сахар, печенье, конфеты. Катька крикнула:
– Пусть нажимает на глюкозу, ему сейчас полезно, он же весь избитый.
В этот день я так крепко уснул, как никогда в жизни, проснулся аж на следующее утро. Позавтракал и опять лег. Слышу голос Зойки:
– Где Дима?
Ребята ответили:
– Ему пока нельзя на «решку» вылезать, менты херовые в коридоре. Поменяется смена, он тебя сам потом позовет.
Вечером я поднялся на «решку», позвал Зойку, мою тюремную любовь. Позже на свободе мы с ней не раз еще встретимся. Зойка стала кричать:
– Дима, я целую тебя.
На «решку» повылазили и другие девки. Стали на всю тюрьму хором кричать:
– Дима! Дима! Це-лу-ем!
Гул одобрения шел по тюремному двору и из других окон. Оказывается, вся тюрьма знала о нашей любви и о том, как я за нее сильно пострадал.
Корсунский каждый день выходил из камеры в санчасть, встречался со своими коллегами. Когда возвращался, говорил:
– Я рассказывал, Дим Димыч, о тебе своим подельникам. Очень удивляются, что ты за человек.
В камере мы жили очень дружно. Но дни бежали, ушел на этап Павлик с десятью годами. На его место кинули Валентина, бледного мужчину среднего роста лет сорока пяти. Наркоман умудрился в телогрейке пронести шприц и ампулы с морфием. Вечером сам себе сделал укол в вену. Потом вытащил анашу, покурили с Генкой. И когда Валентин «потащился от прихода» (закайфовал), то рассказал, что сел он по 89-й статье за магазин, когда следователь предложил ему взять несколько нераскрытых краж. Возьмешь, говорит, уколю и на дорогу дам, и анаши дам. Как раз ломка пошла, «кумар» (болезненное состояние при наркотическом голодании) долбил по-черному. Все равно часть вторая, она до семи лет, больше семи не «отломят». Вот он и взял три магазина.
Сам по себе Валентин был человек беспардонный, неуважительный к другим. Бывает, обкурится «дури» и дуреет, залезет на «решку» и базарит до посинения с другими камерами. Потом прыгнет на нары – нары ходуном ходят. Если человек на нижних нарах спит, то моментально просыпается от такой встряски. Я хоть и спал на других нарах, но его неоднократно предупреждал:
– Валентин, перестань прыгать на нары, как мартышка, не мешай людям отдыхать, плохо будет.
Он в ответ:
– Кто ты такой, чтобы мне указывать, что мне делать в камере, что не делать.
– Смотри, Валентин, достукаешься, жопу красной сделаю тебе, – шутил я.
Раз в неделю к нему приезжал следователь. От него Валентин приходил весь заряженный анашой и омнопоном. На пару с Генкой они смолили анашу. Генка тоже стал безбожно курить, сильно переживал пребывание на «киче». Я понимал его, все пропало в жизни у парня: и спорт, и слава, осталась одна тюрьма. Как мог, его подбадривал. Скоро и он ушел на этап.
В камеру кинули старика Васю, на вид лет семьдесят, а оказалось, ему всего сорок девять. Лег он на нижние нары под Валентином. Когда познакомились, он рассказал, что дали ему два года по 206-й статье. Раньше работал в городе Янгиабаде, это за Ангреном, на урановой шахте. Город закрытый, так просто туда не попадешь, кругом шлагбаумы, солдаты и милиция. Люди там живут очень хорошо, как при коммунизме: в каждом доме машина первоклассная, обстановка люкс, в магазинах всего навалом. Но все это достается тяжелейшим трудом. Работают по пояс в воде, случаются электрические дуги. Что это значит: был человек – стала головешка обгоревшая. У многих силикоз и облучение радиацией. Вася страдает силикозом, легкие забетонированы, жить осталось совсем немного, может быть, считанные дни. И действительно, спал Вася только днем, ночью не мог, сильно задыхался и хрипел. А тут еще духота, вонища от параши – одно угробление для Василия.
Как-то днем Вася уснул, а Валентин сидел на «решке», базарил с другими камерами. Потом как сиганет на нары, те ходуном, Вася проснулся, а я не выдержал, крикнул:
– Ты что, сука, в натуре, делаешь? Ты что, не видишь, человек больной спит, никакого уважения, ему жить-то осталось считанные дни.
– Да пошел ты на… Ты молод еще делать мне замечания, – ответил мне Валентин.
Кровь ударила мне в виски. Хоть я и был моложе Валентина вдвое, но я с четырнадцати, без малого десять лег, скитался по тюрьмам, и ни одна тюремная падла не смела так унизить меня. Нет, подумал я, совсем не понимает человек, надо проводить воспитательную работу. Со словами:
– Я тебя предупреждал, – я поднялся с нар и мощнейшим апперкотом врезал Валентину в челюсть.
Он взлетел над нарами, какое-то мгновение парил под потолком камеры, как бомбардировщик, словно выбирая цель, потом стал пикировать вниз, перешел в штопор и врезался в бетонный пол, головой помяв железную парашу. Я подскочил к нему, наступил ногой на горло и сказал:
– Или ты будешь сидеть в камере тихо, или я прикончу тебя.
И я бы, наверное, выполнил свое обещание, если бы не Корсунский. Он подскочил ко мне, обнял сзади, стал уговаривать:
– Дим Димыч, успокойся. Не бери грех на душу. Теперь-то он наверняка поймет, все-таки взрослый человек.
Я отошел, сел на нары. Смотрю, Валентин зашевелился, как в замедленном кино, стал подниматься, под краном обмыл кровь с головы и, ни слова не говоря, полез на свои нары. Три дня он молча пролежал на нарах, даже на прогулку ни разу не ходил. Подействовало, значит, воспитание. Да и Вася стал лучше спать, меньше задыхаться, посвежел лицом.
5
Вот и мне объявили на этап. Сначала должны были везти на пересылку, а уже там распределяли, кому в какой лагерь, зону. На мне были тонкий китайский свитер и синий костюм, на голове черная шляпа, на руках черные кожаные перчатки. По тюремным понятиям «прикид» на мне был отменный. Когда я залез в «воронок», там уже были люди. Я спросил:
– Есть где место?
Какие-то пожилые мужчины говорят:
– Есть, садитесь. – И тут же спрашивают: – Случайно, вы не Дим Димыч?
– Он самый, – ответил я. Пригляделся – евреи.
– Мы лежали в тюремной больнице и много слышали о вас от Корсунского. Он ведь с вами сидел в одной камере, – сказал седой еврей. – Вы извините, пожалуйста, нас, но мы хотим с вами поделиться продуктами. К нам сегодня приходили на свидание, и мы получили передачи. А, как нам известно, вы из детдома, к вам никто не приезжает.
И они отдали мне один мешок, полный продуктов. Я говорю им:
– Не надо. Оставьте себе.
– У нас есть. Приедем на пересылку, нам опять принесут. Так что, Дим Димыч, берите это из нашего уважения к вам и ничего не говорите.
Ничего у меня не было, теперь сидор появился, да еще полный продуктов.








