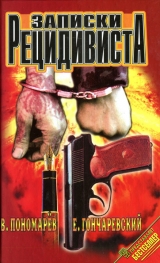
Текст книги "Записки рецидивиста"
Автор книги: Виктор Пономарев
Соавторы: Евгений Гончаревский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
– Очень. Вы такая хорошая, мягкая и теплая. Я как дотронусь до вас, так мне опять хочется. Хочу и вот никак не могу одного понять: как вы, женщина с таким положением, вытащили меня из подвала грязного, небритого, больного и решили осчастливить? И где? В тюрьме! Спасибо, Галина Александровна, за все, за ваше благородное сердце, за простоту души. Хоть в тюрьме, но счастье и здесь мне улыбнулось.
Женщина заплакала, прижала мою голову к себе, сказала:
– Из твоего личного дела, Витя, я поняла, что сидишь ты с детских лет, в тюрьме прошла юность и пропадает молодость. Вот я и подумала: доставлю этому парню хоть мимолетную радость в жизни. Мой милый, мой ласковый.
Я лежал на спине, Галина Александровна лежала сверху, лазала по мне, целовала мои губы, грудь. Я задыхался от ее горячих поцелуев и почти терял сознание. И мы трахались снова и снова. Потом она встала, сказала:
– Сейчас пойду проверю, есть ли в душе горячая вода. Сходим помоемся, душ у меня в кабинете.
Галина Александровна ушла, а я лежал и думал: сколько это может продлиться у нас? А если все кончится, то мне будет еще тяжелее после расставания с ней.
Врач вернулась, сказала:
– Я прошла по этажам, везде тихо. Надзирателя предупредила: если кто будет меня спрашивать, пусть позвонит в мой кабинет, я приду. Воды горячей в душе не было, так я сходила в баню и сказала, чтобы мне в кабинет пустили воду. Собирайся, Витя, пойдем помоемся.
Я надел брюки, куртку и чепчик. Пришли в кабинет, я разделся, прошел в душевую и наладил нормальную воду. Вошла голенькая Галина Александровна, стала под душ, а я начал намыливаться, не сводя глаз с ее мощного крупа. Врач предложила потереть мне спину, потом я стал тереть ей спину. Она повернулась, поцеловала меня в губы. Тут я не выдержал, обхватил ее сзади, и в такой позе мы отдались друг другу прямо под душем. Время от времени женщина оборачивалась и целовала меня.
После душевой мы минут десять лежали на диване, распаренные и уставшие.
– Ох и развратники мы с тобой, Витя, – сказала милиционер. – Да простит нас Бог на том свете.
Галина Александровна поднялась с дивана, налила два стакана спирта, сказала:
– Давай, дорогой, выпьем за нашу подпольную любовь. Я-то ворона старая, знаю, чем может это обернуться. Но, встретив тебя, я уже ничего не боюсь. Только Бог мне судья.
Мы выпили и закусили. Пошли ко мне в палату и почти до утра разговаривали и трахались периодически. Под утро Галина Александровна ушла.
Утром, как обычно, тюремный день начался с проверки по камерам, смены дежурных, обхода врачей по палатам. Вошли ко мне трое в халатах. Галина Александровна с бледным серьезным лицом спросила:
– На что, больной, жалуетесь?
– Голова что-то кружится, – ответил я, потупившись.
– Это у вас от нехватки витаминов, но это пройдет, – сказала начальник санчасти, и они ушли.
Через какое-то время Галина Александровна вернулась одна, сказала:
– Я, Витя, пошла домой. На следующее дежурство принесу тебе поесть. Буду носить на себя и на тебя. А сейчас отдыхай, мой милый, и веди себя хорошо. – Поцеловала меня и ушла.
И началась у меня жизнь как в самой хорошей сказке. На тюремной больничной койке я жил лучше, чем многие живут на свободе. Когда дежурила Галина Александровна, у меня было все: и поесть, и выпить, и женщина нежная, ласковая и темпераментная. Мы трахались как сумасшедшие. Я чувствовал, что в этом мире это был ее финишный любовный бросок. Она тоже, по-видимому, это знала и себя не сдерживала. Была как лошадь, идущая галопом без уздечки. В такие страстные ночи я даже забывал, что нахожусь в тюрьме.
Через месяц Галина Александровна зашла ко мне в палату и говорит:
– Витя, ты знаешь, что ты со мной сделал?
– Нет. А что?
– У меня все платья по швам лопались, а сейчас висят на мне, как мешки. Юбки вообще невозможно носить, падают с меня. Надо их зауживать и замки перешивать. Все врачи мои заметили, как я похудела, и говорят, что мне так очень личит. Да я и чувствую себя так легко, будто лет двадцать скинула.
Я посмотрел на ее зад, на котором складками топорщилась юбка, и меня разобрал смех.
– Галина Александровна, вы правы. У вас зад был кобылам на зависть, а сейчас как у козочки.
– Это ты во всем виноват, – сделала вывод начальник санчасти.
– А я и не отрицаю. Так и на суде скажу, – пошутил я.
– Ой ты, дурачок мой, – сказала Галина Александровна, долго и внимательно посмотрев мне в глаза.
Я без особого труда прочитал в ее глазах грусть, спросил:
– Галина Александровна, что с вами?
– Надо, Витя, выписывать тебя. Больше держать нельзя, могут догадаться. А через месяц я тебя снова положу. Но этот месяц, как мое дежурство, ты будешь записываться к врачу. Я буду тебя поддерживать, чем могу. Только в камере веди себя хорошо. Вахидова я также предупрежу, что ты больной и чтобы к тебе меньше придирался.
Я взял кружку, ложку, полотенце и ушел в свою камеру.
В камере о своих отношениях с Галиной Александровной я ни с кем не делился. Никому об этом знать не положено. Среди преступного мира есть слабые люди, долго не выдерживающие сидеть на фунте хлеба. И таких Вахидов прибирает к рукам, пообещает им лишнюю пайку, и они становятся секачами.
Да и кому я что должен объяснять? Не столько я за себя боялся, сколько за человека, проявившего ко мне столько участия, тепла и доброты. Еще в детстве, когда я сидел во взрослой Ванинской зоне, я наглухо запомнил слова старых каторжан:
– Можно, Дим Димыч, всех ругать и ненавидеть, только не медицинский персонал: в нашем преступном мире это – единственное спасение.
В камере в книгах у меня были еще деньги и немного анаши. Ее я вытаскивал и угощал ребят только по праздникам, а деньги регулярно посылал наверх на ларек, а оттуда получали «грев».
Хоть мы и сидели на пониженном пайке, утром я поднимался раньше всех в камере и начинал делать физические упражнения: присев на корточки, ходил гусиным шагом, делал отжимания от пола на руках до предела. Этим я поддерживал свою спортивную форму. А когда приносили пайки, свою делил на три части и последнюю корочку съедал в отбой.
Некоторые зеки не выдерживали, сразу съедали всю пайку, а потом весь день баланду без хлеба ели. Так я приучил себя, хотя есть мне хотелось не меньше, чем ребятам. Они весь день под бушлатами лежали, а я еще и физическими упражнениями занимался.
Спасибо еще Галине Александровне, она меня подкармливала. Когда ее дежурство, я записывался к врачу. Меня вели наверх в кабинет начальника санчасти. Майор сажала меня за стол, и я быстро съедал все, что она приносила мне. Потом набирал разных таблеток и уходил в камеру. Если в кабинете, кроме нас, никого не было, мы целовались, а если медсестра или еще кто, то обменивались только взглядами.
Как-то в камере я принимал сверху «прогрев» из ларька, и меня на «решке» заметил в волчок надзиратель. Написал рапорт, а Вахидов наградил меня пятнадцатью сутками карцера.
Сидя уже в «трюме», я вызвал врача. Пришла Галина Александровна, измерила мне температуру, сказала:
– У него большая температура. Мы не можем держать его в карцере.
Меня увели назад в камеру. А когда я снова записался к врачу и встретился с Галиной Александровной, она меня отругала:
– Неужели ты не можешь спокойно сидеть в камере? Что, больше некому на «решку» лазить и «грев» принимать?
Я пытался объяснить доктору:
– Все ребята слабые в камере. Принять «грев» и затянуть в дырку не могут, только намучаются. Вот я и лезу. Я-то хоть у вас «греюсь», вот и покрепче их всех.
Галина Александровна покормила меня, поцеловала.
– Скоро, Витя, я тебя снова положу в санчасть. Очень уж ты бледный. Мне это не нравится.
Так я месяца три в году лежал в санчасти. А это было для меня настоящим земным раем. Хотя что такое рай земной, я только догадывался, но в сравнении с тюремной камерой – это был рай. Все познается в сравнении. И костер нашей любви с Галиной Александровной вспыхивал с новой силой и страстью. Палок для этого костра я не жалел. Месяц пролетал как во сне, и я снова уходил в камеру.
Заключенные камеры просились на работу, но Вахидов не выпускал, усмехаясь, говорил:
– На работу ходить не будете. Ловите «гревы». Я замучился сетку на подвале зашивать. Я знаю, это Дим Димыча работа. Имей в виду, поймаю – пятнадцать суток твои.
Атмосфера в камере была ненормальная и все больше накалялась. Все были злые, голодные. И разговоры в камере под стать атмосфере. Раз сидели, разговаривали, делились воспоминаниями. Уголовник по кличке Челкаш рассказывал угрюмо-юморную историю из своей жизни:
– Пришел ночью пьяный, голодный как волк. Жена спала уже. Пошарил по столу, нашел лампу керосиновую, но пустую, керосин кончился. Растолкал жену, спрашиваю: «Пожрать есть чего?» – «Там, на плите, чугунок, требуху варила сегодня», – ответила спросонок жена. Стал впотьмах шарить, нашел чугунок, запустил в него «клешню». Вытащил что-то липкое, длинное, стал жевать. Жую, никак ужевать не могу. У, сука, думаю, требуху доварить не могла, сырая совсем. А она стала поперек горла, а конец на полметра изо рта висит. Стал потихоньку глотать. Пошла. И заглотил целиком. Утром встаю, живот режет. Пошел до ветра, сел под плетень. Пыжусь, пыжусь, никак. Потом смотрю: тряпка из задницы торчит. Я ухватил ее рукой, тяну, не идет. Тогда приподнялся, зацепил тряпку за кол от плетня, стал дергаться. Бесполезно. Был бы разбег какой, а тут разбега никакого. Дергал, дергал, пока забор не завалил. А рядом к забору коза была привязана, так ее чуть не прибило. Лежит коза под забором и орет дурным голосом. Жена из хаты выскочила, накинулась на меня:
«А, мерзавец, весь забор завалил. Кто чинить будет, пьянь несчастная?» Тут уже я не выдержал, рванулся как следует в полусогнутом положении, как спортсмен со старта, так тряпку и выдернул. Забежал в хату, схватил двустволку и выскочил на улицу. Жена, увидев меня с лицом решительным, как у Александра Матросова, что шел на немецкий дзот, припустила по грядам и скачет, как коза. Кричу ей: «Не виляй, дура, не виляй! Не попаду ведь». Потом как дал дуплетом на вскидку. И точняком попал.
Зеки в камере сидели, слушали, угрюмо скалились.
– Так на самом деле, как потом разобрались, вот что оказалось, – продолжал рассказывать Челкаш. – Кошка залезла в чугунок и вытащила требуху, а тряпка, которой чугунок был накрыт, в него упала. По пьянке в темноте я эту тряпку и заглотил вместо требухи. Жалко, апосля об этом узнал, когда к жене в больницу ходил. Ей доктор из задницы пригоршню дроби наковырял. Долго жена потом скулила, на задницу сесть не могла. Я ее успокаивал: «Да не вой ты, Зин, а, Зин. Сбегай лучше в магазин, да отметим счастливый исход моей охоты. А что всю жопу тебе разворотил, так сама виновата. На кой хрен такую корму отъела, в калитку боком только и пролазишь, вот всю дробь от заряда и поймала». Эх, ребята, требухи бы сейчас вареной, да с маслицем, уксусом.
– Это че, Челкаш, – сказал Чижик, тощий зек. – Я что здесь голодный, что на свободе голодный ходил. Клавка моя пила, стерва, по-черному. Все бабки, что я зарабатывал, пропивала. Бывало, приду с завода уставший, голодный, а она пьяная в дуплину на кровати валяется, а пожрать – шаром покати. Начну ей говорить, она в крик, мат-перемат. А то еще сковородкой или чугунком, сука, в меня запустит. Напоследок только год хорошо и пожил, когда ее в ЛТП отправили менты. Вернулась, и все сначала пошло-поехало. А тут еще ее кенты-алкаши и подруги чуть не прописались в хате. День и ночь гужуются: Сашка Ворон, Жорка Блин, Светка Оклахома, Нюрка Шавка. Клавка у них за пахана канала. Раз вернулся с ночной смены раньше времени, подстанция на заводе сгорела. А они готовые все. Кто на полу спит, кто под столом. А Клавка моя на кровати с Вороном голые. У меня в башке помутилось что-то. Схватил топор и давай их на кровати кромсать. Только в ментовке очухался. Посадили вот. Об одном сейчас жалею: и чего я Клавку раньше не грохнул. Уже давно освободился бы.
В это время в камеру вошел Вахидов. Зеки кинулись к нему, стали уговаривать выпустить их на работу. Он ни в какую: нет, и точка. Тут один из камерников, Валек с Урала, выхватил из-за пазухи длинную заточку и ударил капитана. Все произошло так быстро, что никто из зеков, да и сам Вахидов, не ожидал. Удар пришелся в сердце. Когда капитан упал, Валек размахнулся и хотел еще раз долбануть. Но другой зек, Володя Сорокин, перехватил руку Валька со швайкой, закричал:
– Ты что, сука, с ума сошел?!
– А сколько он может кровь у нас пить? – ответил Валек.
Надзирателя, что в дверях стоял, ветром сдуло. Через некоторое время все сбежались: корпусной, начальник режима и сам начальник тюрьмы полковник Стакозенко. Валька увели в карцер, а Вахидова положили на носилки и увезли в городскую больницу.
У надзирателей мы спрашивали:
– Что там с Вахидовым?
– Чудом остался живой. Врачи долго боролись за его жизнь, швайка чуть-чуть зацепила сердце. Если бы ваш подонок еще раз ударил, то Вахидову был бы конец.
– Пусть капитан спасибо Сорокину скажет.
Дошло это и до начальника тюрьмы. На другой день он пришел в камеру, спросил:
– Кто Сорокин?
Володя вышел. «Хозяин» расспросил его, как было дело. Тот рассказал. Стакозенко посмотрел на заключенного внимательным взглядом и ушел. Говорили, что Стакозенко встречался с женой Вахидова. Она узнала от него фамилию зека, который спас ее мужа капитана Вахидова, и написала письмо в Москву в Верховный Суд СССР с просьбой о помиловании Сорокина. Из Москвы пришел запрос: дать характеристику поведения заключенного Сорокина на тюремном режиме.
На самом деле Володя Сорокин числился как отрицательный элемент. В нашей камере сидели одни головорезы и «отрицаловка». За игру под интерес у Володи были неоднократные постановления о «награждении» карцером, а в личном деле, как в семейном альбоме, красовались подшитые игральные карты: тузы, короли, дамы.
Несмотря на это, полковник вырвал из дела все постановления, королей и тузов и написал на Сорокина такую характеристику, что можно орден давать. И отправил ее в Москву.
Прошло месяцев восемь, об этом случае давно забыли. И вот открывается кормушка, начальник спецчасти спрашивает:
– Сорокин есть здесь?
– Есть.
– Распишитесь. Вам пришло помилование. С вас скидывают десять лет срока, вы идете на свободу.
Володя стоял с ручкой в руках, но не мог ни расписаться, ни слова сказать, так потрясла его эта неожиданность. Я подошел к нему, взял его руку и расписался в помиловании. А буквально через полчаса за Володей пришли. Он попрощался с нами и ушел.
Через пять дней на мою фамилию приходит посылка. Открылась кормушка, и женщина, что разносит в тюрьме посылки и бандероли, спросила:
– Пономарев есть?
– Тут я, начальник. Где мне еще быть? – ответил я.
– От кого посылку ждете?
От такого вопроса я забуксовал. Никого у меня нет на свободе, и ни от кого никогда я никаких посылок не ожидал. Разве что от Международного Красного Креста как гуманитарную помощь жертвам советских лагерей и тюрем. А не скажешь, от кого посылку ждешь, унесут и будь здоров. Вспомнил, как-то с Володей Сорокиным у меня был разговор, я говорил ему, что положена посылка, а прислать некому.
И вот Володя ничего мне не обещал, и на тебе. Но я, еще будучи неуверенным, стал крутить вокруг да около. Дескать, родственники есть, да раскидало их по свету, что бурьян по степи.
Женщина не выдержала:
– А Сорокин кто вам будет?
– О родная, так это брат мой двоюродный.
– Распишитесь вот здесь.
Я расписался и получил посылку на пять килограммов. Володя, оказывается, после освобождения зашел в магазин, купил сала, сухарей сладких и отправил мне посылку.
В камере начался пир. Часть продуктов я отделил, чтобы «подогреть» соседнюю камеру. «Грев» аккуратно завернул в целлофан, потому что посылали через туалет. Там стоял большой мусорный ящик: кидаешь туда, крутанул колесо, и все упало в ящик.
Приставив кружку к стене, передал соседям, что на оправку мы первые идем, вы за нами, заберете «грев». За стеной отстучали: поняли. Вечером пошли на оправку, пакет я кинул в мусорный ящик. После нас на оправку повели соседнюю камеру, а через некоторое время по стене оттуда передали: «грев» дома.
А наша камера ожила немного. Мы сидели, пировали, даже анекдоты в ход пошли, и рассказы из жизни уголовников повеселее стали.
3
На другой день на утренней проверке в камеру вошел среднего роста худой остроносый майор и сказал:
– Я майор Жабин, старший оперуполномоченный.
– Очень приятно, гражданин начальник. Будем знакомы: Дим Димыч, рецидивист, – сказал я, подойдя к оперу.
Пригляделся к нему, заметил наколки на руках. Как потом оказалось, он сам был из бывших воров, но потом отошедших. Воевал, имеет награды. На теле у опера необычная даже для нашего преступного мира татуировка: вокруг всего тела выколота, толстая змея, голова которой выходит к горлу. Это не то что «купающаяся колхозница», или русалка, или портреты вождей. Его шедевр нательной живописи, по-видимому, принадлежал игле самого Рафаэля, только лагерного. Голову змеи майор прятал под галстуком рубашки. Как-то было жарко, и майор зашел в камеру без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей рубашки. Все зеки увидели голову змеи. Вообще-то змея придавала авторитета майору, зеки стали к нему привыкать и особой ненависти не выказывали.
Жабин сказал:
– Завтра все пойдете на работу. Годится?
– Да, да, – хором ответили камерники.
На другой день нас вывели на работу. Она заключалась в следующем: со свободы в тюрьму завозят детали для хлопкоуборочных машин, какие-то литые чугунные болванки с отверстиями. Наша задача с помощью бородков и кувалдочек килограммов по шесть выбивать в отверстиях болванок окалину, а потом на большом наждаке обтачивать сами болванки. Если дашь сто процентов выработки, то вечером дают к дневной пайке еще сто граммов хлеба и хорошую баланду, в которой чувствуется жир. Если не дашь сто процентов, то на работу вообще не выводят.
Честно говоря, работа мне не понравилась: хотя и не сложная, но не было у меня к ней призвания и духовного тяготения. Поэтому норму за меня делал заключенный по кличке Барбули, причем он сам предложил:
– Норма, Дим Димыч, маленькая. Ты не работай, я все сделаю за тебя и за себя.
Был этот Барбули, мягко говоря, немного чокнутый. Да оно и понятно: годами сидеть в камере и видеть почти одни и те же рожи, здесь у любого крыша может поехать. Захочет Барбули уйти из камеры на больничку, начинает ложки глотать. А один раз проглотил партию домино. Его увезли в сангородок на операцию. Когда вернулся оттуда, вскорости проглотил несколько крючков от кровати. Снова увезли в сангородок. После возвращения из сангородка Барбули признался мне:
– Ты знаешь, Дим Димыч, что мне хирург сказал? Сказал, операцию больше делать не будут, кишок почти не осталось. Если еще наглотаешься какой дряни, умрешь, больше вырезать нечего.
На что я ему слегка в резкой форме, но внушительно сказал:
– Барбули, перестань дурью маяться. А не то я сам тебе такую операцию в камере сделаю, что не только наш коновал, но и академик Виноградов со своей кодлой тебя после этого не соберет.
Подействовало. Барбули притих после этого. А когда нас стали водить на работу, то Барбули весь накопившийся в нем талант и изобретательность бросил на покорение трудового Монблана. И это его желание делать работу и за меня входило, по-видимому, в план его социалистических обязательств. А может, боялся, что я сдержу свое обещание насчет операции.
Работали в тюрьме в маленьком дворике. Как только нас выводили на работу, я уходил в картонажный цех к мужикам, там тоже «крытники» работали. Так я «закрывался бушлатом» (числился на рабочем месте, но не работал). В этом цехе делали бумажные коробки для магазинов. Мужики знали, что чифирь я не пью, заваривали мне купеческий, а я угощал их анашой. Давал им деньги, а они, если где чего достанут из продуктов, приносили мне. Хоть они были тоже «крытники», но не с таким тяжелым режимом, как у нас – «отрицаловки», сидящей в подвале. Продукты я потом относил в камеру своим ребятам, а то они отощали в доску. Так сидим в цехе, ребята «дурь» «шабят», я чай пью, разговариваем, рассказываю им прочитанные книги, стихи. Когда Вахидов доверил нашей камере переплетать библиотечные книги, ох, я тогда много их перечитал, да и сейчас постоянно читал и выписывал в дневник, особенно стихи, увлекшие меня в последнее время. Читал Гумилева, Блока, Бунина, Смелякова, Тарковского, Николая Заболоцкого, Ахматову, Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Есенина, Твардовского, Ольгу Берггольц, Фатьянова. Это уже наших современных поэтов. Как было не запомнить отрывок из Александра Блока:
Похоронят, зароют глубоко,
Бедный холмик травой нарастет.
И услышим: далеко, высоко
На земле где-то дождик идет.
А некоторые стихи очень удачно ложились на мотив лагерных песен, были близки по духу и по содержанию нашему преступному миру, особенно тем, кто хавал пайку в сибирских лагерях. А таких здесь было много. Ну как не вспомнить было стихотворение Николая Заболоцкого «Где-то в поле возле Магадана». Видимо, поэт сам там побывал, что придавало ему еще больший авторитет в наших глазах.
Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед…
Далее зекам, которые не прочитали в своей жизни ни одной книги, разве что «Курочка Ряба», «Муму» и «Колобок», не говоря о стихах, и тем очень нравились стихи, которые я им читал. Порой слушали затаив дыхание. Какого зека со стажем не тронет за душу до самой прямой кишки такое родное стихотворение Ярослава Смелякова «Земляки»? Каждому кажется, будто про него написано:
Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой.
Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок,
На нас – бушлаты и ушанки
Уже прошедшие свой срок.
И на ходу колодке встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый вечный,
Сорвавши голос, задаем.
Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
«Кто из Смоленска?
Кто из Тулы?
Кто из Орла?
Кто из Москвы?»
А у одного старого зека, по кличке Чмырь, даже слезы выступили на глазах, когда я прочитал всего лишь четверостишие из Бунина. Так, видно, тронули старика слова:
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой.
К концу рабочего дня в цех приходил Барбули, отдавал рапорт о проделанной работе:
– Все, Дим Димыч, класс. Двести процентов сделал как леду.
Напоследок мужики подкурят «плана», и мы расходимся по камерам.
У солдатика Федота «крытая» кончилась, он ушел на «эстафету» (этап) и уехал в зону. На его место к нам в камеру кинули молодого парня Юру Пряхина, тоже солдата после демобилизации, четверых убил. Парень оказался славным малым, с ним я крепко подружился и поддерживал его, как мог, и кликуху ему дал Робин Гуд. Это после того, как Юра рассказал мне свою историю. Вот о чем поведал мне бывший десантник, отличник боевой и политической подготовки.
– Были у меня, Дим Димыч, мама и сестренка младшая Ирочка. Теперь никого, почитай, нет. Служил я на Черном море в морской пехоте, мама работала, Иришка в техникуме училась. Все было хорошо, как у людей. Последние два месяца перед демобилизацией я не получил из дома ни одного письма, хотя до этого приходили раз-два в месяц. Меня это как-то насторожило. В чем дело, почему? Но я еще близко не догадывался, что случилось. Может, думал, мама приболела и не хотят меня расстраивать перед дембелем. И вот приезжаю в родной город, почти бегу домой, звоню – бесполезно, никто не открывает. Я к соседу дяде Мише, инвалиду. Он почти всегда дома, мы раньше у него иногда ключ оставляли от квартиры, помогали ему, как могли: продукты покупали, мама стирала ему, убирала перед праздниками. Дядя-то Миша и поведал мне эту страшную историю. В нашем районе два года банда насильников бесчинствовала, шесть человек их было, молодых лоботрясов под предводительством Коржика. Я до армии знал этих ублюдков, но никогда с ними не дружил. И рожи у всех как на подбор были дебильные, прыщавые. А может, Бог таким образом нечисть метит. Троим по восемнадцать лет было, двоим по семнадцать и одному шестнадцать. Двое только в ПТУ учились, остальные не учились нигде и не работали. Развлекались в основном, благо родители у всех богатые: торгаши, спекулянты и жулье сплошное. А чем эти подонки развлекались, так напьются, девчонок в парке ловят и насилуют. И им хоть бы что. Родители пострадавших девчонок заявляли не раз в милицию. Бесполезно. Откупались. Так мало того, родственники этих подонков начинали запугивать девчонок и их родителей. Некоторые не выдерживали, забирали свои исковые заявления. А беспредел вспыхивал с новой силой. Перед Пасхой эта банда поймала вечером Иришку, – шла с тренировки, гимнастикой занималась. Затащили в кусты и издевались, как хотели. Никакие мольбы, никакие просьбы на этих извергов не действовали. А потом взяли и повесили ее на дереве, чтобы не заложила их. Когда мать узнала, то парализовало ее, и язык отнялся. В больнице третий месяц лежит.
Сделав паузу, выкурив сигарету, Юра продолжал:
– После этого рассказа дяди Миши я три дня пил у него, не мог даже через порог родной хаты переступить, так все меня потрясло. Сходили с дядей Мишей на кладбище к Иришке. Мы ведь без отца жили, так я ей и за брата и за отца был, на моих руках, считай, выросла. И на ж тебе. Здесь же на могилке я и клятву Иришке дал, что она будет отомщена, и ни один мерзавец не уйдет от кары моей и Бога. Как сказал, так и сделал. Сначала, правда, обошел нескольких девчонок, ранее пострадавших от банды. Поспрашивал их самих и их родителей. И везде были слезы, когда рассказывали, сколько горя, издевательств и угроз натерпелись от банды и их родственников. Потом по вечерам и ночью я стал выслеживать банду, ловить мерзавцев по одному, когда они расползались после своих гульбищ, и убивать. А этому ремеслу, слава Богу, меня в армии добросовестно учили. Сделаю сзади захват на хомут и душу. Головы мразям отрезал, такая злость на них во мне кипела, и относил ночью на кладбище, ставил на могилку в ногах у Иришки, чтобы видела головы палачей у своих ног. Четверым я успел отрезать головы, Коржик вторым был. А двое успели сквозонуть, уехать из города, уж больно сильный переполох в городе начался, только и говорили о бошках отрезанных и сваленных на кладбище у одной могилы. Сашка Карлик и Гурам Окоп поняли, кто и за что мстит их банде, вот и сорвались. Да и четвертый, Гришка Брэнд, никуда по вечерам и днем из дому не стал вылазить. Пришлось его днем на хате долбануть. Когда позвонил ему в квартиру, он из-за двери спрашивает: «Кто тут?» Отвечаю тонким голосом: «Я». «Кто я?» Говорю: «Смерть твоя». Пришлось выбить дверь, так он мерзавец успел выпрыгнуть с третьего этажа, но далеко не ушел. Со сломанной ногой далеко ли уйдешь? Достал его, затащил в какой-то подъезд, как он ни орал и ни сопротивлялся, и отрезал ему голову. Кинул ее в сумку и оторвался. Дома я не жил, вся милиция была поднята на ноги, на меня устроили настоящую облаву.
В лесу прятался, как волк, и на кладбище по ночам. Воинскую часть подключили, с автоматами лес прочесывали.
Взяли все-таки, против армии не попрешь. Был суд, рассказал все как есть, мне нечего было скрывать, я бился за правое дело, вершил возмездие палачам. Да и народ был на моей стороне. Когда зачитали приговор – двенадцать лет, три года тюремного режима, так люди кричали: «Свободу, свободу!» Я даже в последнем слове на суде сказал: «Ни о чем не жалею. Об одном только жалею – два мерзавца гуляют на свободе, а сестренка в могилке лежит. Но мой карающий меч и их достанет, я не век в тюрьме собираюсь сидеть».
После этого рассказа Юрки я сказал ему:
– Ты правильно, парень, поступил. На твоем месте я бы сделал то же самое. А поэтому ты есть Робин Гуд, боец за справедливость. Так теперь я буду тебя звать.
– А еще, Дим Димыч, я вот о чем думаю: хочу побег совершить да закончить начатое дело. Должен же я свою клятву перед сестрой выполнить? А там будь что будет.
– Не спеши, парень. Сейчас это почти невозможно. Кончится «крытая», и, если попадем в одну зону, я «уйду на траву» и тебя с собой возьму. Я тоже об этом думаю, сам по максимальному сроку канаю, и за плечами у меня уже без малого пятнадцать лет «кичманов». Что же мне теперь, всю жизнь сидеть?
4
В нашей камере сидел цыган по фамилии Паркин, мужик вздорный и болтливый, мелет языком что надо и не надо. А в соседней камере сидел Толик, по кличке Душанбе. Зашел как-то в камере разговор про этого Толика, а Цыган говорит:
– Да что ваш Толик? Он никто. Выламывается только да «ерша гонит».
На самом деле Толик был, как у нас в преступном мире говорят, в калашном ряду парень хороший, уркач, одним словом, «блатняк» (человек из уголовной среды).
Я послушал Цыгана и сказал:
– Харе (хватит), Цыган, прекрати болтать, что не надо, «кочумай» (молчи). А свои мнения оставь при себе и не забывай, что ты в «ломбарде» (тюрьме) и с тебя могут спросить за твои слова, и крепко. Так что сиди и «кочумай».
На другой день мы вышли на работу, старички позвали меня на чай. Мы сидели в цехе и разговаривали, когда прибежал Барбули, крикнул:
– Дим Димыч, Цыгана кокнули!
Я выскочил во дворик, смотрю: Цыган сидит с пробитой головой. Его Погос ударил молотком. Цыган был еще живой. Я надел на него чепчик, поднял с земли и повел к калитке, где стоит надзиратель. Тот нажал кнопку, дверь открылась. Цыган сделал пару шагов за калитку и рухнул замертво. Прибежали надзиратели, Погоса увели, а нас сняли с работы.
Вечером в камеру пришел Жабин, сказал:
– Все, на работу ходить не будете. Никак не можете вести себя по-человечески.
И поканали наши дни опять под замком. Как-то зимой Жабин изловил меня на «решке», я «грев» принимал, выписал пятнадцать суток карцера.
На третьи сутки за мной в камеру пришел надзиратель, свернул постель, вынес в коридор, я махнул ребятам на прощанье рукой и пошел в карцер. На фронтоне изоляторов этот надзиратель передал меня другому надзирателю. В тюрьме в подвале было три фронтона. Помимо фронтона изоляторов, еще фронтон смертников, кто ждет утверждения приговора, и фронтон «крытников», это кто на тюремном режиме.
На другой день ко мне в «трюм» кинули парня-татарина лет двадцати. Он получил год тюремного режима за отказ в лагере от работы. Карцер был не приведи Господи, могила раем покажется. Дунешь – пар идет, а в углах и на потолке иней лежит. Парень просидел в камере на корточках часа четыре. Когда я глянул на него, он весь был синий-пресиний. Я понял, парень до утра не дотянет, окочурится. Стал я бить в дверь, пришел надзиратель.








