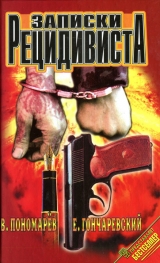
Текст книги "Записки рецидивиста"
Автор книги: Виктор Пономарев
Соавторы: Евгений Гончаревский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
Глава 3
НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1
Опять камера, встреча с кентами, а также врагами, их всегда хватает. Не лишним будет повторить: получишь срок – это еще полдела, а выйдешь на свободу или нет – это бабка надвое гадала, особенно, если срок большой. От долгих лет тюрем и лагерей у меня появилась какая-то злоба, мстительность, чего раньше не было, да и нервы стали немного сдавать.
В тюрьме я снова попал в четырнадцатую камеру, а в ней, как всегда, самое малое шестьдесят-семьдесят человек. Кто этапа ждет, кто «по блоку идет» из одной колонии в другую. А у меня одна мысль, как бы добить оставшиеся два года без несчастья.
В камере встретил Колю Калмыка, с которым мы удавили Юрку Окорока. Я посмотрел на Колю и сказал:
– Ну что, Коля, может, еще кого удавим?
Он засмеялся и ответил:
– Можно, Дим Димыч, но лучше не надо. Надо на свободу выйти, а то этот «кичман» может никогда не кончиться. Вот только в какую зону попадем на этот раз?
Ночью нас взяли на этап, погрузили в вагонзак и привезли в город Бекабад. Зона знакомая, но хреновая. Неужели опять начнут в БУРе голодом морить? Уж лучше пусть осудят до конца срока на тюремный режим, и я спокойно досижу в подвале «крытой».
В зоне нас встречал заместитель начальника лагеря майор Кондратов и замполит майор Корнев. Когда я увидел замполита, сразу подумал: «Что-то вид у него неважный, и постарел сильно».
Первым делом нас повели во «вшивобойку», а после бани раскидали по отрядам, по баракам. С Колей мы попали в один барак. От ребят узнали, что Макс и Мишка Перс освободились. Сережа Швед ушел по блоку на другую зону. Мне «идти в эмиграцию» смысла уже не было. Еще три года назад смысл был, а тут, когда «катушка на размотке», какой смысл бежать? Лучше спокойно досидеть.
Из кентов остался один Маноп, многие ребята ушли по блоку. Я спросил Манопа:
– Что-то замполит наш сильно постарел?
– Так у него сына посадили за «пушной разбой», дали четырнадцать лет. Вот он и ходит как тень. И отношение к зекам переменил в лучшую сторону.
С Калмыком мы попали в бригаду гальванщиков. Работа вредная. Там, где ванна с водой была, еще ничего, а где с кислотой, так порой дышать невозможно. Когда опускаем кронштейны в кислоту, то противогазы надеваем. Сам цех, где мы работали, был большой, метров семьдесят, но гальваника занимала где-то пятую часть, всего две комнаты с ваннами. Остальную территорию занимал сварочный цех, где варили кронштейны. Для каждого сварщика была отдельная кабина.
Месяц мы поработали с Колей, все было нормально. Как-то вышли на работу во вторую смену с шести часов вечера до двенадцати ночи. На улице стоял тихий теплый вечер. Мы загрузили в кислоту первую партию кронштейнов, и я сказал Николаю:
– Пойду посижу немного на воздухе за цехом, а ты, Коля, смоешь полы и тоже приходи, – и я ушел.
До этого в зоне я видел двух парней, у одного кликуха была Трахома, у другого – Филин. Оба парня рослые, крепкого сложения, но я как-то не принимал их всерьез. А они оказались кентами Юрки Окорока и каким-то путем узнали, что Коля удавил их кента в камере на пересылке. Знали они или нет, что я помогал Калмыку, сказать не могу, не знаю. А они, видимо, решили свести с Колей счеты, убить, одним словом. Но когда я сидел на входе в цех со стороны гальваники, я не видел, чтобы они заходили. Очевидно, они вошли в цех с другой стороны, прошли по цеху и в одной из комнат гальваники увидели Колю. Он сидел к дверям спиной и мыл ноги из шланга. Когда дверь открылась, он повернул голову и увидел их. Трахома с налета ударил Колю по голове железным прутом. Коля сильно вскрикнул. Я услышал, почуял недоброе, вскочил и бросился в цех. Когда открыл дверь, то увидел, как они долбят Колю прутьями. В углу комнаты стоял железный совок для мусора, я схватил его. Филина я сразу вырубил, ударив совком сзади по голове, а Трахому ударил совком сбоку в пах. Он заорал и сел на пол.
Я приподнял Колю с пола, одна рука у него висела, кожа на лбу была сильно содрана, но голова не пробита. Видно, удар получился вскользь. Но другие удары достигли своей цели, Коля был без сознания. На меня такая злость накатила и ярость, что действовал я уже на грани невозможного. Схватил прут этих фраеров, которым они Колю били, и сломал Филину руки, а Трахоме ноги. Клал конечности на кронштейны и бил прутом. Только треск кости стоял на весь цех.
Тут в комнату забежал Толик Шаповалов – бригадир сварщиков. Увидел эту картину, схватил меня сзади и вырвал прут из руки, спросил:
– В чем дело, Дим Димыч?
– Да вот пацана приходили убивать.
– А он дышит?
– Дышит, да, видать, по голове сильно попало. Надо в жилую зону как-то отправить. А этих паскуд в ванну закинуть с кислотой. Там от них до утра ничего не останется, – сказал я. – И пусть думают, что «ушли на траву».
– Ты что, с ума сошел? Это же, Дим Димыч, галимый срок!
– Ты, Толя, не беспокойся за них. Тебе ничего не будет. Я один за все отвечаю, век свободы не видать. Давай хоть пацана на улицу вытащим, – сказал я, и мы вдвоем подняли Колю и понесли на улицу.
Жаль, Толян помешал, не дал бросить подонков в кислоту, и «не долго б мучилась старушка в высоковольтных проводах». А трупов нет – и «дела» нет.
На улице к нам подошел бригадир красильного цеха, спросил:
– В чем дело?
Толик объяснил, и бригадир побежал за машиной. Первыми прибежали надзиратели, потом подрулила машина. Погрузили Колю и тех двоих, я тоже запрыгнул на машину. В санчасть Колю я сам заносил, а тех – зеки. Медсестра сделала Коле укол, он долго не приходил в себя, потом очухался.
– Ну, Коля, порядок, – сказал я.
– А тех кто изуродовал? – спросил майор Кондрашов.
– Я.
– Отведите в изолятор, – приказал майор надзирателям.
Меня посадили в изолятор, а через три дня перевели в БУР.
Дали матрац и книги. Пришел «сыч» (следователь), расспросил, как дело было. Я рассказал, «сыч» ушел, и потекла моя камерная жизнь. После больницы в камеру кинули и Трахому с Филином, только в другую. К ним ходили врачи, а ко мне никто не приходил.
И вот суд. Судили в клубе. Трахома был на костылях, ноги в гипсе. У Филина руки были в гипсе и висели на бинте через шею. Они признались, что собирались убить Калмыка, а я им помешал.
Короче, обоим дали по двенадцать лет особого режима, а мне весь оставшийся срок заменили тюремным режимом. Уже в камере БУРа я подумал: «Вот ведь как бывает. Ехал в зону, думал о тюремном режиме. Как думал, так оно и получилось».
В зоне Коля собрал мне на дорогу еды и шестьсот рублей. Принесли ночью в камеру. И кто? Вот уж никогда не мог подумать. Старший надзиратель Куликов. Когда он давал мне деньги через кормушку, сказал:
– Это тебе Калмык собрал, которому ты жизнь спас.
Я хотел отстегнуть Куликову пятьдесят рублей, но он сказал:
– Не надо, Дим Димыч. Это тебе, мне уже дали. Ты опять в каменный мешок едешь, тебе там нужней.
Я никак не мог понять, что за метаморфоза накатила на Куликова. Ведь я его знал как змея злющего-презлющего, причем постоянно пьяного. Он и сейчас дышал на меня через кормушку сивушным перегаром так, что мне хоть самому закусывай.
– Ладно, начальник, спасибо тебе, – сказал я. – Не поминай лихом.
Куликов ушел, а я из хлеба стал делать клейстер. Обложки собственных книг я разорвал, в них спрятал деньги и аккуратно проклеил. Уж я-то знал, как в «крытой» шмонают надзиратели. Через них и майора Жабина пронести что-нибудь в камеру почти невозможно.
Потом в БУР через предзонник приполз Коля Калмык, повис на решетке. Принес новые кирзовые сапоги и носки теплые. Причем сапоги не простые, а у которых в каблуках и подметках была затарена анаша. Я спросил Колю:
– А со здоровьем как?
– Все ништяк, Дим Димыч.
– Ну, смотри, будь осторожен. Может, еще найдутся Юркины кенты. Будь всегда начеку, без швайки не ходи. А сейчас давай иди, чтобы не «спалиться».
Коля спрыгнул на землю и уполз.
Через неделю меня отправили на пересылку, а из нее уже в тюрьму. Нас было шесть человек, кто шел на тюремный режим. В тюрьме нас сначала кинули в маленькую камеру, переодели в полосатые робы. У кого были вольные вещи, то их сдали в каптерку, взамен получили квитанции. Начался шмон. Старшего опера почему-то не было. Шмонали нас надзиратели – пожилые узбеки. Все пьяные, с красными мордами и глазами. Шмон прошел нормально для нас. Старший по корпусу сказал:
– Посадите их в одну камеру до прихода майора. Он придет, сам пускай и раскидывает по камерам.
Нас посадили в пустую камеру. Мы расстелили постели и легли отдыхать. Ребятам, а они все первый раз пришли на тюремный режим, я рассказал про майора Жабина и какая классная змея наколота у него вокруг всего тела. Вот только история умалчивает, где он делал этот шедевр.
Примерно через час в камеру вошел Жабин, спросил:
– Сколько вас человек?
– Шесть, – ответил я.
Увидев меня, майор заулыбался, сказал:
– О, Дим Димыч, какая радость, ты опять к нам приехал. А то мы от тоски чуть не подыхаем. Что натворил? Опять кого-то изуродовал?
– Да не за себя, гражданин начальник, за товарища.
– Сколько сроку осталось?
– Два года, а от вас на Север поеду, в ссылку к белым медведям.
– А сидеть как думаешь? Опять будешь сетки на подвале рвать? Учти, сейчас я наварил толстую проволоку, уже не сломаешь.
– Да нет, гражданин начальник, тихо-тихо буду сидеть. На Север надо поехать, давно там не был. Хоть там пожить немного. А сейчас работать намерен, – ответил я майору.
– Так, – сказал Жабин, – пойдешь в шестьдесят пятую камеру. Увести!
2
Когда я вошел в камеру, насвистывая «Солнце всходит и заходит, а в моей тюрьме темно», меня встретили товарищи: Витя Кряж, Тутуй. Мы вместе были в зоне Навои. Витек посмотрел на меня, сказал:
– Я, Дим Димыч, как чувствовал, и ребятам сказал, что ты в зоне долго не продержишься. И вот ты уже тут.
– Ты знаешь, Витек, мне всю жизнь не везет. Я родился под какой-то звездой несчастливой. Когда в сангородке лежал, вот тогда только и тормознулся. А так бесполезно. Как появляюсь в зоне, так ЧП обязательно. Ну а вы как живете? В камере есть квитки на отоварку в ларьке? – спросил я.
– Да вот десять рыл нас в камере, а всего четыре квитанции. Жабин, сука, иногда выводит на работу, иногда – нет.
Я дал ребятам один «баш» анаши. Они забили «Беломор» и подкурили. Потом из обложки книги я вытащил триста рублей, шестерым дал по пятьдесят и сказал:
– Надо Жабина уговорить, чтобы эти бабки вы положили на квиток. Тогда бы мы могли каждый месяц ништяк оговариваться. Ясно?
Мы лежали на нарах, и я рассказывал ребятам, как в этот раз администрация колонии Бекабада отнеслась ко мне по-божески.
– Я и на суде канал как главный свидетель, а то, что я изуродовал Филина и Трахому, так суд вообще не взял во внимание.
В это время под землей истошно завыла сирена, а через минуту сильно тряхнуло. На территории тюрьмы стояла высокая водонапорная башня, так она сразу рухнула на землю. И такой грохот стоял у нас под землей, будто гром прокатился по камере. И снова стало трясти, только уже без остановок. Кое-кто из зеков полез под нары. Я им говорю:
– Куда вы, пеньки, лезете? И так на пять метров мы под землей, а если завалит, то вообще не найдут.
Я подошел к двери. Обычно по коридору слышно движение, а тут – тишина. Как потом выяснилось, все надзиратели удрали из тюрьмы. Потом вернулись, когда пришли в себя и привыкли к тряске.
Ташкент трясло еще месяцев пять хоть и постоянно, но уже не так сильно. Тюрьма, к сожалению, не развалилась, за исключением водонапорной башни и одного угла здания. Там в одиночной камере человек сидел, так ему ноги отдавило, калекой стал.
Но жизнь продолжалась. В Ташкент из всех республик Союза стали приезжать строители. Каждый день «ящик с хипишем» передает: «Ташкент встречает строителей с музыкой, цветами». Слышны смех, музыка, песни. Жизнь на свободе кипела и плескалась через край. Город быстро построили, считай, заново. Но не обошлось без преступлений.
Над нами была транзитная камера, а через нее шел этап за этапом. Мы постучим, спросим:
– Откуда этап?
– Строители Ташкента, – отвечают нам.
Срока много не давали: год-два, от силы – три. Но тюрьму набили полную. Тюрьма гудела от народа, как растревоженный улей. Крупных краж и грабежей в городе не было, в основном попадали за хулиганство. Они и в камерах постоянно выясняли отношения. Нам в подвале хорошо было слышно, как наверху питьевые бачки по камере летают. Потом всех развезли по лагерям, и стало тихо.
А у нас жизнь продолжалась, как всегда, однообразно: подъем, оправка, завтрак, прогулка. Если кто записывался к врачу, вели наверх. Я упорно не хотел этого делать. Знал, что Галина Александровна работает, и не хотел бередить ей и себе душу. Зачем мешать человеку жить? Что я могу ей дать? Ровным счетом – ничего.
Майор Жабин относился ко мне хорошо. Всю камеру выводил на работу, мы старались режим не нарушать в знак благодарности майору за то, что он деньги записал всем на квиток. Вся камера стала отовариваться в ларьке, жизнь стала веселей.
Как-то проходил этап через верхнюю транзитную камеру. С этапом шел Валек, кент Завена, которых в лагере Мурунтау я загнал на вахту к солдатам. Он, видимо узнал, что я в подвале сижу, залез на решетку и начал кричать:
– «Крытники», где там Дим Димыч?
Я залез на решетку, крикнул:
– Здесь я!
– Ты еще живой?
– Живой! Живее всех живых, – ответил я.
– Ну, погоди! Мы еще встретимся с тобой, поговорим.
Мне стало не по масти его понтовство. Я понимал, что он понтуется перед ребятами, с которыми идет этапом. Поэтому я сказал ему:
– Слушай, Валек, ты что, забыл, как с Завеном бежали от меня на вахту? Что же ты тогда со мной не поговорил? Твое счастье, что я не догнал. А то свои яйца ты бы сейчас в зубах таскал. Сейчас наверху ты храбрый до ужаса, поскольку разделяют нас пять метров подвала, решетки и метровые бетонные стены. А жаль. Но даст Бог, еще встретимся, поговорим. Только на этот раз ты у меня не сорвешься, скальп я с тебя сдеру, это точно. А пока, Валек, мой тебе совет: придешь на зону, сразу беги в «петушатник» (место сбора самых презираемых в зоне). Там твое место.
Честно говоря, для настоящего «блатняка» страшнее оскорбление трудно придумать.
Пройдет много лет, попаду я в Мордовию на особый режим, встречу там Ромика из Ташкента. Он-то мне и расскажет о судьбе Валька. Тот освободился, но за то, что он убежал на вахту к солдатам, воры его к себе не принимали. Он стал выступать, лезть на рога. Так один уркач в чайхане возле Алайского базара Валька зарезал.
3
Прошел год тюремного режима, а я не давал Галине Александровне о себе знать. И все-таки не выдержал, записался к врачу.
Утром меня вызвали. Я зашел в кабинет, майор сидела за столом и что-то писала. Не отрывая глаз от писанины, спросила:
– На что жалуетесь?
– На судьбу, – ответил я.
Галина Александровна подняла на меня глаза и опешила, лицо ее покраснело. Она встала, закрыла дверь, обняла меня и поцеловала.
– Опять, Витя, что-то натворил? Опять в подвале?
– Да.
– Давно?
– Уже год, второй пошел.
– Ну как тебе не стыдно? Столько времени не давал о себе знать. Ты просто эгоист. Ну как тебя еще назвать? – стала возмущаться врач.
– Галина Александровна, поймите меня правильно: у вас своя жизнь, у меня своя, и они не совместимы. Я – бандит-рецидивист, а вы – порядочная женщина с высоким положением в обществе. Я для вас просто несчастье в жизни, – сказал я.
Женщина схватила руками мою голову и стала кричать мне в лицо:
– Замолчи или я убью тебя!
Потом она обмякла, села, вернее, хотела сесть на пол, но я ее поймал и посадил на кушетку. Стал успокаивать. Она попросила воды, я налил, она выпила.
– Галина Александровна, ну зачем так расстраиваться? – сказал я. – Я думал, за то время, что мы не виделись, вы вышли замуж, и я не хотел вам мешать.
– Так вот, Витя, я на месяц кладу тебя в санчасть. Я тебе покажу, где раки зимуют и кто кому мешает. А сейчас – марш в камеру! Возьми кружку, ложку, остальное я тебе выдам. Иди, а я распоряжусь, чтобы тебя в отдельную палату положили.
На целый месяц мне обломился кусок счастья и радости. Каждое дежурство Галины Александровны мы встречались и любили друг друга до изнеможения. Я даже забывал, что в тюрьме нахожусь. В конце месяца она принесла мне трико, теплое нижнее белье, трусы, сказала:
– В универмаге купила. Скоро ты опять уедешь далеко на север. Будешь носить и вспоминать, что была у тебя тайная тюремная любовница, которая любила тебя больше жизни.
Заметила, как я в обложки книг аккуратно вклеиваю деньги, спросила:
– Ты что делаешь?
– Это на дорогу, пока буду ехать на Север. Через конвой еду буду покупать и все, что надо.
– А сколько у тебя денег?
– Двести рублей осталось.
– Ой, – сказала врач, – что это за деньги? А больше ты можешь вклеить?
– Хоть миллион, – ответил я.
– Завтра, Витя, я пойду сниму со сберкнижки. У меня есть двадцать четыре тысячи, две тебе сниму. Пусть в дороге ты истратишь тысячу, а тысяча тебе на первое время, пока на работу устроишься. И книг еще принесу.
Так она и сделала, а потом целый вечер я вклеивал деньги в обложки, а Галина Александровна, как придирчивый контролер, проверяла мою работу.
Вот и день подошел, когда мне объявили приготовиться на этап. На этап я собирался в своей камере, попрощался с ребятами. Меня вывели и кинули в транзитную камеру. Минут через десять меня вызвали и повели к врачу. Когда я вошел в кабинет, Галина Александровна сказала:
– Возьми сумку, здесь продукты на дорогу, остальное у тебя есть.
– Телогрейки нету, – сказал я.
– Сейчас я скажу, тебе принесут.
Мы обнялись, стали целоваться. По щекам майора катились слезы. Передо мной стояла маленькая, толстенькая, увядающая женщина. А сколько она сделала мне добра и где – в тюрьме. Мне за всю мою искалеченную жизнь никто столько не сделал, сколько она. У меня сердце заныло. Мы стояли, обнявшись, и молчали. Потом я достал из кармана платочек, вытер начальнику санчасти щеки и глаза, сказал:
– Я напишу, моя дорогая.
Она посмотрела на меня, сказала:
– Там-то хоть веди себя нормально.
Я взял сумку с продуктами и пошел по коридору. Навстречу мне уже шел надзиратель, он сказал:
– Все вещи, Дим Димыч, клади в камере и пойдем в баню. Это указание Жабина.
Когда я помылся в бане и вышел, прибежал парень-каптерщик, спросил:
– Ты Дим Димыч?
– А что, не похож после бани? – пошутил я. – Он самый, век свободы не видать.
– Вот тебе телогрейка. – И парень дал мне новую телогрейку.
Я вошел в транзитку, там уже было человек пятнадцать этапников. Все они шли в ссылку на Север из лагерей. С тюремного режима я был один. Мы познакомились, а через полчаса нас сажали в «воронок». В стороне стояли майор Жабин, капитан ДПНК – дежурный по тюрьме и начальник санчасти майор Галина Александровна. Наши взгляды с ней встретились. Какое-то время мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. Потом я резко повернулся и прыгнул в «воронок». Больше я ее не видел в своей жизни. Кончилась моя тюремная любовь на грани невозможного.
4
На железнодорожной станции нас погрузили в вагонзак. И начался наш долгий путь под стук колес. Ехали мы два месяца и только до Рязани добрались. Тут произошла смена конвоя. Дальше на Киров нас сопровождал вологодский конвой. Такого хренового конвоя я не припомню в своей биографии, хотя исколесил в вагонзаках всю страну. Начались беспорядки, поводом тому был беспредел конвоиров.
Кульминация произошла на одной большой станции. Зеки стали просить солдат, чтобы их вывели на оправку. Те в ответ:
– Сейчас никого нет из начальства.
– Ну, что там, старшой, скоро оправка? Мочи нету.
– Скоро, скоро, – отвечают конвоиры, а время идет.
В вагонзаке человек семьдесят, из них – двадцать женщин. Женщины начинают кричать, мужики стучать. Начальник конвоя, мудак лет тридцати, высокий, курчавый, подошел к нашей камере, спросил:
– Какого… стучите?
Один из зеков говорит:
– Два часа тебя, козла, вызываем. А ты не идешь, чтобы выпустить нас на оправку. Ты что, хочешь, чтобы мы прямо здесь срали?
– Ты, очумевшая рожа, прекрати так разговаривать!
– Да ты вынудил с тобой так говорить.
– Конвой, а ну откройте камеру и отведите его в одиночку.
Солдат открыл камеру, но начальник конвоя сам вошел, поставил локти на вторую полку сказал зеку:
– Собирайся. Выходи.
В нашей камере было человек пятнадцать, но все молчали. Тогда я сказал:
– Гражданин начальник, делайте оправку, а он из камеры никуда не пойдет.
– Замолчи, не твое дело, – ответил начальник, схватил парня за ворот куртки и стал тянуть.
Я поднялся с полки и со словами:
– Капитан, что вы делаете? Вы же офицер, – руками ухватился за полки, а ногой сильно ударил капитана в живот. Капитан вылетел из камеры и упал на задницу в проходе вагона. Солдат в это время выхватил пистолет и выстрелил в пол возле камеры. Зеки стали кричать, материть конвой. Наш вагон стоял как раз против вокзала. Люди на перроне столпились, не поймут, в чем дело, что за крики. Капитан вскочил взбешенный, видимо, его еще никто так не бил, и кинулся снова в камеру, но уже не на того парня, а на меня. Ребятам я сказал:
– Тормозните его чуть-чуть в дверях, я ему еще вмажу.
Двое схватили капитана за руки, а я опять, держась руками за полки, сильным ударом ногой в грудь вышиб его в коридор.
Он опять упал. Солдат снова выстрелил в пол, наставил пистолет на меня и сказал:
– Еще одно движение – и я тебя пристрелю.
А на перроне народ уже шумел вовсю. В вагон поднялись два милиционера: майор и капитан. Стали спрашивать, в чем дело. В вагоне стоял ужасный шум, я закричал:
– Тише! Надо объяснить, в чем дело.
С трудом, но объяснили ментам, что конвой не давал оправку, воды.
– А кто стрелял? – спросил майор.
Мы показали на солдата. Капитан записал его фамилию и фамилию начальника конвоя, а мне сказал:
– Выходи из камеры.
Я вышел в проход. Мне надели наручники и посадили в камеру с названием «двойник». А все зеки наперебой стали требовать замены конвоя. Поезд тронулся. Часа через два к моему «двойнику» подошел начальник конвоя, чтобы снять с меня наручники. Но я демонстративно отвернулся. Капитан ушел.
Ребята из камеры спросили:
– Дим Димыч, как ты там?
– Еще держусь, но терпение подходит к концу: «браслеты» сильно жмут.
Зеки позвали начальника конвоя:
– Начальник, сними с человека наручники. Без рук может остаться. Ты же, начальник, сам во всем виноват.
Капитан прошел по вагону, снова подошел к моей камере, посмотрел на меня и позвал солдата:
– Открой камеру.
Тот открыл. Капитан вошел в камеру, снял наручники. На этот раз я выпендриваться не стал.
– Уведи его в камеру, – сказал капитан солдату, а сам ушел к себе.
Солдат отвел меня в общую камеру.
Так мы доехали до города Кирова. Холодина кругом, снег. Наш вагон отцепили, загнали в тупик. Пришла большая кодла офицеров и солдат с автоматами и весь наш конвой вместе с начальником арестовала и куда-то увела. На его место дали другой конвой. У солдата я спросил:
– А этих куда теперь?
– Судить будут за превышение власти в корыстных целях.
В вагонзак вошел новый начальник конвоя: маленький, толстый, с красным лицом. Он оказался прямой противоположностью предыдущему как по форме, так и по содержанию.
– Следственным приготовиться на высадку в тюрьму, а ссыльным остаться, будем следовать дальше, – сказал толстячок.
Следственных увезли в тюрьму, остались только мы – пятнадцать человек ссыльных.
Начальник спросил:
– Деньги есть?
– Есть, – ответил я. – Два месяца везли, как скот. Так хоть в оконцовке конвой человеческий попался.
Я вытащил двести рублей, сказал:
– Начальник, на стольник вина возьмите, на стольник – жеванины.
Начальник организацию банкета для зеков поручил солдатам. Им тоже я дал полтинник за их труды.
Солдаты только успевали таскать нам в камеру бухалово и еду. Совсем другая жизнь пошла: пили, ели, песни пели. А пустые бутылки отдавали солдатам, те их выбрасывали из вагона. Это на случай, если какое начальство заявится в вагон.
Перед утром наш вагон прицепили к поезду Киров – Котлас и мы поехали. После обеда поезд остановился. Начальник конвоя сказал мне:
– Пономарев, выходи, ты приехал. Станция Панасюк, это лесопункт. А документы твои я отдам в центральном леспромхозе в Лунданке. У тебя в путевке написано: Лундановский леспромхоз, станция Панасюк.
Когда я вышел из вагона, глянул: кругом сугробы, домов не видно, одни трубы торчат. Я стоял среди этого белого безмолвия в одной рубашке, без головного убора и с маленькой сумкой в руке. Телогрейку я отдал одному кенту из Грозного Юрке Тюле, у него ничего не было: ни денег, ни одежды. Хорошо еще на мне сапоги были и теплое белье, что мне подарила Галина Александровна. А был-таки конец года, до Нового, 1969 года оставалось три дня. Что меня успокаивало – это деньги, почти две тысячи рублей. Я отошел немного от вагона, мне все еще не верилось, что я на свободе, что и мне «солнце засветило». Повернулся к вагону, конвой смотрел на меня. Я засмеялся и сказал:
– А стрелять не будете?
Начальник конвоя тоже засмеялся, ответил:
– Нет, нет! Можешь смело идти. Что, не верится?
Еще бы, отмотать пятнадцать лет с перерывами на побеги, и вдруг так просто: иди, стрелять не будем.
– А сколько лет тебе, Пономарев?
– Тридцать два будет скоро.
– Когда же ты успел намотать столько?
– Да я ж, начальник, с детства по тюрьмам и зонам скитаюсь.
– Смотри, парень, не попадай больше. Прощай.
– Прощай, начальник! Прощайте, ребята!
Поезд тронулся, а я пошел через железнодорожное полотно.








