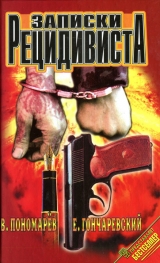
Текст книги "Записки рецидивиста"
Автор книги: Виктор Пономарев
Соавторы: Евгений Гончаревский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
Понемногу я начал собирать на дальнюю дорогу чай и курево. Мне хорошо помогли местные ребята, пятигорские. Как-то закинули в камеру парня-грека небольшого роста в старой желтой куртке. Я обратил внимание, что он постоянно ходит по камере. Потом остановится, вытащит откуда-то «баш дряни» (порцию анаши), зарядит беломорину, подкурит «сам на сам» (один) и опять взад-вперед. Я позвал его к себе наверх, сказал:
– Я на Север еду северное сияние смотреть. Дай мне немного анаши. Приду на «дальняк», хоть будет чем законников угостить и братву нашу.
– Какой базар? – ответил парень, оторвал подошву от ботинка, вытащил «лепешку» и протянул мне. – На, возьми.
Я залез на нары, позвал молодых ребят, чтобы помогли мне тырить анашу. У меня были с собой две толстые книги. Я приготовил клейстер из хлеба, ребята раздвоили обложки книг, тонкими лепешками засунули в них анашу и аккуратно проклеили, чтобы углов не было видно. Потом ребята собрали мне сто пачек курева и чая.
Ушел я на этап полностью «заряженный». Об одном я только Бога просил, чтобы в Ростов не завозили. Ребята меня предупредили, что там самая беспредельная тюрьма и бьют дубинками. На наше счастье, в Ростове нас уже ждал другой «Столыпин», и нас только перекинули из одного вагона в другой. И опять мы в дороге, только бесконечный стук колес.
Уже в Рязани в тюрьме я узнал, что в Сосьву мы не попадем, а едем на Потьму. Нас стало четверо: Я, Сережа Ерик (старый) и подвалившиеся к нам Сашка Шаповалов из Астрахани и Толик Мынкин из Орла. Загнали нас в подвал, в камере человек сорок, многие туберкулезники. Я говорю Толику:
– Палочек Коха в камере летает больше, чем молекул кислорода. Скорей бы на этап.
А тут ночью в камеру кидают еще человек тридцать, этап из Карелии с Медвежьей горы, и все с плевательницами, а астматики с воздушными шикалками. Оказывается, это туберкулезники идут этапом в Архару в Архангельскую область. Без плевательниц конвой зеков не берет.
– Да, совсем могила, туши свет, – сказал я Толику. – Тут уже не палочки Коха по камере летают, а целые бревна. Того и гляди, чтобы по чану такое полено не пиз…нуло.
Напротив меня на нарах лежал вор в законе, так он представился, грузин Гия. Было ему на вид лет сорок, и шел он этапом из Башкирии из Салавата в Грузию за «раскруткой».
Ночью в камеру кинули парня-чечена, звали его Наби. Он рассказал мне, как «отломили» ему червонец ни за что и дали особый режим, поскольку имел уже судимости.
– Это что, Наби. Вон, читал в газете? Человека расстреляли, другой восемь лет «чалился», а, оказалось, они вообще не виноваты. Один попался и раскололся, что это его работа. Так что терпи, дорогой. С нами на «десятку» пойдешь, – сказал я парню.
Рядом двое зеков сели в карты играть под интерес. Что-то не поделили, подняли хипиш на всю камеру. Один кинулся ко мне, говорит:
– Смотри, Дим Димыч, на эту наглую рожу. Проиграл гад, а расчета не хватает.
– А что ты мне говоришь? Ты что, порядка не знаешь? Через бошку прыгаешь. Вон Гия, вор в законе, лежит, он и разберет ваш рамс-тэрс, – сказал я зеку.
Гия лежал на цветастом одеяле, как магеррам. Когда к нему подошел зек и обратился, Гия сказал:
– Иди, дорогой, гуляй. Вы как сходились, так и расходитесь.
Рядом на нарах лежал пожилой зек с Медвежьей горы.
Я сказал ему:
– Вор в законе и не мог разобрать рамс у мужиков.
– Да какой он вор? Только «ерша гонит под законника». Иди зарежь его, – громко сказал старик, сильно задыхаясь. – Были бы силы, сам бы зарезал.
Мы лежали молчали. Была уже глубокая ночь. Я предложил попить чайку. Толик пошел кипятить воду. Гия встал и полез в сумку к чечену, Наби в это время сидел на полу и курил. Я крикнул:
– Гия, подожди! Садись за стол.
Гия сел, а я обратился к Наби:
– Ты будешь чай пить?
– Да.
– Садись к столу.
– У меня конфеты есть, я сейчас, – сказал Наби и пошел к сумке.
А я внимательно посмотрел на Гию и сказал:
– Вот так надо. Парень сам предложил. А не так, как ты, по-махновски. Кто бы ты ни был, ты туда не клал и брать не имеешь права. Здесь много кой-чего есть у людей, и ты будешь к каждому в торбу залазить и брать? Здесь тебя уже поняли, что ты за вор в законе. Ты даже рамс у мужиков не мог разобрать, когда они к тебе обратились. Вот так, Гия, тут «люды» (воры) со стажем с Медвежьей горы постановили тебя зарезать. Но здесь тебя трогать никто не будет. Сейчас ты поедешь по России, заедешь в ростовскую тюрьму. Не вздумай там «затулить», что ты законник. Тебе казаки там в момент голову отрежут вместе с яйцами. Понял?
– Да, – ответил Гия, опустив голову.
– А в Грузию приедешь, там можешь «катить», там у вас хорошо получается, – сказал я.
– Не знаю. Я там у себя не сидел. Я все время на «дальняках» «чалился».
– Интересно даже, как ты на лесоповале сидел? В общем, смотри, дорогой, я тебя предупредил, до дома можешь и не доехать.
– Доеду как-нибудь, – ответил Гия.
Когда в рязанской тюрьме нас выводили на прогулку, я обратил внимание, что на вышках тюрьму охраняют женщины. Сама тюрьма напоминает церковь, по ее бокам стоят бойницы-часовни, прогулочные дворики очень узкие. Камеры в подвале грязные, бетонные полы буграми, дышать невозможно. Шконки в камерах приварены низко. Если сидишь на нижней, обязательно ударишься башкой о верхнюю. А тараканов и вшей море, как спецом разводят. В общем, рязанская тюрьма оставила плохое впечатление.
5
Наконец-то мы выехали на Потьму в Мордовию. В Потьме тюрьма пересыльная, сюда свозят заключенных всех режимов. Один длинный барак и очень много камер, есть камеры освобожденных, кому через день-два на свободу. В коридоре тюрьмы работают «хозбыки», это зеки первой судимости. К Потьме подходит узкоколейка (УЖД). Каждый вторник и пятницу тепловоз цепляет три вагончика и везет заключенных по лагерям разных режимов: общий, усиленный, иностранцы, особый режим и больничка всех лагерей – это третья зона. А всего двадцать зон, плюс две женские. Женщин сидит очень много. Недавно сделали еще наркомзону для наркоманов. Но их там не лечат, там только одно лечение – трудотерапия, заставляют работать.
Когда-то здесь и политические сидели. Но их мало осталось, человек шестьдесят, да и тех на Урал увезли. Эти зоны называют «Темниками», поскольку расположены они в Темникском районе Мордовии. Здесь еще в двадцатые годы Мустафа дорогу строил, Колька Свист и Жиган тоже «чалились». Даже та насыпь осталась, по которой Мустафа ехал на «пионерке» (дрезине), а его Жиган зарезал. Недаром в песне поется: «Мустафа дорогу строил, Колька Свист по ней ходил. Мустафу Жиган зарезал, Колька Свист похоронил». Все это произошло здесь.
Мордовию иногда называют матерью советских лагерей. Я бы уточнил: не мать, а мачеха. Уж больно неласково она встречает своих сыновей и дочерей.
Здесь испокон веков начальство лагерей, обслуга, охрана состоит из местных жителей. Эти должности у них по династии передаются. Все они переплелись между собой родственными связями: начальник режима женат на сестре начальника лагеря; тот, в свою очередь, женат на ком-то из персонала или их родственницах. У них даже дети на улицах не играют, как принято у советских детей, в Чапаева, партизан и немцев, в тимуровцев, а играют в ментов и заключенных. Ловят «зеков», ведут по улице, пинают, расстреливают тех, кому по несчастью выпала эта роль.
В школах дети учатся плохо. А зачем хорошо? Вырастет, одна дорога в надзиратели. А прапорщику много ума не надо. Им даже мало ума дай, и того много будет для такой работы. Отец уходит на пенсию, сын приходит из армии, надевает повязку, и, смотришь, он уже кричит в зоне:
– Руки назад! Стройся по пятеркам!
Если кто огрызнулся в его сторону, у него в кармане бумага и ручка. Приходит этот молодой амбал, берет старого, дряхлого заключенного за куртку, смотрит на кармане бирку и записывает фамилию. А вечером старика вызывает начальник по режиму и дает пятнадцать суток карцера за неподчинение надзорсоставу. Так это у них формулируется по-ментовски. А ушел человек в «трюм», это как в разведку на фронте ушел: не знаешь, вернешься оттуда живым или нет. А там в деле у зека смотришь – пометка стоит «на добавку». Менты, они всегда найдут причину: то днем спал, то полы плохо помыл, плохо стены протер. А разве их протрешь хорошо, они «под шубу» закинуты, да еще соли в бетон добавили, когда на стены набрасывали? Когда сидишь первые пятнадцать суток, еще не так на организме сказывается. На вторые пятнадцать суток начинают ноги сильно опухать и морда как подушка делается, сердечные сосуды не выдерживают, и мозги сохнут.
Как-то шли мы на работу, из карцера зеков вывели, чтобы везти их в третью зону на больничку. Так на них страшно смотреть было, они все невменяемые, как роботы. Один зек говорит мне: «О, так это Москва уже?» Видимо, у него «крыша поехала» после карцера, так их там заморили.
Да, насмотрелся я на весь этот беспредел, на своей шкуре испытал. Ну, было бы это где-то на «дальняке», на Колыме где, на Камчатке, а то тут, рядом с Москвой, и никто об этом не знает.
Разумеется, никто не говорит, да это было бы просто смешно, чтобы всех поступающих в лагеря воров, бандитов и головорезов встречали с хлебом-солью, музыкой и устраивали их как в лучших санаториях четвертого управления, или как на дачах у наших паханов, что в Кремле сидят. Нет, конечно. Но хоть капельку просто человеческого отношения к оступившимся людям, это-то можно сделать. Ведь люди здесь дохнут как мухи. Когда я иду с работы, то уже по какой-то инерции смотрю в камеру, где гробы стоят. По два-три, а то с полдюжины, и так каждый день.
Но моя мысль и рука тоже забежали немного вперед. Я только-только еду в эту преисподнюю.
6
Поезд остановился. Нас, пять человек особого режима, выгрузили из вагона. Только мы ступили на землю, начальник конвоя закричал:
– Шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх – стреляем без предупреждения! Вы находитесь в распоряжении конвоя! Подчиняться беспрекословно! Вперед! Держаться рядом!
Мы тронулись в путь. За нами остались три вагончика с зеками других режимов. Из них слышны шум, крики женщин, мужиков, лают собаки. Овчарки рвутся с цепей и надрываются до хрипоты и рвоты.
Наконец мы отошли от вагончиков. Все стихло, только сзади до нас доносится еще лай собак. Подошли к зоне «десятке», открылись ворота, мы зашли. Первым делом нас повели во «вшивобойку». В бане заставили раздеться, начался шмон. Кружку не положено, миску не положено, ложку тоже, кроме деревянной. Посмотрели мои книги: «Наука академика Склифосовского», покрутили в руках и бросили на пол.
– Что, ученый? – спросил один надзиратель.
– Да. Изучаю в свободное время, чтобы не потерять профессиональный навык, – ответил я.
– Оно и видно. Вон живот какой отъел. Но тут у нас свои Менделеевы. Быстро тебя вылечим, избавим от живота. Отходи в сторону. Это сдай.
Другой надзиратель увидел у меня норковую шапку, сказал:
– Зачем она тебе? Все равно сгниет в каптерке за твой срок.
– Начальник, забери себе на память, – ответил я.
Он откинул шапку в сторону, а в это время я отложил свои книги в сторону. Шмон закончился. Мы помылись в бане и ждали приема у «хозяина». По одному стали «дергать». Зашел я в кабинет. За столом сидел начальник зоны подполковник Балашов, по бокам от стола – начальник режима Милакин и подполковник Калиничев. Он был в годах, седой весь, видимо, бывший фронтовик, причем контуженый. Почему я так подумал? Да у него голова время от времени сильно дергалась, как у жеребца. Я был в бушлате, уже переодетый в полосатое. Начальник посмотрел на меня, сказал:
– Вот и тракторист. Пойдешь на кирпичный завод трактористом. Идите.
Меня повели в малый БУР и посадили в восемнадцатую камеру. Всего в зоне три БУРа: большой, средний и малый. В камере я осмотрелся: стояло десять шконок и было три человека. Я поздоровался, положил сумку и познакомился с мужиками. У одного кликуха была Пятница, сам из Орла. Другого звали Санек, он только из карцера вернулся, был бледный и худой до ужаса. Про таких у нас говорят: «На кресте». Третьим в камере был одноглазый Татарин. Они с Саньком земляки, из Саранска оба.
Стали разговаривать. Татарин и Пятница сильно начальство ругали, особенно начальника отряда, которому дали кликуху Участковый. Про Пятницу я даже подумал сначала: а не провокатор ли он? Они, наверно, думают, что я первый раз на «особняке». Начну сейчас недовольство высказывать, а завтра меня вызовет Участковый, я и тому ебуков насую. И начнется у меня с ним знакомство через «трюм». Поэтому я спокойно-спокойно Пятнице сказал:
– Ты плохо отрядного знаешь, его правильно понять надо, и все путем будет. Короче, братва, чай у вас есть?
– Нету.
– Нате заваривайте, а это братва заварит, когда с работы придут, – сказал я.
Пятница все время не сводил с меня глаз, наблюдал за мной, а когда чифирнули, он засмеялся и сказал:
– Ох, Дим Димыч, ты «гнилой», однако. Ты, видно, не первый раз на особом.
– Да уж пришлось, однако. «Долину смерти» на Украине прошел.
– О, так я слышал про нее. Говорят, из нее убежать невозможно.
– Говорят-то говорят, а я сам в этом убедился. Попытался уйти в «эмиграцию», да «на вилы сел» (попался), за что целый год в «сучьей будке» (одиночной камере) под землей «сидя лакал». В общем, тяжелый путь прошел. Так, ребята, я после этапа, пойду немного «посижу на спине» (посплю), – сказал я, лег на нары и быстро уснул.
Проснулся вечером от шума, в камеру братва заходила после работы. Я со всеми поздоровался и познакомился. Вытащил из сидора чай, сказал:
– Заваривайте.
Потом достал сигареты и папиросы, всем разделил поровну. Глотнули чайку, закурили, бригадир Санек начал расспрашивать, кто я и откуда. Я рассказал свою историю, только рассказывал в обратной последовательности. Когда дошел до порта Ванино, где я еще пацаном на «спецу» сидел, тогда особого режима еще не было, то в углу камеры кто-то сильно рассмеялся, закричал:
– Димыч, ты ли это?
Я присмотрелся к человеку. Ба! Да это же Коля Людоед! Я тоже воскликнул:
– О, Людоед, вот так встреча! Сколько же мы с тобой, лет тридцать не виделись? Воистину в Библии сказано: «Пути Господни неисповедимы, оные пересекаются». Ну как жизнь?
– Да так, потихоньку, – ответил Людоед.
У Коли тогда было двадцать пять лет срока. Он еще с одним вором уходили в побег. Я им тогда помогал. Третьим с собой они взяли молодого парня фуфлыжника на мясо. Дело было зимой, уходили в тайгу. Их месяца через полтора взяли, а парня они успели съесть. Вот и получил Коля с тех пор погоняло Людоед.
– А за что сюда попал? – спросил я у Людоеда.
– За участковым гнался с топором два квартала. Не догнал суку. Вот и «отломили» мне червонец. А до этого на свободе женился, жена – учительница, но на двадцать лет моложе меня была. Она родила мне сына. Когда на суде зачитали, что я людей ел, так она отказалась от меня. В обморок упала, а когда очухалась, завопила: «Боже мой, с кем я жила?» Я об одном ее попросил: «Если выйду на свободу, разреши к сыну прийти». – «Только с милицией», – сказала она. Вот только, Димыч, не знаю я, выйду отсюда или на кладбище останусь? Ведь мне уже пятьдесят девять лет, а еще «петра» мотать.
Такую вот невеселую историю рассказал мне Людоед. Чтобы как-то подбодрить его, я потихоньку сказал:
– Коля, у меня «дурь» есть.
– Да ты что, Димыч? Только тихо. Это надо в историю записать. Сюда, на «десятку», еще никто ее не привозил. Раньше в этих камерах одни политзаключенные сидели. Их разогнали и поселили нас, полосатиков. Я сейчас в кочегарке работаю. Завтра, Димыч, приходи ко мне. Я тебе веник березовый дам, две болванки нагрею, будешь на них потихоньку воду лить и париться под душем. Там и посидим побазарим.
На другой день, когда нас привели в рабочую зону, я сразу в гараж не пошел, а пошел к Людоеду в кочегарку. Дал ему анашу и сказал:
– Пригласи кого хочешь и угости, но только кого положено.
– Об чем разговор, Димыч? Знаю, – ответил Людоед.
Я пошел мыться в душ. Когда вышел, в кочегарке сидела братва, человек пятнадцать, и курила анашу. А мне Коля заварил купеческий. Я попил чаю с конфетами, и только потом мы разошлись по рабочим местам.
Когда я пришел в гараж и увидел трактор «ДТ-75», понял: это мое горе. Эту рухлядь делали, наверно, если не при царе Горохе, то при Петре Первом, это точно. Прежде чем я его завел, раз двести пришлось дергать за пускач. Спина у меня была мокрая, хотя на тракторе я еще и не начинал работать.
Подошел начальник кирпичного завода Сан-Саныч, мужик лет тридцати, но весом не меньше ста двадцати килограммов. Когда идет, то еле ноги передвигает.
– Ну что, идет дело? – спросил Сан-Саныч. – Ну-ну, привыкай. Я тебе двух тунеядцев дам, будут помогать «обувать» трактор, если «разуешься». Они постоянно будут в твоем распоряжении.
Так начался мой первый трудовой день. И потянулись дни унылые и однообразные. Еще бы все ничего, да отрядный нам попался сволочь натуральная, у него и улыбка всегда ехидная и кровожадная, к каждому пустяку придирается. Чуть что не так, пятнадцать суток карцера получи. Старика Саню Воробьева он глухо замордовал, тот еле ноги таскал, и постоянно ларьком его наказывал. Саня и забыл, когда последний раз отоваривался.
Забегая немного вперед, скажу: когда спустя несколько лет я попал в ИК 385/10, то ребят там спрашивал про Участкового, нашего отрядного из «десятки». Сказали, его машина задавила. Вот так. А может, спецом задавили. Ну, да это большого значения не имеет. Главное, одним мерзавцем меньше стало.
Подошел праздник 9 Мая. Мы сидели в камере, пили чай. «Ящик с хипишем» объявил, чтобы отрядные подали списки ветеранов войны, их всех отоварят в ларьке в счет праздника.
Меня осенила великая мысль. Я обратился к деду Воробьеву:
– Послушай, Саня, ты где воевал во время войны?
– В Магадане на пятьсот пятой стройке, – ответил старик и защерился своим беззубым ртом.
– Жаль. Очень жаль, – многозначительно сказал я.
Наш разговор слушала вся камера, я это заметил. А Коля Людоед так сказал:
– Димыч, ты деда опять хочешь на дело пустить?
Но не скучать же праздничному ларьку. Да и жеванину жалко, менты все схавают. Надо этого не допустить. Вот я и думаю, как нам урвать ларек. Сказать нашему Участковому, что дед ветеран? Не поверит, докопается сука и еще подкинет деду суток пятнадцать «трюма» за вранье. Он же в его глазах и так пожизненный нарушитель. Я решил этот вопрос так.
– Пиши, дед, – сказал я и протянул старику ручку и лист бумаги. – Начальнику режима подполковнику Калиничеву. Написал? Хорошо. Подполковник – ветеран, должен нас понять. Это не пиши. Пиши дальше так: «Я, Воробьев Александр Иванович, во время войны воевал на Центральном направлении фронта и был адъютантом у маршала Жукова. Но так неудачно сложилась моя семейная жизнь: из-за жены меня посадили в тюрьму. Один раз застал ее с любовником и сгоряча застрелил за измену. Время было военное, суровое. Вот меня и посадили. И с тех пор я из тюрьмы не вылазию и докатился до особого режима. Но как офицер офицера и фронтовик фронтовика прошу вашего разрешения, чтобы меня отоварили в ларьке. Я имею много боевых наград, ранений и контузий, о чем знает начальник отряда из моего личного дела и может подтвердить. Да здравствует День Победы!»
Я взял листок, громко прочитал и, когда смех в камере немного стих, вернул старику.
– Вот теперь, Саня, подпись свою еще поставь: Воробьев. А завтра утром на разводе подойдешь к подполковнику и сам лично отдашь заявление. И не отходи, пока не подпишет, – продолжал я инструктировать адъютанта маршала Жукова.
– Нет, Дим Димыч, я не пойду, – с какой-то виноватой рожей сказал дед Воробьев. – Я точняком в карцере очутюсь.
– Надо, Саня, рискнуть. Риск – дело благородное. Даже пословица есть такая: кто не ест, тот и не пьет. Ну, а если отоварят карцером, не судьба, значит, – продолжал я уговаривать ветерана советских тюрем и лагерей. – Мы тебе «грев» в карцер будем подгонять. Вся братва будет знать, что ты пострадал за правое дело.
– Да с моим здоровьем в карцер – это же могила, – не сдавался старик.
– Ничего не бойся, Саня. Ты же не баба. Главное, ты сам верь в то, что «чесать» подполковнику будешь. Вспомни, какой ужас ты на немцев наводил, когда выскакивал из окопа с пистолетом в руке и кричал: «За мной! За Родину! За Сталина!»
В общем, с Людоедом на пару мы целый вечер уговаривали Саню. В конце концов он сдался, сказал:
– Ладно, подойду. Но если не получится и Участковый узнает, он меня съест.
– Не съест, подавится, – сказал я. – Ты, главное, смело подходи к подполковнику.
На другой день утром мы вышли на работу. На разводке у главных ворот рабочей зоны стояли «хозяин» и «кум». Когда мы подошли ближе, я толкнул Саню и дал последнее напутствие:
– Все, пошел, Саня, на таран. Была не была. Смелость города берет.
И Саня, сделав небольшой вираж, вырулил прямо к Калиничеву, представился:
– Заключенный Воробьев. Разрешите к вам обратиться, гражданин подполковник?
– Обращайся, – ответил тот. – А сам видит, перед ним стоит тоже пожилой дряхлый человек, спрашивает: – Что вы хотите?
– Я никогда не имел льгот, но в честь праздника решил к вам обратиться как фронтовик бывший к фронтовику. Вот мое заявление. Я хотел бы отовариться в ларьке в честь праздника. Мы все же войну прошли, – сказал лжеадъютант Жукова и подал «куму» заявление.
Подполковник не спеша прочитал заявление, сильно дергая головой, потом вытащил из кармана ручку и быстро расписался. Санек, хлопая шнифтами, только и вымолвил: «Спасибо», а до этого стоял сам не свой. А когда пришли в цех на работу, то показал мне подписанное заявление. У него даже лоб мокрый был.
– Все, Дим Димыч, больше я ничего делать не буду, а то ты меня в «бушлат деревянный» вгонишь. Ты знаешь, сколько я сейчас пережил? И говорил я с «кумом» по инерции. Говорю, а сам не знаю, что говорю.
Вечером, когда шли с работы, дед сразу пошел в ларек. Пришел оттуда затаренный под завязку. Все взял: конфеты, чай, пряники, курево и даже сапожный крем. Весь вечер вся камера балдела от успеха нашего дела. Сапожный крем и тот в дело пошел. Нашелся любитель, схавал. Технология приема довольно проста: берут ломоть хлеба, выдавливают на него тюбик или баночку крема, размазывают, а когда жижа впитается в хлеб, самую черноту счищают ножом, а хлеб хавают. Так, схавал человек ломоть хлеба, а потом «тащится» по-черному. Я сам не знаю, что за кайф от крема, не пробовал, но таких торчков видел в зонах немало. По всей видимости, крем на ацетоне делается, вот от ацетона кайф и ломится.
Сам дед заваривал чай, смотрел на меня и головой мотал.
– Если останусь живой, Димыч, век тебя не забуду и всем рассказывать буду. На такие проделки я бы сам никогда не догадался. Всю жизнь я в зонах на Колыме просидел, а тут оказалось, что я ветеран-фронтовик, награды, ранения имею да еще адъютантом был у самого маршала Жукова, сапоги ему чистил. Ну и плут же ты, Димыч, – говорил Саня, улыбаясь.
– А я при чем? Я только подсказал, как надо делать. Я же сам всю жизнь по тюрьмам и зонам сижу, вот и «гоняю подливу», как в этой жизни легче прожить. Был когда помоложе, какие коники я только не мочил. Ты, Александр Иванович, пойми меня правильно. Все эти люди, начиная от начальника до надзирателя, в процессе многолетнего общения с нами до того зацикливаются, что тоже становятся ненормальными. Я вот случай расскажу. Один надзиратель сидит дома с женой, выпивают, и друг его рядом сидит, тоже надзиратель. Хозяин подпил и своей бабе говорит: «Руки назад, иди вперед, не оглядывайся. Пойдем в изолятор, так, раздевайся, будем шмонать». Баба на него вылупила глаза: «Ты что, Вася? С ума сошел?» Это мне один надзиратель рассказывал. Вот так-то, друг. А наша задача только вовремя им «на волну упасть», момент поймать да угадать эту волну. А не угадаешь, расплачивайся. Это как на рыбалке: вчера ведро рыбы поймал, сегодня – фуй.
7
Как-то два зека решили «уйти на траву». И придумали очень оригинальный способ. Рядом с кирпичным заводом стоял столб электролинии, а другой столб стоял за зоной недалеко от березового леса. Зеки заранее сделали ролики, накинули их на провода и укатили за зону.
Солдат на вышке увидел побегушников, когда они уже уходили в тайгу. Начал стрелять. Выслали конвой солдат с собаками. Одного зека они сразу застрелили, другого взяли живьем. Один солдат хотел и этого пристрелить, но начальник конвоя не дал, сказал:
– Пусть живет.
А когда побегушника солдаты вели по поселку, так ментовские дети его чуть камнями не закидали.
Клуба в зоне не было, так кинофильмы нам показывали в столовой, где «хозбыки» хавают. Помещение небольшое, так нас три БУРа зеков в две смены водили. Где бы я ни задержался, у меня всегда было место забронировано. На меня место всегда занимал астраханец Саня Шаповал, который пришел со мной вместе этапом с червонцем срока за убийство егеря. Только захожу в зал, он кричит:
– Дим Димыч, иди сюда, здесь есть тебе место.
Я иду и сажусь. Как-то показали кинофильм «Служебный роман». Так я после него целую неделю ни с кем не разговаривал, «в распятии пребывал». Такое сильное впечатление произвел на меня фильм, так душу растревожил. Особенно песни. Как вспомню слова: «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать, надо благодарно принимать…» и дальше проигрыш гитары, так сердце заноет. А вторая песня совсем добивает: «Чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, весь мир я обойду…» Недаром в народе говорят: «И лев иногда плачет». Трактор еще на работе вконец зае… Вот и ходил я целую неделю с опущенной головой. Саня Шаповал постоянно спрашивал:
– Что с тобой, Димыч? На тебе лица нет.
– Да так, Санек, хандра наехала, пройдет, – отвечал я.
И хотя у нас на «десятке» сидели одни воры, бандиты и убийцы, я заметил, что после этого кинофильма не только я один стал тише и спокойнее.
От трактора я все же избавился. Написал заявление и перешел на садку кирпича в печь. Правда, и здесь работа не мед хлебать, но все же. Поначалу тяжело было: духота ужасная, и пот глаза без конца заливает. Так с тряпкой и ходишь постоянно. Потом привык немного, да и напарник мне попался хороший, Витя звали, Картошка по кличке. Мужику сорок восемь лет, худой, как вобла сушеная, но шустрый до предела. Он с кирпичами управлялся, как гончая с зайцами, играючи. И меня еще подгонял:
– Давай, Демьян, давай! Нам тугрики нужны, – и еще быстрее начинал класть кирпичи.
Самое неприятное в работе – это когда тачка с кирпичами сходит с рельсов прямо в печи. Вот тогда вся смена работает. Надеваем ватные штаны, телогрейки, шапки и начинаем тачки с кирпичами из печи вытаскивать с другой стороны, чтобы поставить на рельсы тачку, которая упала. От жары аж уши закручиваются в спираль.
Зимой меня сильно радикулит скрутил. Коля Людоед посоветовал:
– Димыч, тебе надо в проруби покупаться, чтобы радикулит прошел.
Около нашего цеха был большой водоем, напоминающий маленькое озеро. Он подходил прямо к угловой вышке с часовым. Мужики в водоеме выдолбили для меня прорубь. Почти рядом с ней наша раздевалка с душевыми. Раздевалка большая, в ней одновременно раздеваются и моются человек шестьдесят. Я быстро разденусь, выскочу на улицу и в прорубь. Сначала считал под водой до десяти и выскакивал. Потом стал прибавлять. Выскочу из проруби и под горячий душ. Хорошо! Тело как иголками все колет. А мне приятно. Некоторые мужики смеялись надо мной, думали, у меня «крыша поехала», раз в ледяной воде купаюсь. Я на это внимания не обращал, думал, пусть, пусть пеньки смеются. Они и досмеялись, что я полностью избавился от радикулита и прочих «сопливых» заболеваний.
У одного часового на вышке были, наверно, «не все дома». Как-то я нырнул в прорубь и долго находился под водой. Так этот «дубак», наблюдая за мной, подумал, что я подо льдом в побег ушел, давай звонить по телефону, кричать:
– Тут один рецидивист под лед ушел. Скорей сюда!
Зеки видят, что менты бегут сюда, кричат:
– Дим Димыч, атас! Менты!
Причем такая ситуация стала повторяться.
Я выскакиваю из проруби и под душ. Менты прибегут, покрутятся возле проруби. А часовой с вышки показывает им рукой на раздевалку. Надзиратели ему в ответ покрутят пальцем у головы и уходят.
8
В раздевалке у нас стало барахло пропадать: то мыло, то куртка пропадет, то брюки. И так каждый день что-нибудь пропадало. Но никто пойман не был. Мужики уже возмущаться начали. Грех катил на самарских, их подозревали. У меня тоже как-то брюк не оказалось, потом мыла, потом куртки. Мое терпение лопнуло, когда у меня в раздевалке не оказалось новых брюк. Я их только-только купил. Специально чай продал, чтобы купить спецовку. И на тебе! Я громко на всю раздевалку сказал:
– Да сколько же это крысятничество продолжаться будет! Без конца воруют у своих же.
Поодаль один зек на скамеечке сидел, фамилия Семенов. Он уже второй раз из-под «вышака» в зону приходит. Чудом живой остается. Он подозвал меня и говорит:
– Демьян, я тебе на обеде сегодня покажу, кто вчера в твоем углу крутился.
– Ништяк, Петрович.
Я знал: Семенов человек очень серьезный. Зря поклеп он не сделает. И еще он предупредил:
– Их пятеро, все самарские.
– Понял. Кто-то должен навести порядок. Вот я и начну, – ответил я.
А сам пошел в цех, взял электрод, один конец заклепал острием, а другой загнул под ручку. Швайку положил в карман брюк, а брюки повесил на вешалку в раздевалке.
Начался обед, привезли термосы, встала очередь за баландой. Вот тут Семенов и показал мне одного. На нем я увидел новые брюки, снизу они были подшиты, и нитки даже болтались. Я подумал, если я его сейчас зарежу, то его кенты потом начнут со мной счеты сводить. Надо «мочить» всех пятерых. Такое я принял решение.
Когда кончился обед, человек пять-десять зеков зашли в раздевалку перекурить. Зашел и я. Смотрю, они все пятеро сидят, курят и беседуют. Я подошел к одному, Толик его звали, и спросил:
– Ты, парень, случаем, не мои брюки таскаешь?
Парень резко вскинул голову, хотел что-то сказать, но не успел.
Швайкой я долбанул его, но попал в ногу, а хотел в шею. В самый последний момент он успел отклонить бошку и увернуться от удара. Моей задачей было задолбить всех пятерых. Когда я замахнулся второй раз, кто-то сзади навалился и схватил меня.
– Дим Димыч, ты что? Успокойся.
А четверо схватили Толика и потащили из раздевалки. Я все-таки вырвался от троих зеков, что держали меня. Они просто не знали, в чем дело. Я заскочил в цех, там стоял Электробык, наш электромонтер, он сказал мне:








