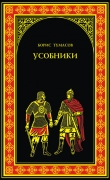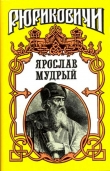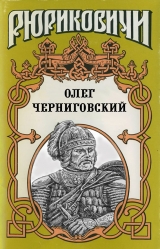
Текст книги "Клубок Сварога. Олег Черниговский"
Автор книги: Виктор Поротников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Глава третья. МЕЛИТРИСА.
В штурме Оломоуца ослабевший от ран Олег не участвовал. Город был взят после двухдневного приступа. Поляки повели себя очень странно, сначала отказываясь карабкаться на стены и предпочитая обстреливать защитников города из луков и катапульт, затем, не желая преследовать отступающее войско Братислава, которое благополучно ушло за реку Мораву.
Недовольный Перенег созвал военный совет, дабы упрекнуть Владислава и его воевод в бездействии, в том, что те перекладывают тяготы войны на плечи русичей. Однако до упрёков дело не дошло: Владислав объявил, что он прекращает войну с Вратиславом и уводит войско домой. Владислав сказал также, что помощь русов полякам больше не требуется, мол, он отпускает их обратно на Русь.
– Обещанную плату вы сможете получить в Кракове, – сказал Перенегу воевода Сецех.
Русские воеводы недоумевали. Было ясно, что поляки чего-то недоговаривают.
Олег не присутствовал на совете и узнал обо всем от Владимира, который пришёл к нему сразу после совета.
– Поляки за нашей спиной договорились с чехами о мире, – мрачно сказал Владимир. – Вратислав дал Владиславу отступное в тысячу гривен серебра. Нам же велено убираться обратно на Русь.
– Что решил Перенег? – поинтересовался Олег.
– Перенег заявил Владиславу, что негоже тайком от союзников сговариваться с врагами. Ещё он потребовал, чтобы и нам чехи заплатили тысячу гривен отступного, поскольку не будь в Моравии русских дружин, чешский князь вряд ли пошёл на замирение с поляками.
– И что же Владислав?
– Прикинулся простачком, – Владимир усмехнулся. – Мол, я выполняю волю старшего брата и сверх полученного серебра с чехов требовать не могу. Владислав предложил уладить все недоразумения в Кракове. Перенег с этим не согласился. Он так сказал: коль полякам угодно прекратить войну с чехами – это их дело. А русичи будут продолжать войну до тех пор, пока чешский князь не запросит мира и у них.
– Ай да воевода! – восхитился Олег. – Ну, теперь несдобровать чехам!
– Перенег правильно поступил, – заметил Владимир. – Надо заставить поляков и чехов считаться с нами.
На другой день польское войско ушло к реке Одре.
Перед уходом Владислав попытался припугнуть Перенега, сказав как бы между прочим, что в войне с русичами Вратислав может прибегнуть к помощи германского короля, войско которого гораздо сильнее чешского.
Перенег ничего не ответил, но про себя подумал: «А нам, милок, и надо на чешской беде проучить короля Генриха. Чай, немецкие латы не крепче богемских панцирей».
В Оломоуце русичи взяли богатую добычу. Перенег позволил своим ратникам разграбить не только дома знатных горожан и дворец местного князя, но и все городские церкви. Он говорил при этом, что уж если поляки, исповедующие латинскую веру, перед таким святотатством не останавливаются, то православным христианам это тем более не зазорно.
Из Оломоуца русское войско двинулось к чешскому городу Глацу, возле которого Вратислав готовил своё воинство к новому сражению.
В Оломоуце был оставлен отряд русских ратников, все раненые и часть обоза. Во главе гарнизона Перенег поставил Олега, который ещё не совсем оправился от ран и не мог сидеть на коне.
В разорённом городе было совсем мало жителей, основная масса их скрывалась в лесах за Моравой. Олег и его гридни разместились в княжеском дворце, который походил на небольшой замок с башнями и рвами. Раненые русичи находились на подворье женского монастыря, избежавшего погрома благодаря смелости настоятельницы Мелитрисы, преградившей путь в обитель самому Перенегу. Тот хоть и догадывался, что среди монахинь скрывается немало жён и дочерей местной знати, предпочёл закрыть на это глаза, восхищённый не столько поступком настоятельницы, сколько её дивной красотой.
Отвечая благородством на благородство, Мелитриса разрешила Олегу разместить в стенах монастыря раненых русских ратников. Она также выпросила у Олега позволения впустить в Оломоуц женщин с детьми, которые, по её словам, мыкаются по лесам и болотам.
Олег выразил сомнение, что жительницы Оломоуца отважатся вернуться в свои дома, зная, что их город по-прежнему во власти русичей.
– Если я поручусь, что беглянкам и их детям не будет грозить рабство и насилие, то люди станут возвращаться, – сказала на это настоятельница. – Дай мне слово христианина, князь, что ты обеспечишь неприкосновенность всем, кто захочет вернуться в Оломоуц.
Олег дал слово, поклявшись на кресте.
Видимо, у Мелитрисы были тайные связи с моравами, засевшими в лесах, так как уже на третий день к запертым воротам приблизилась целая толпа женщин, детей, стариков и пожилых мужчин. Предупреждённые Олегом стражи впустили возвратившихся беглецов в город.
Женщины расходились по своим домам, где царило запустение, и все было перевёрнуто вверх дном. Победители в поисках золота рыли даже золу в очагах, где-то изломали пол, где-то разбросали по двору целую гору навоза в поисках все тех же сокровищ. Мёртвые были уже погребены, о том, что город захвачен врагом, напоминала лишь русская стража на городских стенах, у ворот и у княжеского дворца.
Безлюдный Оломоуц постепенно оживал, наполнялся привычным шумом по утрам местный рынок. Возле небольшого пруда близ женского монастыря каждый день можно было видеть женщин с корзинами свежевыстиранного белья. Кое-где уже работали мастерские. Из лесов продолжали возвращаться беглецы, группами и в одиночку, с узлами на плечах и с маленькими детьми на руках.
Олег обязал сотников следить за тем, чтобы подчинённые им воины не врывались в дома, не грабили, не чинили насилий. Ростовцы и суздальцы уважали своего князя, поэтому никому и в голову не приходило преступить даже в малом его запрет.
Недоверчивый Регнвальд как-то высказал князю недовольство тем, что настоятельница Мелитриса в любое время суток беспрепятственно входит в Олеговы покои.
– Зря ты доверяешь этой паве, княже, – молвил варяг. – Кто знает, что у неё на уме. Не люблю я женщин сильных нравом, такие могут и нож в спину всадить, могут и яду отведать, лишь бы заставить недруга выпить из той же чаши.
– Не могу я поверить, чтобы женщина столь дивной внешности могла сподобиться на подлость иль смертоубийство, – возразил Олег. – Думается мне, друже, пустые твои опасения. Мелитриса в душе выше людских пороков и страстей, ибо прежде всего она служит Господу.
Регнвальд не стал продолжать этот разговор, видя, что Олег очарован красавицей-аббатисой[34][34]
Аббат, аббатиса – титул настоятелей католических монастырей, мужских и женских.
[Закрыть] и не может представить её в образе недруга.
Со временем Олег стал замечать, что Мелитриса проявляет явную симпатию к Регнвальду, несмотря на его неприступный вид и извечную подозрительность. Как-то раз аббатиса в беседе с Олегом стала расспрашивать о жене и детях Регнвальда. Олег не стал скрывать, что варяг вдовствует вот уже третий год, рассказал про сына Регнвальда и двух его дочерей. Олегу было приятно, что Мелитриса «положила глаз» на самого лучшего из его дружинников. Он удивлялся, что она так хорошо говорит по-русски. Оказалось, что языку её обучили русские монахи православного монастыря близ города Брно. Мелитриса долгое время скрывалась в том монастыре от отца, который хотел выдать её замуж за сына венгерского короля.
– Я любила одного чешского рыцаря и сказала отцу, что пойду замуж только за него, – призналась Мелитриса, однажды приподняв завесу над своей прошлой жизнью. – Но надо знать суровый нрав князя Спитигнева, чтобы постичь всю тщетность сопротивления его воле. Моего рыцаря насильно постригли в монахи, а потом и вовсе сослали в Италию, где он умер от чумы. В отместку я тоже постриглась в монахини и ушла из отчего дома. Долго скиталась по лесам и горам, пока меня не приютили русские монахи.
Мелитриса помолчала, потом добавила:
– В Моравии и поныне есть православные церкви, а при наших князьях-родоначальниках Ростиславе и Славомире[35][35]
Ростислав и Славомир – правители Великоморавского государства, боровшиеся в IX веке за независимость западных славян от Римской Церкви и власти германских королей. При Ростиславе появилась славянская письменность и было введено богослужение на славянском языке. Тогда же в Моравии и Чехии утвердилось православие.
[Закрыть] вся Моравия исповедовала православие. Не где-нибудь, а именно здесь составили славянскую азбуку монахи Кирилл и Мефодий[36][36]
Кирилл и Мефодий – славянские просветители, создатели славянской азбуки, первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык. Оба родились в городе Фессалонике в семье военачальника. Кирилл получил образование при дворе императора Михаила Третьего в Константинополе. Мефодий поступил на военную службу, долгое время был наместником одной из населенных славянами областей Византийской империи. Затем удалился в монастырь. В 863 году Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях проповедования христианства на славянском языке.
[Закрыть]. Отсюда новый алфавит, названный кириллицей, распространился среди славянских государств.
Олег взирал на красавицу-аббатису изумлёнными и одновременно восхищёнными глазами. Кто бы мог подумать, что эта женщина является дочерью грозного Спитигнева и племянницей Братислава!
Не удержавшись, он сказал Мелитрисе, что та совершает непоправимую ошибку, позволяя своей дивной красоте увядать в монастырских стенах.
Мелитриса глубоко вздохнула, устремив задумчивый взгляд куда-то мимо Олега, и негромко промолвила:
– Сколь лет минуло, княже, а раны моего сердца все не заживают. Душевная боль уменьшилась, но не прошла. А ныне эта боль только усилилась, ибо боярин Регнвальд удивительно похож на моего суженого, с коим меня разлучили.
После этого разговора Мелитриса долгое время избегала Олега, словно жалея о своей откровенности, или, может, тому виной было известие о поражении чешского войска под Глацем. Что ни говори, но Олег и Регнвальд пришли врагами на чешскую землю и закрывать на это глаза гордая аббатиса не могла.
Мелитриса вновь пришла в княжеский замок лишь после того, как Олег распорядился вернуть в местные храмы самое ценное из награбленного имущества. В беседе с ним аббатиса старалась подчеркнуть, что она здесь с единственной целью поблагодарить русского князя за столь великодушный поступок.
Олег же, действуя по задуманному плану, послал слугу за Регнвальдом.
Мелитриса поднялась, собираясь распрощаться. Тогда Олег властным движением взял аббатису за руку и, глядя ей прямо в глаза, произнёс:
– Война эта скоро закончится, а русы никогда не станут поработителями чехов и моравов. Я думал прежде, что наши дружины пришли в Моравию по просьбе польского князя, не желавшего платить дань князю чешскому. А ныне кажется мне, что русские полки оказались за Богемскими горами по воле Господа, пожелавшего соединить судьбы одного храброго витязя и одной прекрасной монахини.
Глава четвертая. ПОСОЛЬСТВО ИЗ ЦАРЬГРАДА.
Весть о разгроме чешского войска под Глацем дошла до Святослава одновременно с известием о смерти игумена Феодосия.
Дело было перед обедом.
Гонца из Печерской обители Святослав тотчас отпустил, а с гонцом от Перенега уединился в библиотеке, дабы расспросить его получше обо всем, что творится ныне в Богемии.
За обеденным столом князь был весел и разговорчив, чего с ним давненько не бывало.
Ода не разделяла настроение супруга.
– Игумен Феодосий Богу душу отдал, а ты и не печалишься, свет мой, – молвила княгиня строгим голосом. – Не по-христиански это. Неужто не можешь простить Феодосию его былой приязни к Изяславу?
– Пусть грех говорить так, но я скажу: мешал мне преподобный Феодосий, постоянно заступаясь за Изяслава, – ответил Святослав, посерьёзнев лицом. – Ушёл Феодосий к праотцам и слава Богу! С превеликой радостью отстою панихиду[37][37]
Панихида – моление об усопших без чтения Апостола и Евангелия. Совершалась в храмах в дни общего поминовения усопших или по особой просьбе верующих.
[Закрыть] по нему, толстенную свечу поставлю за упокой души. Кабы все мои недоброжелатели, подобно Феодосию, разом в иной мир отошли, вот было бы славно!
Святослав предложил супруге выпить за это хмельного мёда, но та отказалась.
– Тогда давай выпьем за то, чтоб и далее русское оружие было победоносно в Богемии, – сказал Святослав, держа чашу в руке. – Чтоб чешский князь и германский король уразумели, как силен великий князь киевский.
– Я вижу, тебе и горя мало, что Олега чуть живого вынесли из сечи под Оломоуцем, – с осуждением проговорила Ода, не притрагиваясь к кубку.
– Я предупреждал Олега, чтобы он особенно не храбрился и себя берег, – раздражённо заметил Святослав. – А он небось, сломя голову, в сечу рвался. Вот и нарвался! Наперёд умнее будет.
Святослав осушил чашу и завёл речь о том, что ныне Судьба к нему благосклонна и что устрашив чехов и германцев он лишит Изяслава всякой возможности возвращения на Русь.
– Не видать этому недоумку стола киевского как своих ушей, – смеялся он.
…В конце лета в Киеве объявились послы византийского императора. Возглавлял посольство сам проэдр синклита[38][38]
Проэдр синклита – председательствующий в сенате.
[Закрыть], в свите его были столь именитые вельможи, что посмотреть на них – вершителей судеб Ромейской Империи – сбежались все киевские бояре. Во время приёма в тронном зале от многолюдства яблоку было негде упасть.
Святослав восседал на троне с подчёркнутой надменностью, разодевшись в лучшие одежды, с золотой короной на голове. Той самой короной, которую русские мастера изготовили по приказу Ярослава Мудрого, когда тот вознамерился провозгласить себя на манер византийских владык кесарем русов. К сожалению, недолго носил эту корону Ярослав Мудрый, призвал его к себе Господь. Новый титул же так и не прижился среди русских князей, владевших столом киевским.
На другом троне рядом со Святославом восседала Ода в длинном, зауженном в талии платье из голубой парчи с узорами из золотых нитей на рукавах и по вороту. Голова великой княгини была покрыта белым убрусом[39][39]
Убрус – женский платок.
[Закрыть], так что не было видно волос. Поверх убруса покоилась золотая корона в виде обруча. Корона удивительно облагораживала облик великой княгини, подчёркивала её красоту и изящество. Тому же способствовала прямая осанка Оды, её выпуклая грудь, на которую свешивались изумительной красоты ожерелья из золота и драгоценных камней. Руки Оды, покоившиеся на подлокотниках, были украшены перстнями: вспыхивали яркими разноцветными бликами гранёные аметисты, рубины и топазы.
Глава посольства обратился к Святославу по-гречески, зная, что великий князь вполне владеет этим языком. Причём в своём обращении проэдр синклита называл Святослава не «великим князем», но «кесарем русов».
В толпе киевских бояр пронёсся вздох изумлённого восхищения. Среди киевской знати было немало таких, кто свободно изъяснялся по-гречески либо понимал многое из говорившегося.
Святослав раздулся от гордости: встать вровень с императором ромеев было его давней и заветной мечтой. И вот эта мечта сбылась!
Главу посольства звали Аристарх: статный мужчина лет шестидесяти с прямым носом и светлыми длинными вьющимися волосами. На нем была туника-далматинка с короткими рукавами, белая с красным узором по нижнему краю. Поверх туники был надет длинный фиолетовый плащ с серебряной застёжкой на левом плече. На ногах – изящные полусапожки из множества плетёных ремешков.
Высокопарная речь главы посольства, обращённая к киевскому князю, была подкреплена щедрыми дарами, которые должны были свидетельствовать о могуществе и богатстве владыки Византии. Дары ромеев произвели впечатление на киевских бояр и особенно на Оду, которая впервые увидела золотые чеканные чаши и сосуды такой изумительной отделки. Золотая птица, издающая переливчатые трели и встряхивающая крыльями, если повернуть в ней какой-то механизм, и вовсе поразила Оду как нечто удивительное и непревзойдённое.
Святослав, давно привыкший и к блеску золота, и к всевозможным безделицам из этого металла, из всех даров выделил мечи с рукоятями из мягкого мыльного камня оленьего рога. Ещё Святославу понравился изящный боевой топорик, украшенный узорами и позолотой. Он велел подать топорик и взмахнул им, как бы примеряясь для удара.
Послы вежливо заулыбались, глядя на нетерпеливое мальчишеское желание Святослава немедленно опробовать приглянувшееся ему оружие.
Впрочем, улыбки византийцев тотчас погасли, едва их глава заговорил о невзгодах, свалившихся на Империю ромеев в правлении нынешнего императора Михаила Дуки[40][40]
Михаил Дука – византийский император, правивший с 1071 по 1078 г.
[Закрыть]. Норманны[41][41]
Норманны, – букв, «люди севера». Так в древней Европе называли скандинавов.
[Закрыть] окончательно изгнали ромеев из Италии, сельджуки[42][42]
Сельджуки – ветвь тюрок-огузов (первоначально жили на Сырдарье), названы так по имени их предводителя Сельджука, жившего в X веке. Между 1071 и 1081 годами сельджуки завоевали Малую Азию и некоторые другие территории, ранее входившие в Византийскую империю.
[Закрыть] постоянно нападают на византийские владения в Азии. Восстали болгары, отложились в Тавриде[43][43]
Таврида – Крым.
[Закрыть] херсонеситы. Император просит помощи у Святослава Ярославича, ведь из всех православных государей великий князь киевский самый могущественный, это всем известно.
Святослав заверил послов, что он, как православный христианин, не останется глух к призывам о помощи из Царьграда, откуда «по всему миру изливается свет истинной веры Христовой». На этом большой приём был окончен. Послы удалились с довольными лицами, догадываясь, что то, когда и где Святослав выступит против недругов Византии, станет ясно из приватной беседы великого князя с Аристархом.
О многом Святослав и Аристарх договорились уже во время пиршества вечером того же дня. Не зря они сидели рядом за столом и почти не притрагивались к вину, хотя в зале то и дело звучали здравицы в честь императора ромеев и великого киевского князя.
Ночью в ложнице Святослав поделился с Одой своими мыслями.
– Дела у императора ромеев совсем дрянь, – сказал он, сидя у стола в исподних портах и рубахе. Святослав дописал послание ко Всеволоду Ярославичу и, свернув в трубку, собирался запечатать печатью. – И не от большого уважения ко мне ромеи ныне меня кесарем величают, а от того, что беды их обступили, как волки оленя.
Грузинский царь Баграт, хоть и является тестем Михаилу Дуке, но помочь ему ничем не может, ибо сам с трудом от сельджуков отбивается. Наместники ромейские так и норовят в императоры выйти, поскольку у ромеев ныне так: у кого сила, у того и власть. Вот и владетель Тавриды уже который год дань в Царьград не шлёт и с императорскими приказами не считается. Если раньше ромеи от болгар дарами откупались, то теперь болгарам злата не надо, им земли во Фракии подавай.
– Чего же хотят от тебя ромеи? – спросила Ода, сидевшая на ложе и расчёсывающая распущенные по плечам волосы. – Какой помощи?
– Ромеи знают, что в Тмутаракани мой сын княжит. Причём так княжит, что все окрестные народы боятся его как огня. – Святослав самодовольно усмехнулся. – Послы хотят, чтобы я повелел Роману разделаться с корсуньским катепаном[44][44]
Катепан – византийский наместник.
[Закрыть], а заодно изгнать половцев из степей Тавриды. Житья от них не стало ни грекам, ни фрягам[45][45]
Фряги – древнерусское название итальянцев.
[Закрыть]. Главное – хотят ромеи сподвигнуть меня на поход против болгар. Император согласен даже уступить мне на время все крепости по Дунаю, чтобы русские щиты заслонили подступы к Царьграду с северо– востока. Михаил Дука уже смирился с потерей Италии, но потерять азиатские владения он не хочет, потому намерен собрать все войска в кулак и биться насмерть с сельджуками.
– А в это время русские дружины будут защищать восточные рубежи Империи. Так?
Святослав взглянул на жену, настороженный её тоном.
– Ромеи обещают щедрую плату за помощь, – сказал он. – Разве овчинка выделки не стоит?
– Не закончив одну войну, ты намереваешься ввязаться в другую, ещё более кровопролитную, – произнесла Ода после короткой паузы. – Не дело это, Святослав. Подумай, стоит ли рисковать жизнью Романа даже ради всего золота ромеев.
Святослав вдруг усмехнулся, в. глазах у него сверкнули озорные огоньки.
– А как глядели на тебя послы ромейские на обеде и в тронном зале. Какими похвалами тешили! Особенно гот носатый, который пил вино сверх всякой меры. Я думал, боярыни киевские лопнут от зависти, слыша все это. Чай, им таких похвал от гостей заморских вовек не дождаться, коровам толстозадым!
И он весело захохотал.
Ода, видя, что супруг явно уходит от сути разговора, демонстративно задула светильник и легла в постель…
Всеволод, получив послание брата, прибыл в Киев с той поспешностью, с какой могли примчать быстрые лошадиные ноги.
Прежде чем допустить Всеволода к беседе с ромейскими послами, Святослав захотел выяснить, как отнесётся он к тому, что лелеял в своих тайных помыслах старший брат. А замышлял Святослав ни много ни мало отнять у ромеев не только Тавриду, но и земли по Дунаю.
– Прадед наш Святослав Игоревич[46][46]
Святослав Игоревич – знаменитый киевский князь, совершивший походы на волжских булгар, хазар и Византию. Правил с 964 по 972 г.
[Закрыть] не где-то, а на Дунае хотел видеть свою столицу, – молвил Святослав брату, встретившись с ним с глазу на глаз. – Кабы не безвременная смерть его, так Русь и поныне твёрдой ногой стояла бы на Дунае. Ромеям все едино с болгарами не совладать, а мы совладаем. Так зачем нам стеречь владения дряхлого старца, ежели можно просто забрать их под свою руку. Подумай, брат, как усилится Русь, коль закрепится на Дунае. Да мы сможем входить без стука к любому из европейских государей! Изгоним греков из Тавриды, а всю их торговлю себе возьмём, станем напрямую торговать с Востоком и Западом!
Всеволод слушал, кивая русой головой и поглаживая густую бороду. Он видел, что у Святослава от заманчивых перспектив голова кружится. Однако Всеволоду, честному и прямодушному, не хотелось действовать коварством, а тем более против византийцев, с которыми его одно время связывал родственный брак. Более того, Всеволод слыл не только на Руси, но и в Царьграде другом и союзником ромеев.
Поэтому он постарался мягко разубедить Святослава: русским князьям более к лицу действовать коварством против степняков-язычников, нежели против единоверцев.
– Можно подумать, единоверцы-ромеи не платили нам подлостью за дружбу, – проворчал Святослав. – Даже договоры с нами они наполняют обилием соритов и утидов[47][47]
Сориты и утиды – виды силлогизмов, предназначенные для превращения обвинительной речи в оправдательную и наоборот.
[Закрыть], часто заменяя существующее положение вещей сослагательным наклонением, дабы в будущем было легче нарушать эти договоры.
– Все равно, брат, не пристало нам уподобляться обманщикам в делах, где не обойтись без крестоцелования, – заметил Всеволод. – По-моему, честнее объявить ромеям войну и отвоевать Тавриду, чем под видом друзей проникать в их владения и вдруг становиться врагами, сорвав личину с лица. Подло это и низко!
– Я так и думал, что с тобой кашу не сваришь, – Святослав рассердился. – Ещё один Феодосий выискался на мою голову! Ещё один праведник поучать меня надумал! Что же ты, брат, Изяслава не вразумлял, когда тот творил дела неправедные?!
– Изяслав ныне пожинает плоды своего недомыслия, – хмуро промолвил Всеволод, – а тебе лучше бы не тягаться с ромеями в коварстве, но доказать им своё величие благородством поступков.
Святослав в присущей ему манере не стал продолжать разговор. Хорошо разбираясь в людях, он знал, в какой ситуации на кого можно положиться. Сделав вид, что слова Всеволода его убедили, Святослав заговорил о том, что было бы неплохо соединить супружескими узами Всеволодову дочь Марию с одним из младших братьев императора ромеев.
– Но ведь Мария обручена с твоим сыном Романом, – слегка растерявшись, промолвил Всеволод. – Дело к свадьбе идёт.
– Не дело сводить на брачное ложе двоюродных браги и сестру, – мрачно сказал Святослав. – Поженили мы сына моего Глеба и дочь твою Янку, видя, как любят они друг друга. Казалось бы, благое дело сотворили. Ан нет! Священники-греки во главе с митрополитом Георгием и поныне брюзжат, что, мол, я потакаю кровосмесительству. А посему подыщем для Романа другую невесту, уж не обессудь, брат.
Всеволод не стал возражать, поскольку сам в душе желал подыскать для Марии иноземного жениха, только не решался сказать об этом.
От Святослава не укрылось, что брат не только согласен, но и рад возможности породниться с семьёй византийских императоров. Поэтому на встрече с греческими послами Святослав сразу заговорил о прекрасной возможности подкрепить военный союз Руси и Византии ещё и брачным союзом. Дальнейший разговор свёлся к тому, когда провести смотрины русской княжны и когда лучше сыграть свадьбу, которой придавалось особое значение ввиду того, что киевский князь считал это событие некой гарантией соблюдения ромеями данных ему обещаний. Об этих обещаниях не знал даже Всеволод. Святослав не собирался посвящать его, видя, что брат ни в коем случае не желает враждовать с ромеями.
Послы уехали обратно в Царьград, а Святослав послал гонца в Тмутаракань с повелением Роману расправиться с корсуньским катепаном…
В начале осени из Киева отправился в столицу ромеев целый караван судов. На самой большой и красивой ладье плыла дочь Всеволода Ярославича. Вместе с КНЯЖ" ной в далёкий Царьград отправились её верные служанки и доверенные люди Всеволода, которым надлежало на месте выяснить, годится ли в мужья Марии предлагаемый жених, не страдает ли он телесной немочью или помрачением рассудка. Послал в Царьград и Святослав своего боярина, которому предстояло договариваться от лица киевского князя с самим Михаилом Дикой.
В эти же дни свершилось ещё одно событие, коего долго ждал Святослав Ярославич.
По его указанию монахи Печерского монастыря вот уже два года составляли «Изборник», куда помещали многие известные труды нынешних времён и времён минувших, повествующие о суде, власти, справедливости и прочем, полезном для пытливого ума. В «Изборник» были вставлены отрывки из разных сочинений, переведённые с греческого и латыни, богословские тексты, но с таким умыслом, чтобы показать, что «князь бо есть Божий слуга человеком милостью и казнию злым».
Таким хотел видеть себя Святослав перед нынешними и грядущими поколениями.
Готовую книгу в новеньком переплёте из телячьей кожи принёс в княжеский дворец новый игумен Печерской обители – Стефан.
Святослав встретил Стефана с непоказным радушием, поскольку в прошлом тот не раз гостил в Чернигове и даже помогал иноку Антонию, спасавшемуся от гнева Изяслава, основать близ Чернигова Ильинский пещерный монастырь. Преемником Феодосия в Печерском монастыре Стефан стал тоже не без помощи Святослава. Двух этих в сущности разных людей связывало одно: стремление поставить Киевскую Русь во главе всех православных государств. И если Святослав на этом поприще был готов действовать копьём и мечом, то Стефан избрал своим оружием славянскую письменность, полагая, что слово, написанное кириллицей, весомее греческих молитв, звучащих во многих русских храмах.