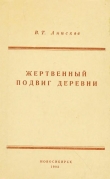Текст книги "Кануны"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
XI
Днем в казанскую Прозоров с ружьем решил через поскотину уйти к дальним лесным покосам, потому что никого не хотел видеть. Тоска, затихая, опять завершилась странным равнодушием, бесконечно тягостным отвращением к самому себе.
Над рекой он долго стоял у берега. Облака и небо отражались в омуте с удивительной точностью, без единого, нарушающего иллюзию искажения. Еще в детстве, бывая у тетки, он подолгу стоял у реки и смотрел в это бездонное перевернутое небо. Ему казалось тогда, что травяной берег под ним обрывается синей бездонной пропастью. И так страшно было прыгать в эту небесную пропасть, а потом так приятно было вернуться в реальность, ощущая под пятками песчаное дно и разбивая ладонями эту отраженную водой беспредельность! Но это было в омуте, а там, вверху, беспредельность никогда не исчезала, она существовала, и от нее некуда было деться…
Около небольшого клона ржи он положил ружье и лег на спину на скошенный луг. В зените небо синело той же непознаваемой страшной безбрежностью. Владимир Сергеевич Прозоров отвернулся, отыскивая опору для глаз, но крупные клубящиеся облака лишь оттеняли эту безбрежность. Тогда он закрыл глаза и отвернулся совсем.
Земля была суха и тепла, словно нагретая не сверху, а изнутри. Запахи корней и пересохшей травяной зелени вернули ему ощущение самого себя, он снова взглянул вокруг.
Рожь, склоненная вся в одну сторону, была совершенно недвижима. Внизу, словно под золотым пологом, осененные колосьями, стояли густым подсадом сорные травы. Синими радугами ярко горели многие васильки, белели неувядающие ромашки. И – Прозоров знал, чувствовал это – везде по земле лежали голубые, серые, красноватые камни. Каждый год, сколько ни собирай их, они выпахиваются из земли, как будто роятся. В юности, во время приездов к тетке в имение, Прозорову хотелось думать, что камни рождаются от чего-то, растут, но растут не днем, а лишь по ночам. Странное и отрадное воспоминание.
Летающие парами белые и желтые бабочки трепетали крыльями в ржаных колосьях. Отрешенно гудели шмели. Ковали неутомимые молоточки кузнечиков. В травяной стерне, раскрыв от жары клюв, переваливаясь, бесшумно ходила крупная самоуверенная ворона. Она прыгнула на нижний сучок сосенки, поглядела черным колдовским глазом, бесшумно же улетела. И только закачалась сосновая ветка.
Прозоров сосчитал мутовки сосны, их было около двадцати. Значит, сосне двадцать лет. Он, Прозоров, старше ее почти вдвое, но он уже прожил половину своей жизни. А сосна только начала свою жизнь. Она увидит здешнюю рожь, и реку, и эти камни через шестьдесят лет, а его, Прозорова, уже не будет… Но куда же он исчезнет? Не будет ни его, ни тех людей, которые живут сейчас, а камни, и речка, и небо останутся в мире. Так же как сейчас будут вокруг конусы пахучих стогов и рожь, хранящая тишину, и обросшие мхом горячие валуны, и древние дома деревень, и неясные, красноватые облака, и многоголосая зелень лесов, кустов, мхов и лугов…
Но что дальше? Уже сколько раз мысль его заходила в тупик, натыкаясь на собственное бессилие. Он застонал, повернул голову, и его взгляд вдруг остановился, застыл: круглое отверстие ружейного ствола упиралось прямо в глаза.
«Надо остановить, надо скорее прекратить это… – сказал он себе как бы со стороны. – Все это нелепо… Все глупо и ничего не нужно, надо закончить… Ведь это так просто остановить. Надо разуться, взвести курок… нажать вон на ту железку. И все. Все сразу же прекратится».
Но небытие, коснувшись его, родило в душе холодный страх и неизбывный ужас. Владимир Сергеевич Прозоров вскочил. Пот выступил на лбу, руки дрожали. Он с омерзением подумал о смерти: «Наверное, у людей есть предел абстрагирования. Это он не позволяет сходить с ума. Но что же такое смерть? И почему люди не боятся ее?»
Овечья тропа в прогоне вывела его на неширокое, окруженное соснами взгорье. Здесь, на поляне, два мальчика-пастушка с натугой дуля на потухшие головешки. Дым слезил им глаза, а ребята смеялись от этого. В сосновых космах затухал, шумел душный ветер, чуялись призрачно-нездешние звуки коровьего колокола. Из кустов шумно вздохнула корова, она долго, до нового вздоха, глядела на Прозорова.
Он помог ребятишкам развести пожог, успокоился и пошел в лес, пересек поскотину и перелез осек, потом вышел на тропу, ведущую на дальние сенокосные пустоши. Он хотел обычной усталостью заглушить свои размышления, продирался через чащу, ломая ветки, оборонивался от комаров. Шум сосен, далекий голос колокола и медленно пробуждающийся первобытный зов к добыче наконец растворили его в лесу, он снова не ощущал самого себя, сливаясь с окружающим миром.
Большая птица снялась недалеко от него. По хлопкам крыльев он ощутил то место, где она затихла, напряженно оглядел крону сосны, увидел серый птичий силуэт, сдерживая дыхание, прицелился. Выстрел грохнул раскатисто и торжественно, словно разрядилась не гильза, а Прозоровская душа, и он подбежал к сосне. На иглах, распластав полусаженные крылья, лежал матерый лесной ястреб. Его серповидный клюв то открывался, то закрывался, издавая крякающие звуки. Рябая шея изгибалась, и желтая лапа угрожающе распускала когти.
«Значит, здесь есть рябчики», – подумалось Прозорову. Он добил хищника стволом ружья и осторожно пошел дальше, хотел закурить, но спичек не оказалось. «Видать, выронил их, когда возился с ястребом», – подумал он и вернулся к сосне. Спички лежали на земле, а ястреба не было: заряда дроби и двух ударов стволом оказалось мало, чтобы укокошить хищника.
Теперь он, слегка разозленный, ступая более спокойно, пошел к осеку. Снова над ним прошумел по вершинам душный ветер. Пробарабанил дятел, под подошвой треснула ветка, и вот в двух саженях от Прозорова поднялся рябчик. Он слетел не очень далеко, сел на двойную березу и еле слышно дважды тоненько свистнул. Прозоров прицелился и выстрелил. Он знал, что не мог промахнуться, вывел дымящуюся гильзу и, стараясь быть неторопливым, приблизился к берегу, раздвинул ружьем вересковые ветки.
В траве, не двигаясь, сидел тихий небольшой рябчик-подранок. Он клонил голову, и его круглый коричневый глазок смотрел не на охотника, а куда-то сквозь, равнодушно и отрешенно. Пониже глаза, на хохлатой головке, выступила крохотная розовая капелька крови. А рябчик все смотрел и не двигался, словно сидя в гнезде, наивен и как будто доверчив.
Прозоров, зажмурившись, выстрелил в этот маленький беззащитный комочек жизни… И бросил ружье в сторону.
Потом он долго стоял над мертвым рябчиком. Все прежние мысли начинались сначала. Лес шумел вокруг. Комары гнусили над ухом нудно и мерзко, голова кружилась от запаха лесных папоротников. Прозоров присел на колодину, раздавленный, уничтоженный, охваченный еще большим равнодушием и тоской. Ему ничего не хотелось, желаний не было. Он зажал виски ладонями и заплакал, заплакал без слез, изнутри, как плачут животные…
Ничего не было в нем, было лишь равнодушие, пустота и еще цинизм к самому себе, к своему рождению, к своей и ко всякой жизни. «Что такое? – думал он про себя. – Зачем ты? Что? Для чего природа осознала себя в лице твоем? С чего началось все ЭТО и чем кончится?»
Тут он вновь припомнил свое ружье, но сарказм и цинизм сделали нелепой и эту последнюю мысль, казавшуюся до этого благородной и не лишенной смысла. И он уже не плакал теперь, а хохотал над собой и над всем, что есть, хохотал и над тем, что хохочет, издевался и над тем, что издевался: «Вот… Выходит, что ты дерьмо… Ты говоришь о бессмысленности, а сам боишься нажать на этот дурацкий крючок. Боишься».
– Но неужели я боюсь ЭТОГО? – сказал он, встал, взял ружье и проверил патрон. Железо слегка холодило ладони. Он разглядывал засиженный мухами ствол: «Боишься… Но ведь если кто-то боится чего-то, значит, есть и эти кто-то и что-то… и, значит, есть во всем этом какой-то хоть самый маленький смысл… Но в чем же он, этот смысл?»
День, истекая зноем, медленно таял над лесом. Косое солнце светило сквозь медные просветы в листве и хвое. Сумерки уже таились в чаще.
Прозоров машинально встал, машинально же и неосмысленно пошел. Ему хотелось заблудиться в лесу, исчезнуть и сгинуть навек среди этих коряг и деревьев. Ноги, однако, ступали и сами несли его в сторону деревень. Он вышел на знакомое место.
Сеновал, набитый свежим сеном, стоял на скошенной пустоши. Прозоров почувствовал вдруг невероятную усталость. Поясница ныла, словно после тяжелой работы, в голове и в ногах застыла тяжесть. Он зашел в сеновал, бросил ружье, лег на сено и в ту же минуту уснул, словно провалился в небытие.
Сон его был долгим и без всяких видений. Но вот какая-то искра мелькнула в затемненном сознании, и оно раздвоилось, потом одна половина как бы исчезла, а Прозоров сам себя увидел во сне. Ему снилось, что он умер. Он так четко, определенно ощутил свое небытие, свое исчезновение. Жалость к себе, умершему, исчезнувшему, ужаснула его, вокруг разлилась щемящая необъятная скорбь. Что-то бесконечное, неопределенное и всесильное окружало и поглощало его, он не знал, что это, он только чувствовал, что это и есть смерть. Его отсутствие, его исчезновение. Да, он умер, его нет больше в мире. «Меня нет, я умер, – думал он. – Но почему я думаю? Ведь если бы я был мертв, я бы не знал, что я умер, я бы ничего уж не думал». Эта простая и ясная мысль свалила с него страшную тяжесть, он проснулся. Дожидаясь, пока кончится сердечная спазма, он еще лежал на спине. Но вот сердце по-птичьи встрепенулось и сильно забилось. Он вскочил.
Была уже ночь, может быть, поздний вечер. Он шел к Ольховице по сумеречным тропам и ощущал какое-то страшное облегчение. Какое-то еще не осознанное чувство освобождения радовало его. Боясь, что оно исчезнет, он даже и не хотел осознавать это чувство, шел и шел по травяным тропам, все ускоряя шаг.
Где-то впереди или сбоку наигрывала гармонь: запоздалые гуляки правились в Ольховицу. Воздух был по-прежнему душным, с востока следом надвигалась гроза, гром быстро приближался.
Ольховица гудела как улей. Чтобы не попадаться никому на глаза, Прозоров обошел шумную гуляющую деревню и ступил на речные лавы, намереваясь зайти к отцу Иринею. В это же время в деревне образовалась странная пауза. Гармошки стихли, раздался пронзительный женский визг, крики и звон стекол, но гроза заглушила эту новую вспышку Драки. Молния осветила белую пыль дороги и траву, когда хлопнули о Дорогу первые капли. Ветряной шум в крышах затих, уступая место аскатам картавого грома. Темнота стала как в осеннюю ночь, дома растворились в ней.
Прозоров быстро, почти бегом, достиг деревни. Будто вгоняя в пыль гвозди, бухнули сверху первые капли, хлынул дождь. Речной омуток у мостика в свете молний ходил как на дрожжах. В Прозорове вдруг проснулось что-то, вспыхнуло и загорелось, мускулы напряглись и сердце застукало быстро и четко, словно разбуженное. Он вскочил под навес первого попавшегося въезда, вдохнул запах дождя, приправленный кремнево-искровым запашком грозовых разрядов. Он смотрел, как гуляющие бежали по улице. Ломаные линии молний из золотых стали не то голубыми, не то дымно-зелеными, они подолгу чертили темень, и гром шарахался во все стороны и затихал, стушеванный шумом воды. Вновь треснула широкая сильная молния, и в ее нездешнем освещении Прозоров увидел вдруг женскую фигуру. Тонкая, как тростинка, держа в руке башмаки, стояла у канавы на голубой траве какая-то девчонка, он видел ее всего секунду. И так ясно, остро запечатлелось в памяти чуть испуганное лицо, короткое движение перед прыжком и босые, рельефно утолщенные к бедрам, облепленные до ниточки промокшим платьем ноги и каплевидная грудь! Грохот и мрак поглотили ее тотчас, она исчезла, словно видение, и при следующей вспышке он уже не увидел ее, только голубая трава дымилась под струями.
– Ой… кто это? – услышал Прозоров и не успел ответить. Новый громовой треск взорвался над ними и долго стелился, шарахался по улице из стороны в сторону.
– Не бойся, – Прозоров не узнал своего голоса. – Тоня?!
– Ой… Владимир Сергеевич…
Свет от молний был слишком призрачным, каждый раз неожиданным. Прозоров зажег спичку. Они глядели друг на друга, он чуть ли не испуганно, а она, как ему показалось, насмешливо и с озорным интересом. Огонь погас, и Прозоров, боясь, что она уйдет, исчезнет, шагнул к ней. Неожиданно для себя поймал в темноте горячую, мокрую от дождя девичью руку.
– Тоня…
Она не вырвала и даже не попыталась убрать свою руку.
– А чей это дом? – спросил Прозоров, ликуя и задыхаясь.
– Я в гостях тут… У крестной. Заходите, Владимир Сергеевич.
Теперь он вспомнил, чей это был дом. Незапертые ворота звякнули железной защелкой, из сенника послышался сонный старушечий голос:
– Это ты, Тонюшка? Ворота-то не забудь, запри.
– Запру, крестная.
Однако Тоня не заперла ворот. Она открыла дверь в летнюю избу, пропустила за порог Прозорова.
Здесь было тепло и сумрачно, в увернутой лампе горел огонь, пахло квашонкой. Кошка хотела потереться о мокрое голенище, но раздумала и уселась на лавку. На столе, прикрытом чистой скатертью, стояли, идимо, пироги, а в большой, точенной из дерева, крашеной чашке пиво Али же сусло.
– Ой, я вся, вся мокрая! – Тоня укрылась за печью. – Я сичас… огонь можно вывернуть…
Очередной громовой раскат, словно выручая Прозорова, так ударил над крышею, что даже лампа мигнула. Прозоров вывернул в лампе фитиль. Осветились тесаные желтые стены, зеркало на простенке, завешенное от грозы полотенцами, дорожки половиков на чистом белом полу. Тоня, переодетая в сарафан и сатиновую с воланами кофту, босиком вышла на середину избы, метнулась за самоваром к шкафу.
– Не надо самовар, Тоня! – остановил Прозоров, и она послушно закрыла шкаф.
– Садитесь… за стол, сичас студеню принесу.
Она быстро сходила куда-то в сени, принесла чашку крепкого бараньего холодца и раскрыла скатерку.
Прозоров глядел на нее словно во сне, не веря себе.
– Тоня, почему ты не пришла? На берег, в иванов день…
– Мне не сказали тогда… – она вспыхнула и опустила темнокосую голову. Но он сквозь густые ресницы заметил благодарный блеск в ее карих глазах.
– А если бы сказали, пришла бы?
– Да… – просто и очень тихо сказала она.
За окном в темноте широко и раздольно шумел, хлестал сплошной ливень, но гром гремел все глуше, гроза уходила.
– Тоня, мне надо поговорить с тобой, – глухо сказал Прозоров. – Ты знаешь о чем…
– Да, – ее голос был теперь еще тише, она перебирала пальцами голубую ленту правой косы.
– Но ведь… – Прозоров встал, подошел к ней. – Я старше тебя… лет на пятнадцать, не меньше.
Она молчала, не двигалась, только слегка вздрагивали ее длинные темные ресницы.
– И все равно ты согласна?
– Да…
Она вдруг всхлипнула, и сразу задрожали ее узкие плечи, ладони зажали все лицо, и Прозоров, счастливый, не зная что делать, заходил по избе.
– Тоня… – Он остановился. – Я приду к вам в Шибаниху!.. Послезавтра. А ты поговори с братьями.
Она кивнула, соглашаясь, но не прекращая рыданий и не отнимая рук от лица. Ему хотелось обнять, сжать эти узкие плечи, сказать что-то хорошее, благодарное. Но ничего этого он не сделал, он лишь быстро вышел в сени, нашел скобу ворот и вышел на улицу.
«Странно… – думал он, быстро ступая по дождевым лужам. – Так хорошо и странно все. Оказывается, никогда нельзя доверять себе. Жизнь, мир, они богаче того, что ты знаешь или чувствуешь, все намного богаче и шире…»
Гроза выдыхалась и уходила все дальше к поскотине. Половина неба очистилась, обнажая зеленоватые звезды. В тишине выкатывалась крупная оранжевая луна. Впереди по дороге мерцали редкие изумрудные светлячки, гром ворочался вдалеке все тише и добродушней.
Деревня спала с открытыми окнами. Где-то за домами еще чуялись запоздалые голоса, бас отца Николая. Первый петух встрепенулся и пропел на чьем-то дворе, размеренно и не спеша скрипел у речки дергач. И такая полнота жизни, такая радость ее чистоты увиделась Прозорову во всем этом, что он улыбнулся своим вчерашним мучениям. Его равнодушие исчезло, словно озонный грозовой дым.
Он вышел на берег речки, как раз напротив домика отца Иринея, сел на камни, удивляясь тому, что до сих пор не хочется ни есть, ни спать, что голова свежа и во всех мускулах странная неожиданная легкость, что хотелось двигаться и делать что-то тяжелое.
Он дождался тихого, светлого и спокойного восхода, встал и пошел домой к своему флигелю.
От угла дома отделилась чья-то фигура. Прозоров остановился, навстречу ему, не здороваясь, шагнул военный.
– Гражданин Прозоров Владимир Сергеевич?
– Да, – удивился Прозоров. – А с кем, собственно, имею честь…
– Являюсь замначальника уездного ОГПУ.
– Чем могу служить?
– Я обязан вас задержать.
– Позвольте…
– Идите вперед меня!
И Скачков положил руку на расстегнутую кобуру.
XII
– Яшк! А Яков Наумыч? – Ерохин осторожно потряс за хрупкое плечо спящего на скамье Меерсона. – Вставай, будем чаевничать. Вставай, вставай, дела много. Счас буржуя станем глядеть.
Меерсон вскочил со скамейки.
Ерохин энергично ходил по скрипучему полу. Вся чрезвычайная тройка ночевала в холодной комнате ККОВ.[4]4
ККОВ – крестьянский комитет общественной взаимопомощи.
[Закрыть] Легли поздно, после заседания ячейки, утром Ерохин тоже не дал поспать. Меерсон сонливо щурился, шарил в карманах, искал очки. Его большое смугловато-мертвенное лицо было помято и казалось растерянным, большая серебристо-рыжая голова никак не поворачивалась на затекшей во время сна шее. Ему пришлось повернуться к Ерохину всем туловищем.
– Где мылись, Нил Афанасьевич?
– В речке.
«Опять врет, – подумал Меерсон, беря из портфеля мыло и полотенце. – Не мылся же, видно по физиономии».
– Там прихвати мыло мое! – крикнул Ерохин. – На лавах оставил. Мыльницу жаль, казеиновая.
Меерсон ничего не ответил.
Ерохин раскрыл командирскую сумку, вынул трофейную английскую кружку, колбасу, хлеб и сахар. Большой круглый кофейник с кипятком, приготовленный уборщицей Степанидой, уже стоял на столе. Микулин звал всех троих к Веричеву, пить чай, но Ерохин отказался и попросил только достать кипятку.
Было около шести часов утра.
Ерохин, не дожидаясь Меерсона, быстро позавтракал. Он выпил из кружки вприкуску с сахаром ничем не заваренный кипяток, полистал блокнот, на каждом листке которого стоял типографский заголовок «секретно».
Последняя запись, сделанная перед отъездом сюда, гласила:
№ 1. Допросить лично, кто выпорол селькора Сильверста Сопронова. Арест виновных (поручено ОПТУ Скачкову).
№ 2. Бывш. помещик Прозоров. Антисоветская агитация. (Заняться лично.)
№ 3. Благочинный Сулоев. Контр, рев. пропаганда. Религиозные действ. Материалы по выселению. Арест. (Поручено зав. АПО Меерсону.)
№ 4. Положение в колхозах. (Кредитка, ТОЗ, маслоартель и коммуна им. Клары Цеткин.)
№ 5. Сельхозналог и самообложение.
№ 6. Чистка в кооперации.
№ 7. Выполнение разверстки по крестьянскому займу.
№ 8. Гр. бедноты.
№ 9. Батрачество.
№ 10. Контрактация и договора.
Ерохин поставил жирную птичку напротив трех первых пунктов и, смахнув со стола хлебные крошки, задумался. Какие же результаты за сутки работы? Организовать чрезвычайную комиссию в Ольховскую волость губком потребовал специальным письмом. К письму прилагались машинописные копии двух анонимных писем, сообщавших о порке селькора и контрреволюционной деятельности бывшего дворянина Прозорова и благочинного Сулоева. Предлагалось подготовить материал по выселению. Ерохин, не медля ни дня, возглавил комиссию и выехал на место. Но он приписал к трем основным пунктам в блокноте еще семь. Так или иначе, семь этих вопросов настойчиво упоминались во всех последних директивах губкома и губисполкома и по ним надо было тоже немедленно отчитываться перед губернией.
Итак, четвертый пункт: три здешних колхоза. Один из них – кредитное товарищество – объединял около двух десятков деревень с охватом тридцати пяти процентов населения. Все кредиты, отпущенные сельхозбанком, были распределены и использованы по назначению, товарищество росло. Члены кредитки сами организовали прокатный пункт о сельхозинвентарю, а некоторые уже написали заявления о том, чтобы объединить по паям часть надельных земель для совместной обработки. И все это вполне отвечало требованиям губернских директив о развитии производственной кооперации. Правда, тут Ерохин каждый раз слегка спотыкался. Последнее время губерния, с одной стороны, хвалила его за рост кредитно-машинных колхозов, а с другой – ругалась и требовала какого-то особого подхода в распределении кредитов и машин.
Он как-то замял, незаметно для себя выпроводил из головы это недоразумение и перешел ко второму колхозу.
Ольховская маслоартель была гордостью всего окружного союза молочной кооперации, а потому, само собой, его, Ерохина, гордостью. Недавняя покупка нового сепаратора и быка-производителя закрепила успех этого колхоза, и теперь артель объединяла более восьмидесяти процентов здешнего населения. Иными словами, почти все хозяйства волости, имеющие коров, оказались кооперированы, и это была не просто сбытовая кооперация, но в какой-то степени и производственная.
Ерохин встал, скрипя сапогами и половицами, прошелся. На очереди оказалась Ольховская коммуна имени Клары Цеткин. Но об этом колхозе ему даже не хотелось думать. Практически колхоз развалился, члены его разъехались, земля не обрабатывалась, а во всех отчетах и сводках коммуна по-прежнему числилась.
Он взглянул на пятый пункт, но дело с сельхозналогом и самообложением оказалось у Микулина как раз на высоте. А вот шестой пункт – о чистке в кооперации – опять же был не то чтобы неприятным, но каким-то неопределенным и потому тягостным.
Седьмой пункт – крестьянский заем, тоже все хорошо, вопрос с регистрацией батраков и организацией группы бедноты решен положительно. Ну, а контрактация посевов и договора – это лузинская епархия. Пусть занимается, прямая обязанность заведующего финотделом уисполкома. Тем более Лузин бывший председатель здешнего ВИКа.
Ерохин потянулся, зевнул. Сказывалась бессонная ночь. В комнате появился Микулин, он с напряженною расторопностью прикрыл дверь.
– Товарищ Ерохин! Прозоров приведен. Товарищ Скачков велел сказать.
– Так. Иду. – Ерохин заправил гимнастерку. – А ты, Микулин, немедленно собери группу бедноты.
– Быстро не собрать, товарищ Ерохин, праздник, вишь, казанская…
– Что значит не собрать? Что значит праздник?
Микулина словно ветром сдуло.
Секретарь прошел в соседнюю комнату.
Скачков сидел за столом, Прозоров стоял, дожидаясь приглашения садиться. Ерохин сел за другой стол. Прозоров, обращаясь к Скачкову, заговорил:
– Все-таки я бы хотел знать, чем объяснить это… эдакое… – он не мог пдобрать слова и тоже сел. – Почему, собственно, я вам понадобился?
– Спрашивать, гражданин Прозоров, будем мы вас, а не вы нас! – перебил Ерохин.
– Позвольте, а кто это вы? – обернулся Прозоров.
– Я секретарь укома.
– Товарищ Ерохин?
– Так точно, – глаза Ерохина смеялись. – Я Ерохин, а вы Прозоров, дворянин, если не ошибаюсь?
– Чем могу быть полезен? – резко спросил Прозоров.
– Опять вы задаете вопрос! Но я же предупреждал, что спрашивать будем мы.
– Очень странная форма общения!
– Ну, это уж не вам выбирать, – засмеялся Ерохин. – Так вот, Прозоров…
– Я что, арестован?
– Считайте как хотите. Скажите…
– Я не буду отвечать на ваши вопросы! – сказал Прозоров.
– Скачков, пиши протокол. Первый вопрос. Что говорил в лесу? Середняку Климову, о земле, о ликвидации нэпа?
– Я не понимаю вас. Что я мог говорить? Не помню, что я мог говорить, тем более о нэпе.
– Значит, не помните. Тогда, может быть, вы вспомните момент у кооперативной лавки… с продажей зерна? Середняком Роговым Павлом Данилычем? И ваши подстрекательские действия в отношении Рогова…
– Какие действия? Я показал газету с постановлением об отмене чрезвычайных мер, только и всего.
– Вот, вот.
– Я ознакомил Сопронова с постановлением правительства, подписанным Председателем эСэНКа.
– А кто вас просил? Вы что, агитпроп? Или, может, зав. избой-читальней?
– Не понимаю… – с мучительной гримасой произнес Прозоров. – С каких пор читать центральные газеты считается уголовным делом? Не понимаю я вас, товарищ Ерохин.
– Поймешь, время придет.
Ерохин резко встал, шибанул ногой табурет и направился к двери.
– Скачков, продолжай допрос!
Дверь сильно хлопнула и распахнулась. «Чертов барин… – ругался секретарь в уме. – Вить, говорить научен, грамотный. Ну, я ему покажу грамоту».
– Меерсон! Где Меерсон?
– Одну минутку, Нил Афанасьевич, – Меерсон спешил по коридору с полотенцем и мыльницей.
– Ты долго будешь красоту наводить? Немедленно займись благочинным! А где этот парень, которого выпороли? Вызван?
Селька был вызван. Он перетаптывался в коридоре, не знал, что делать. Услышав голос Ерохина, он поглядел на свои рыжие, давно не мазанные сапоги, одернул синюю сатиновую рубаху и подошел к секретарю.
– Ты? – Ерохин окинул парня острым оценивающим взглядом. – Заходи.
Они исчезли в «колхозной» комнате. Между тем как Меерсон в комнате ККОВ торопливо жевал хлеб с колбасой, в кабинете Микулина Скачков продолжал допрос. Прозоров сидел нога на ногу, сцепив на колене длинные пальцы и глядя в окно, мимо Скачкова. Рассеянно, односложно он отвечал на вопросы. После того, что произошло за последние сутки, ему казалось смешным и жалким все то, что происходило сейчас. «Какая чушь! – думал он, словно не веря в то, что происходит. – Нелепость… глупо и мерзко… Кто-то написал в уезд о разговоре у осека с шибановскими мужиками. Сообщил и о покупке хлеба у Павла Рогова. Но что в этом предосудительного? Бывший помещик, лесовладелец, социально опасный субъект. Что может быть смешнее? И в чем же он виноват? Неужели только в том, что мыслит о будущем не совсем так, как бывший председатель ВИКа Степан Иванович Лузин, работающий теперь в уезде? Но с Лузиным можно было хотя бы поговорить…»
Скачков встал и прикрыл распахнутую дверь. Но Прозоров, оглянувшись, все же увидел, как по коридору прошел третий член чрезвычайной тройки, Яков Меерсон. Разумеется, это был он. Тот самый близорукий и рыжий, красневший без всякого повода гимназист. Брат черноглазой веселой Жени, с которой он, Прозоров, лежал когда-то в траве, за околицей уездного городка. «Какие странные метаморфозы… – думал Прозоров. – Впрочем, чего же тут странного? Прошло около двенадцати лет…»
– Так. Купил у Рогова хлеб. Почем?
– Что?
– Хлеб, говорю, почем? – повысил голос Скачков.
– Не помню, кажется, по два рубля пуд.
За окном разгоралось спокойное и свежее, светлое и зеленое послегрозовое утро. Слышались овечьи бубенцы, коровы трубили, подгоняемые пастухом. Ласточки чиликали над окнами Ольховского исполкома.
– Подойди подписать протокол, – сказал Скачков, по-домашнему достал вышитый крестиками платочек и высморкался.
Прозоров встал и, не читая, подписал.
– Я могу идти?
– Нет. Поедешь в уезд. А покамест придется тебе одному посумерничать. Только вот куда тебя поместить?
Прозоров побледнел. Не находя слов от возмущения, стыда и особенно от этого оскорбительного «ты», он сжал кулаки. Но, ступая впереди Скачкова, опять расстегнувшего кобуру, Владимир Сергеевич фыркнул, ему почему-то стало смешно.
* * *
Еще по росе, к амбару первым пришел дедко Клюшин. Он вынул замок, аккуратно повесил на скобу, открыл двери. Увидев Митьку, подивился:
– Хватит дремать-то, хватит! Вон люди скотину выпустили, самовары ставят.
Митька мотал черной спутанной головой. Не просыпался. Вскоре появился Никита Рогов. Старики сидели на приступке, нюхали табак, не чихая.
Митька же зачихал во сне и проснулся. Сел, продрал глаза.
– Драка-то большая была?
– Дурацкое дело не хитрое, – обернулся дедко. – Долго ли будут, Митрей, держать-то нас?
– Не знаю.
– А вот што! Надо, видно, жаловаться. Прошение в уезд послать, больше и делать нечего.
Пришел Жук, ночевавший у Гривенника, а из Шибанихи – Новожил, вставший до свету.
– А ты, Новожилов, глупо и сделал, – объявил Жук. – Сидел бы дома, нос не высовывал.
– Да как? Ежели вытребовали.
– Старики, а это чево? Кого волокут?
Из проулка верхом на отце Николае ехал Павло Сопронов.
– Паша едет. Гривенник погоняет, – сказал Жук. – Вицу, вицу-то выломи!
Следом действительно торопился Гривенник, а чуть дальше вышагивал Носопырь. Отец Николай, топая могучими, в полупудовых сапогах лапами, поднес Павла к амбару и посадил на порог:
– Баста! Обратно пусть сельсовет везет.
– Николай Иванович, за много ли подрядился? – не унимался Жук. – Вот, паренину бы на тебе пахать. Заместо Ундера.
Отец Николай порылся в подряснике, достал денежку и подал Гривеннику:
– Ишши! Кровь из носу…
– Спит прикащик-то.
– Займи!
Гривенник отказался искать вино, вернул деньги. Отец Николай схватил его за портошину, подтянул поближе, и неизвестно, что было бы с Гривенником, если бы за него не вступились:
– Да что ты, Николай Иванович?
– Гляди, фулиганство припишут. Начальство наехало, ступить некуда.
Мало-помалу около амбара скопились кое-какие бабы и гости. Ребятишки затеяли на лужке игру «в галу». Акимко Дымов с шибановскими гостями – Иваном Нечаевым и Володей Зыриным, не проспавшись как следует с гармошкой проходили по улице. Увидели народ, привернули к амбару. Пришли ребята-холостяки, ночевавшие по овинам и гумнам, объявились девки, и веселье получилось само собой. Народ со всей деревни потянулся на пляску. К полудню около амбара образовалась порядочная толпа. Все как-то забыли про арестованных стариков: казанскую в Ольховице всегда праздновали и на второй день.
Старики судили чего-то свое насчет сенокоса, девки под зыринскую игру плясали кружком и на перепляс, вокруг стояли бабы, обсуждая, кто во что одет; ребята, во главе с Митькой Усовым, окружили попа, тащили его сплясать:
– Ну? Николай Иванович!
– Слабо, слабо, где ему.
– Мне слабо? – Отец Николай топнул уже было сапожищем о приступок крыльца, но к амбару босиком, без корзины, подошла шибановская нищая, бабка Таня:
– Батюшко, чево скажу-то…
– Что, матушка?
– Надобен.
Отец Николай наклонился, подставил рыжую голову:
– Говори!
Таня что-то прошептала ему на ухо. Отец Николай сразу отрезвел, выпрямился и исчез за амбарами. Таня пошла за ним, опираясь на березовый батожок.
– Чего это он?
– В гости, видать, ударился, не знаю только к кому?
Ребятам хотелось поплясать, они пошли на круг. Гулянка начиналась взаправду, народ все подходил. Уже не однажды сменялись игроки, давая отдых друг другу, трава на кругу была до черноты выбита сапогами и башмаками, девичьи пары плясали без остановки, одна за другой. И тут кто-то из баб углядел идущее от исполкома начальство.