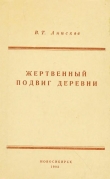Текст книги "Кануны"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Сухой, отстраненный щелчок прозвучал в сеновале, дуло качнулось и опустилось.
Тишина разверзлась над Павлом. Она обвалилась со всех сторон, и ничего не было в мире, кроме осечки, ничего не случилось. О, какая радостная, какая необходимая и радостная была эта тишина!
Павел шатнулся, он был снова прежний, один. И тот, что только что был вне его, снова соединился с мокрым от холодного пота телом.
Он шагнул к Сопронову…
Безумный нутряной крик, не родив эха, затих над поляной.
Сопронов дрожал словно осиновый лист. Дрожал и пятился в глубину сеновала. Павел вырвал ружье, отбросил и кратко, но, как ему показалось, долго, очень долго, поглядел в оловянные вращающиеся глаза. Но он не поймал их, они ускользали…
Павел повернулся и шагнул прочь. Радость из-за того, что он живет, и какой-то стыд из-за того, что он живет, и обида, и жалость ко всему живому на этой земле, и опустошающая вселенская горечь – все смешалось вокруг и в нем. Лицо его, обросшее щетиной, обрамленное на висках только что поседевшими волосами, нелепо и, как чудилось Павлу, по-дьявольски улыбалось…
Он вышел на взгорье, сел на бревнышко у картофельных ям, вытирая рукавом необлегчающие соленые слезы.
На другом берегу, там, за деревней, на возвышении роговского отруба, белела его мельница. Вечер, а может, уже и ночь, стихало вокруг. Шибаниха таинственно и ехидно молчала под круглой, нечаянно ясной луной.
Часть третья
I
Пролетели, как птицы, дни десяти месяцев. Зима, весна и сенокос 1929 года словно бы проскочили мимо Шибанихи: время от собрания к собранию укорачивалось все больше и больше. У Роговых даже прибавка в семействе прошла незаметно.
За стеной шумел в березах и хмельнике все еще теплый, но уже и не летний ветер – ветер остывающего тревожного августа. Дедко Никита качал в летней передней избе плетенную из сосновых дранок зыбку. Гибкий бесшумный очеп был старый, – качал еще внучку Веру, – выгибался легко и походно. Дедко тоненьким голоском приноравливался петь колыбельную. Выходило не очень-то жалостливо, но почти что по-бабьи. Забытые слова он по ходу песенки заменял новыми, своими:
Спи-ко, Ванюшко, голубчик,
Правой ножкой не лягай,
Ножкой правой не лягай
Да не поглядывай глазком,
Не поглядывай, не слушай,
Поваровей усыпай,
Одеялышко пухово
Не покидывай…
Правнук пособлял укачивать самого себя. Он утробно и в такт подтягивал дедку, не выпуская, однако ж, роговушку из беззубого рта.
Никиту Ивановича тоже клонило в сон. Сегодня он сам вызвался качать зыбку. Стояли сухие дни. Ржаные полосы позолотило за какую-то неделю, и у невестки Аксиньи враз пропало спокойствие: забегала, заплескала руками. Серпы с новой насечкой, привезенные Павлом из Ольховицы, доконали ее. Она не посмела просить старика, чтобы заменил ее у зыбки. Но дедко и сам видел все насквозь. Он без разговору, с утра, уселся качать.
Невестка с внучкой ушли на жнитво в новых передниках, возбужденные, словно на праздник. Иван Никитич ухмыльнулся: «Пусть потешатся». И… тоже ушел в поле с серпом. За ним побежал и Сережка.
Дедко видел все насквозь, и когда Павел вместо топора взял поутру серп, остановил его:
– Иди, куды наладился, сожнут без тебя. Погода не подведет, сожнут…
Павел не знал, что говорить. Не мешкая, он воткнул серп на старое место, схватил плотницкий ящик и ушел. Дедко поглядел вслед и сел качать…
Придут ли обедать-то? Аy нет, не придут, на полосу пирогов набрали. А Павло, этот забудет и про обед.
Теперь вот и сам задремал, до чего докачал. Деревянной ложкой старик подлил из ставца в роговушку топленого молока, подоткнул одеяльце.
В окно высокой летней избы, заслоненная наполовину подворьем Евграфа, виднелась двускатная крыша мельницы. За год бревна мельничного амбара, собранного на реже вокруг столпа, слегка потемнели от ветров и дождей. Древесная желтизна кровельных тесин уже слегка уступала серебристо-серому цвету.
Много воды утекло за этот год, так много, что и не высказать. А мельница стояла еще бескрылая, словно комолая. Все, кроме Павла, давно от нее отступились: и Клюшин, и Евграф, и сами Роговы. Один приемыш не отступил, тюкал и тюкал топором, не досыпая ночей.
Ребенок уже в сладком глубоком сне поглотал из пустой роговушки. Затих. Никита Иванович перекрестил его, задернул над зыбкой легкий ситцевый положок и пошел, чтобы полежать самому.
Постель была, как и в жару, все еще на верхнем сарае и тоже под пологом. Каждое лето до ильина дня Никита Иванович спал на верхнем сарае, да и много ли он спал, особенно летом? Часа три-четыре от вечерней зари до вторых петухов да час-полтора днем после обеда. В сенокос и того меньше…
Никита Иванович сунул в притвор дверей лучинный ощепок, чтобы оставить щель (будет слышней, если мальчик пробудится мокрый и заплачет). Откинул полог, прилег и стал слушать шум августовского ветра.
Широк, неизбывен был этот непрерывный тревожный шум, то отступающий куда-то к дальним лесам, то настигающий человека в родном дому. Да и сам дом широк, ничего не скажешь. Никита ставил его еще холостым, с отцом и дедом, николаевским солдатом, по прозвищу Рог. Прозвали так, видно, за силу и крепость. Тогда Рог уже не катал бревен, а только указывал да точил пилы и топоры.
Двор долго стоял без крыши. Сено держали в стогах, а солому в скирде около хлева. Лишь на третий год напилили тесу и закрыли эту обширную крышу, которая только теперь кое-где начала протекать. Но ветер пока нигде еще не может под нее подсочиться. Он шумит и летает вокруг, качает одни колышки хмельника да треплет березы.
Никита Иванович мысленно видит, как за стеной березовые отростки вскидываются от ветра в одну сторону, словно женские руки вослед рекрутской ватаге. В ушах почему-то стоит тальяночный звон, в глазах роятся зеленые мотыли. Шумят березы, шумит крыша, шумит весь мир за всеми пределами. Но вот шум этот стал затухать, отодвинулся и весь просеялся сквозь усталую стариковскую плоть. Темнота давила со всех сторон, а Никита Иванович спокойно глядел прямо в нее. Он вдруг увидел, как от левого сенника отделилось что-то еще более темное. Что-то остановилось и слилось с темнотой. Но от правого сенника тоже что-то метнулось, непонятно, то ли прочь первому, то ли навстречу.
«Беси, – мелькнуло в уме Никиты Ивановича. – Беси шныряют…» Ему хотелось вспомнить сейчас что-то очень важное и очень нужное всем людям. И он изо всех сил старался вспомнить это, но никак не мог, а они все копились, безмолвно являлись откуда-то из-за сенников, со дворной лесенки и даже из-под прошлогоднего сена. Они не обращали на него никакого внимания, хотя заметили его сразу. Он как будто глядел на них спокойно и, стараясь что-то припомнить, думал: «Беси… Беси, они и есть беси. Не надо с ними связываться, того и ждут…» А их становилось все больше и больше. Они лезли откуда-то, вначале боязливые и пришибленные. С тонким мышиным писком и с детским плачем они тянулись черными ручками во все стороны и тотчас пугливо отдергивались обратно, словно обжегшись. Но тянулись опять, еще упрямее. Так они сновали по большому роговскому сараю, как будто бы бестолково, сновали и вызывали к себе жалость дедка Никиты. Вид у многих из них и впрямь был довольно жалок, их нахально-беззащитные мордочки то и дело морщились, красные глаза слезились и моргали совсем беспомощно.
Дедко Никита, глядя на все это, дивился сам на себя. Удивлялся своему равнодушию и только мысленно приговаривал: «Что это? Чего это они, что им надо?» Он старался что-то припомнить. Потом он забыл и о том, что надо обязательно что-то вспомнить, и у него ничего не осталось в душе: она была пуста.
Между тем они, эти бесплотные духи и образины, становились развязнее с каждой минутой. Жалобный их стон и плач ни с того ни с сего резко переходил то в бесстыдно-утробное гоготание, то в сладострастное кряхтение, то в дикий, совсем непонятный хохот, который совсем не вязался с их слезливыми, заискивающими мордочками. Дедко Никита почуял, как рождается в нем странное беспокойство. Какая-то душевная жажда и неудовлетворенность, тоска и сердечная боль нарастали извне и вокруг него. А он все ничего не делал и глядел спокойно, он все еще верил, что они исчезнут, ежели их не трогать. Но, видимо, как раз это спокойствие и бесило их еще больше. Они метались вокруг старика, делая вид, что не замечают его. И он вновь удивлялся собственному терпению: «Что это я? Выгнать бы надо…» Однако ж, словно нарочно себе самому, он даже не сдвинулся с места. И тогда многие из них совсем обнаглели, стали подскакивать совсем близко и харкать в него, а он даже не вытирался и все дивился своему терпению: «Как это я? Ни рукой, ни ногой…» Теперь они щекотались и прыгали прямо через него. Иные плевались и дергали за бороду, а он все терпел и терпел, и вдруг они разом исчезли.
Дедко Никита лежал в холодном поту.
За стеной шумели березы, ветки царапались о тесовую крышу. То ли дождь, то ли птицы тюкали в желоба то там, то тут. Крыша тоже шумела от ветра.
«Не выгонил, придут еще… – подумал Никита в тоске. – Теперь повадятся, не отвязаться… Пожалел, дал потачку… не отвязаться…» И словно в ответ на это они появились опять. Только более крупные, и их было еще больше, чем давеча. Они сразу уж окружили Никиту со всех сторон, сверху и снизу. Дедко отмахивался от них, и они отлетали с непонятной легкостью, но он увидел, как другие начали взламывать сенники. Особенно старался один – коренастый и кривоногий, – он какой-то железиной пытался взломать замок.
…Весь дом дрожал и шатался, они хозяйничали теперь везде, со свистом и хохотом; крушили все, что попадется, а тот, что ломал замок, вдруг обернулся.
Это был сват Данило.
Дедко Никита хотел крикнуть: «Сват, ты-то пошто с ими? Да еще в главных…» Но голоса не было, сил крикнуть не было. И дедко Никита заплакал от горькой обиды на Бога. «Оставил меня еси, Господи, Господи… чем заслужил я жребий позорный мой? Господи…»
Он проснулся от детского плача. Младенец, словно полузадушенный, уже не кричал, а хрипел. Продолжая шептать молитву, Никита Иванович сел на постели. Боль в левом боку и тревога не покидали его. Все было спокойно: на вышке, на верхнем сарае и около сенников. Ветер стихал. Где-то совсем близко, там, в избе, горько, взахлеб, плакал младенец. Никита Иванович, крестясь и ругая себя, поспешил в избу. Хотелось ему взаправду помолиться, чтобы потушить страх и горечь только что пережитого кошмарного сна. Но там, в летней избе, плакал правнук. Никита Иванович открыл дверь: у порога стоял нищий – мальчик лет двенадцати – и тоже всхлипывал. Никита Иванович заглянул в корзину, окантованную резной берестой. На дне видно с полдюжины разномастных кусков.
– Ну, ну, ты-то чего? – сказал дедко. – Ведь ты уже большой. Взял бы и покачал.
Нищий мальчик заплакал тише, но еще горше.
– Ты чей? Откуда? – спросил дедко, наливая молоко в роговушку.
– С Тигины…
– Что, зашел, а хозяев нет и выйти боишься? – спросил дедко…
– Ыгы… – утираясь рукавом, тихо сказал нищий.
– Ну, ну, не плачь. Молодец.
Никита Иванович покачал зыбку, и маленький его правнук блаженно затих.
Старик открыл стол. Взял нож, отрезал от половины подового каравая большой урезок, посыпал солью и подал тигинскому мальчишке. Тот взял милостыню и поспешно пошел из избы, стуча по лестнице босыми ногами.
«Обрадел, – подумалось дедку. – Ишь, не рад и кусочку. Только бы на волю скорее».
Тяжесть кошмарного сна не развеяла и прибежавшая с поля Верушка:
– Ой, дедушко! Дай-ко я его покормлю.
– Корми, корми, матушка, – дедушко, бормоча что-то себе под нос, вышел, спустился по лестнице. «С Тигины парень-то, – подумал он. – А там, в Тигине-то… ковхозы наделаны. Надо бы поспрашивать».
Не по-стариковски резво Никита Иванович выбежал к палисаду, потом на середину улицы. Поглядел в один конец, в другой. Нищий направлялся в клюшинские ворота. «Вот и ладно», – подумал Никита. Он подождал, чтобы не испугать мальчишку, и чуть не рысцой заторопился следом за ним. Дедко Клюшин был и сам не дурак, он тоже спросил мальчишку, откуда тот родом и где ночевал.
– Ты погоди, парнек, погоди, – Клюшин как раз подавал милостыню, когда Никита Иванович зашел во двери. – Погоди. Ну-ко порассказывай, чего у вас в Тигине-то…
– Вот и я про то, – подсобил ему Никита Иванович. – Садись-ко. Кто там командер-от у вас? Все тот же Долбилов?
– Он, вишь, сменил фамильто, – поправил Никиту Ивановича дедко Петруша Клюшин. – В Тигине был Долбилов, а в Москве стал Демидовым. Я вроде бы и отца знавал евонного.
…Мальчишка-нищий испуганно шмыгал носом. Он никак не мог взять в толк, чего от него хотят два сивых шибановских старика.
Да, Тигина была богатая волость, ничего не скажешь. Но и оттуда люди ходили по миру. Благо мир был не только велик, но и понятен, не только суров, но и милостив ко всем вдовам и сиротам, больным и увечным.
– Ну дак еще-то кто у вас там в командерах-то? – не отступался Петруша.
– Да ты не бойся, ведь мы не кусаем. На-ко вот…
И дедко Клюшин достал из шкапа сиропный пряник. Нищий трепетно взял гостинец, сказал «спасибо» и спрятал в карман. Словно по духу учуяв дельные разговоры, пришли Жук и Евграф, в тесаном клюшинском передке незаметно оказался и кривой Носопырь, и сосед Савва Климов, и старик Новожил. А тут еще совсем нежданно из другой деревни пришел в Шибаниху кузнец Гаврило Насонов. Он за руку поздоровался с сивым Петрушей Клюшиным, расправил большую, с подпалинами, каштановую бороду:
– Вот, Петро Григорьевич, принес, о чем договаривались.
Он выложил на стол что-то завернутое в тряпицу.
– Степан! – заверещал Клюшин. – Где у тебя Таиска-то? Пусть самовар ставит!
Но ни сына Степана, ни невестки Таисьи в доме не было. Все жали рожь, да и Гаврило решительно отказался от чаю:
– Нет, Петро Григорьевич, самовар-то не надо-тко, я только что пил в Залесной. Ты вот прибери, прибери… Да вот и Никита Иванович тут. Глядите сами, ладно ли.
– Ладно, ладно, добро сковал, – приговаривал Евграф, разглядывая стальную продолговатую, вершка на два, плитку, с квадратным отверстием посредине. – Это чего, в жабку? В верхнее жерново? Туды игла-то от шестерни. Верхний-то конец как раз в эту дыру. Вот оно и завертится, жерново-то.
– Ты погляди…
– Добра штука-то. Звонкая.
Все дружно разглядывали поковку.
– Дак тебе, Гаврило Варфоломеевич, много ли за работу-то? – тихонько спросил Никита Иванович Рогов.
– А ничего. Мы с Клюшиным квиты.
– Нет уж, ты лучше со мной рассчитывайся, – не уступил Рогов. – Ты ведь знаешь, Клюшины из пая вышли.
Дедко Петруша Клюшин тем временем завернул поковку и подал ее тигинскому нищему:
– Мельницу-то видел на угорышке? Вот беги туды, унеси… Скажи, так и так. А ночевать-то приходи, ежели. Беги, беги, батюшко. Корзину-то оставь, никуды она не денется. Беги.
Мальчишка бегом побежал на мельницу.
– Каково живешь, Гаврило Варфоломеевич? – спросил Петруша. – Не возвернули голос-то?
Гаврило Насонов опустил бородатую голову, тихо сказал:
– Худо, брат Петро Григорьевич… Хуже некуда. Обложили налогом, как барина аль купца. Четыре сотни. А какая моя гильдия? – Гаврило вывернул вверх большие лопаты черных ладоней с корявыми, словно сучья, пальцами. – Вот она, вся моя гильдия.
– Истинно…
– И голосу не возвернули, пришел из Москвы отказ. До Калинина-то бумага, видать, не дошла.
– Дошла-то она дошла… – заметил Евграф.
– А вот Данилу-то Пачину голос воротили, – сказал Савватей Климов.
– Он сам, вишь, в Москву-то ездил.
– Тут езди не езди, все одно. Пришло, значит, такое времё мужиков к ногтю, – произнес Евграф. – Не знаю, что теперь делать.
– А что делать, делать нечего. Надо жить. – Дедко Никита поскреб столешницу. – Каждая власть от Бога.
– Нет, не каждая! – дедко Петруша Клюшин даже подскочил и кинулся к Рогову. – Это как так, Никита Иванович? Выходит, дьявольская-то власть тоже от Бога?
– От ево… – вздохнул Никита Иванович.
– Нет, тут чего-то не то, робятушки, – повернулся к Никите Савватей Климов. – Вот, скажем, о прошлом годе. Посадил тебя Ерохин в холодную…
– Не ево одного! Вот и Носопырь сидел, и Пашей Сопроновым не побрезговали.
– Ошибочно.
– Да вы погодите, дайте мне… – встал Жучок. – И правда-то вся твоя, Петро Григорьевич. А ты, Никита Иванович, зря говоришь, что любая власть от Бога. Выходит, и Ерохин от Бога, и наш Игнаха?
– От ево… – тихо повторил Никита Иванович. – А наш-то Игнаха от нас самих. Сами взрастили.
– Да за что оне так? Мужиков-то жмут?
– В наказание за грехи наши.
– А скажи мне, Никита Иванович, велики ли у тебя грехи? – всерьез спросил Савватей Климов.
– Есть…
– Ну а какие? Скажи-ко…
– А ты, Савватей, поп, что ли?
– Вот мы тебя счас поставим взамен Рыжка…
– Нет, не поставишь. Для этого званье нужно. А у меня нет званья-то.
– И званье тебе дадим. Это как там поют-то ноне? Кто был ничем, тот всем станет. Я те говорю…
Никита Иванович слушал все это и говорил сам будто сквозь сумеречную осеннюю дрему. В сердце все еще шаяла давешняя тревога, кошмарный сон не развеивался. Мысли обрывками пролетали в сознании. «Жабка… Дыра в жернове, поперек ее железная планка, в пазах у камня… Снизу шестерня на железной игле. Ветер подует в махи, в машины-то, махи замашут… Машины завертят колесо на валу. От колеса завертится на игле шестерня, от иглы через планку и верхний жернов. Потому и шестерня, что шесть черемуховых цевок… Потому и машина, что машет… Нет, Павло вроде бы добавил цевок-то. Две или три. А чего на сарае-то? Беси… Беси, они и есть беси… Чем больше о них думаешь, тем больше и лезут…»
Неторопливо и глухо, будто из-под соломенного зарода, похрипывал густой гавриловский бас:
– … мы с Данилом в одно времё и рекрутились. А как забрили, кряду и разлучили нас, одного в егеря, другого в антилерию. Меня Вильгельм и газом душил, стерва такая! Бывало, в Карпатских горах фельдфебель ныром бежит по траншее, кричит чего-то, а у нас на всю роту десяток противогазов… Битер подул в нашу сторону… Я платок обоссял, начал пышкать через ево… С того время и ломает одышка-то… А в семнадцатом-то году, бывало, всех взводных заставили гусиным шагом ходить, а ротный прибежал – того по-пластунски.
– Пополз? – спросил Евграф.
– Поползешь тут…
– Нет, этот нас не послушался, – сказал Гаврило. – Заплакал, револьвер вынул… Мы на него было, а он говорит: «Отойди! Пропала Россия», да как хряснет сам-то себя, прямо в рот. Так и повалился, лежит, ноги раскинул. А я ему кобылу только что подковал.
– Оно так, робятушки, офицер, вишь.
– Того же дни мы из окопов долой. Ашалоны обратно в Москву да в Питер давай заворачивать. Только успел я на свою станцию явиться, гляжу – Данило! У обоих у нас по ружью…
– А куды их девали, когда на гражданскую-то поехали? – подмигнул Евграф Савватею Климову. Гаврило сделал вид, что ничего не расслышал. Он говорил теперь о том, как воевал с Врангелем и как снова в один день с Данилом вернулся домой.
– Вот с того дни и пошла поговорка: «Данило да Гаврило», – заметил Жук. – Землю делить либо там чего, весь народ одно и твердит: а мы как Данило да Гаврило.
– А скажи, Гаврило да Варфоломеевич, – опять подскочил Савватей Климов, – пошто оне тебя голосу лишили? Ты им и то, ты им и его, а оне тебя ето… как оно… И голосу у тебя нету, и кузница на замочке? А?
Но Гаврило уже держался за скобу. Похоже было, что он не имел не только голосу, но и слуха. Петруша Клюшин проводил его от дверей до лесенки. Приглашая в гости на день успенья, он громко кричал Насонову, чтобы приходил обязательно и чтобы всею семьей.
– А много ли ржи-то на солод замочил? – спросил Гаврило не без умысла.
– Да два с половиной пуда, – сказал Петруша.
– А Евграф?
– Евграф полтора.
– Ну а Роговы-то сколько?
– У их два с половиной, как и у нас. Так что и Данилу есть в чем мочить бороду, – Шибаниха, все еще не подозревая беды, собиралась широко праздновать день успенья.
Гаврило громко захлопнул ворота.
* * *
С уходом кузнеца никому и не подумалось расходиться. Получилось что-то вроде стариковского совещания: говорили и решали, решали и говорили. Никита Иванович предложил починить у церкви крыльцо, вставить стекла и подрядить попа. Явились слухи, что в починке живет бродячий попик, бабы будто бы ходили туда крестить младенцев. На такие слова Жук сиротским своим голосом сказал:
– У Рогова одно на уме, подай ему попа. А по мне дак эти коностасные дела хоть бы и век не бывали. До того уже доконостасничались, все времё коностасничаем.
«Вот, вот, истинно доконостасничались, – то ли подумал, то ли сказал Никита. Его томила зевота, в глотке тянуло. – Такие вот Жучки и сгубили Расею-то, ничего им не надо, кроме своего запечка. И на церкву им наплевать, и на обчество, вот оно и достукались до тюки, ни в задь теперь, ни вперед. Гаврило с Данилом афицеров заставили гусиным шагом, афицеры амператора прозевали, а Жучок-то давно готов половицы из храма выломать да к себе в передок настлать, ему не до обчества. Вон уж и маслоартель прибирают к рукам, говорят, засел чужой элемент, и кредитному товариществу каюк пришел, одну Митькину коммуну ублажают, бобылей умасливают. Данило да Гаврило сами себя и лишили голосу-то, чего говорить… А все и пошло с Рыжика-прогрессиста, вокруг его и вились пъеницы да безбожники, как комары около мерина, истинно».
– А я бы, кабы моя воля, и попа нанял бы, и псаломщика, – сказал Петруша, успокоившись. Он достал деревянную, с медными ободками табакерку, постукал по ней ногтем. – И просвирню бы подрядил, что о том говорить. Да что на это товарищи-то? Вон Олёха счас побежит к Микуленку, все наши планты ему выложит.
– Ась? – Кривой Носопырь услышал свое имя и подставил к уху ладонь. – О чем слова-ти, вроде бы про меня.
– Про тебя, про тебя, е… м…! – обозлился Евграф. – Беги к начальству-то, июдская твоя харя.
Но кривой Носопырь снова оглох.
– А пускай он идет, – мирно сказал Савва Климов. – Пускай докладывает. Никому не жарко не холодно. А ежели про церкву, дак вон Ильинский приход, уж на што людно в ем, и то, говорят, прикрыли. Васильевской тоже возьми. Народ приговор составил, бумагу всю исписали фамилиями. Послали начальству-то, а оттуда говорят: «Пожалуйста! Хоть сицяс открывай да молись. Тольки сперва гербовый сбор уплати». Я и марку видал. Матрос нарисован с якорем.
– Пошлина-то не велика, а вот страховочку-то знаешь сколь им завернули? Хоть и тому же Илье Пророку. Побольше полутыщи, сказывают. – Евграф положил руку на сухое колено Климова. – Слыхал ты про это?
– А чево ты меня шшупаешь? Я не девка! – отодвигаясь от Евграфа, сказал Савватей. – Нашему Николе, конешно, куда против Ильи. Да и до Василья Великого не дотянуть. Ну а все одно, надо бы попытать.
– Бумагу пусть Степка Клюшин напишет, а я бы по дворам обошел, – очнулся Никита Иванович. – Девки с робятами как скотина. Сходятся без венца, без благословенья. Робят крестить старухи носят за восемь верст и то воровски… Разве дело?
– А бес мой Степка-то, истинно! – обернулся Клюшин. – Осенесь ездил в Вологду Штыря искать. Много ли выездил? Нет, пусть лучше Зырин пишет бумагу, больше толку.
И дело решилось как раз само собой. За окном послышался ребячий ор. Петруша выглянул за ситцевую занавеску: большая орда подростков с криками неслась по улице, за ней торопились те, что поменьше, за ними, пыхтя и ревя от обиды, что не успевают, ползли, карабкались самые малые, еще неходячие…
– Чего оне там? – засуетился Клюшин. – Уж не горит ли где…
Все старики торопливо вытряхнулись на улицу. Из заулка была видна недостроенная мельница, она торопливо, словно рывками, махала четырьмя крылами в виде буквы «х». Двух остальных крыльев еще не было, но она махала, казалось, как-то суматошно и беспорядочно, но все же махала.
Все старики заторопились на угор за Шибаниху, забыв друг про друга и то, о чем только что говорили. Туда же, к мельнице, бежали с полей жницы, кое-откуда вскачь неслись на телегах мужики и взрослые парни, тоже к мельнице… Ветер рвал в палисадах густые шибановские березы, рябил голубую речную воду, слезил выцветшие за долгие годы глаза шибановских стариков.
Павел Рогов, худой, веселый, почерневший за лето от солнышка и забот, сновал то вниз, то вверх по мельничным лесенкам. Он подколачивал клинья, стукал обухом, вслушивался в ожившее нутро мельницы и едва замечал, как вокруг скапливается народ: старики, бабы, мужики, подростки и совсем голоштанные карапузы. Люди восхищенно ойкали, всплескивали руками, показывали пальцами, переговаривались, а мельница тяжко, как будто надсадно, однако неутомимо скрипела под сильным юго-западным ветром. Павел напряженно вслушивался в ее шум. Каждый повторный скрип или стук сразу говорил о той или иной неполадке, и надо было бежать или лезть туда, чтобы убедиться в той неполадке. Он краем глаза заметил в народе Сережку и помахал ему, призывая. Сережка, гордый и восторженный от счастья, поднялся по лестнице на площадку, окружающую неподвижное основание.
– Серега! Беги вниз, карауль народ! Гляди, чтобы к махам не подходили. Особо за ребятишками погляди!
– Ладно! – Сережка слез на землю и встал к машущим крыльям всех ближе.
– Киндя! – орал Савватей Климов Судейкину, который блаженно глядел на махи. – Закрой, батюшко, рот, а то мельница залетит. Вишь как машет, крыльями-то.
Судейкин не слышал. Может, уже новые частушки сами роились в его кудлатой голове, он завороженно глядел на мельницу.
– А что, ребятушки, чего она у его не толкет?
– Затолкет!
– Да и не мелет еще! Это так, вхолостую пока.
– А, ну, ну!
– Господи, екая осемьсветная!
– Выше, пожалуй, церквы.
– А что Евграф-то, наверное, покаялся, что из паев-то вышел?
– Да и Клюшин, поди-ко, локти грызет.
– А чего это, чего им локти-то грызть? Чего? – заверещал подвернувшийся дедко Клюшин.
– Все одно отымут, – сказал Жук. – Вон Носопыря поставят молоть, а мельницу в коллектив.
– Этот смелет! Этот все перемелет, Носопырь-то. Смелешь ведь, Олексий?
Носопырь, тыкая в землю рябиновой клюшкой, восторженно кивал, соглашался, хотя и не слышал, о чем говорили.
Ветер подул еще сильней, Павел сбежал вниз, накинул канат на рычаги – два длинных полубревна-полуслеги, идущие из двух амбарных углов и скрепленные внизу воедино деревянным штырем. Выдолбленную деревянную трубу он надел на один из столбиков, врытых вокруг мельницы на одинаковых расстояниях друг от друга. Еловым дрыном начал накручивать канат на трубу, подворачивая мельницу вокруг своей оси. Махи заходили все тише и тише, скрип затихал. Мельница, поворачиваясь, вставала боком к широкому августовскому ветру.
Акиндин Судейкин схватил с головы продавца Володи Зырина клетчатую кепку и ловко надел на крыло. Кепка поехала высоко в небо.
– Ну, Судейкин! Я тебе бороду выдеру.
– Да какая у ево борода? У ево ничего не растет.
– Вот я и говорю, выдеру, ежели вырастет, – не сдавался Зырин.
– Да она счас обратно, кепка-то.
Крылья остановились, и Володина кепка оказалась как раз на самой головокружительной высоте. Начали вручную поворачивать махи, но кепка все еще была высоко.
– У тебя в лавке много кепок, – не унимался Судейкин. – Выбрал бы и носил.
– У меня в лавке много чего есть. – Володя колом пытался достать кепку.
Павел разрешил повернуть мельницу снова на ветер. Крылья пошли опять, и к Зырину вернулся его головной убор.
Павел сделал распорки, чтобы накрепко застопорить крылья, канатом закрепил их дополнительно.
– Все. – Он счастливо обтер со лба пот, огляделся.
– Робя, качай его! – заорал вдруг Ванюха Нечаев.
И все бросились к Павлу Рогову.
«У-ух! У-ух!» – сильные руки шибановских парней и молодых мужиков легко метали Павла Рогова высоко вверх, подхватывали, метали опять. Счастливый Сережка видел, как в воздухе мелькали то рука, то нога его, тоже счастливого, зятя.
Никита Иванович Рогов, издалека только что глядевший на все это, опустив голову, медленно уходил домой.
* * *
…За ужином все было как и всегда, будто ничего не случилось. Аксинья, раскинув холщовую скатерть, окинула взглядом избу, все ли на месте. Дедко первый перекрестился и задвинулся по лавке за стол, рядом, не мешкая, сел Павел. Дальше, держа младенца у груди, пристроилась Вера, а у окна, на хозяйском месте, сел Иван Никитич. Хозяйкино место было известно от века – на табуретке, чтобы без помехи ходить к печи и к залавку.
– А где у нас нонче Сергий-то? – спохватившись, спросила Аксинья.
– Карька в поскотину погонил, – сказал Иван Никитич. Приставив к груди каравай, он тонкими большими урезками резал хлеб.
– Схожу-ко поищу, – поднялся было Павел, но дедко остановил его:
– Сиди-ко да ешь! Придет и сам.
– Да оне все около мельницы, – заметила Вера. – И он тамотка.
Напоминание о мельнице сделало тишину в половине большого роговского передка. Неторопливо хлебая постные щи, Павел косвенно наблюдал за тестем и за дедком Никитой. Стояло одно на уме – мельница, а дел с ней оставалось все еще много: надо смастерить два крыла и кош. Ступы для толчеи и песты сделаны только вчерне, жернова были все еще не кованы и не опробованы. Не считая всяческих мелочей, дел и даже денежных расходов предстояло еще немало, и Павлу было тяжко думать об этом. Дедко Никита будто читал его тревожные мысли:
– Ну, ну, молодец. Видать, доконаешь.
И тут вдруг всегда спокойный Иван Никитич бросил на скатерть ложку:
– Вы меня доконали уж! Оба. Один с церквей, другой с мельницей…
Иван Никитич вышел из-за стола. Овсяного киселя с молоком уже никто не хлебал. В роговском передке повисла горькая тишина.
– Да, вы вот один с церквой, другой с мельницей, а Микуленку-то? Ведь ничего вы ему не оставили! – Иван Никитич пытался шуткой смягчить свою резкость. – Ведь как он заплачет – заревет, ежели налог-то не выплатим…
– Много ли еще надо-то? – робко спросила Аксинья.
– Много, матушка, много…
– Оно, вишь, так, – сказал дедко, – мы платим, а оне прибавляют. Вон Носопырь не платит, ему и не прибавляют.
Вера чуяла, как напряженно, порывисто билось все внутри у ее единственного измученного, любимого человека, она различала даже его резкое, сдерживаемое дыхание. Он всегда молчал, когда говорили дедко с отцом, молчала и она, и мать Аксинья, но все думали об одном, каждая душа болела одинаково. Один младенец весело улыбался и пускал пузыри. Глядя на всех снизу вверх, он сучил розовыми ножками, ненадолго освобожденными от пеленок. Вера положила его в зыбку.
– Ох ты, наш Иванушко, ох ты, наш золотой, что, батюшко? Что, милой? Воно-ко как он поглядывает! – напевно заговорила Аксинья, и это вновь успокоило мужиков.
– На церкву не велик финанс, – сказал дедко тихонько, – церкву миром починим.
– А и мельница, тятя, сама себя окупит! – не выдержал Павел. – Ежели по фунту с пуда и то…