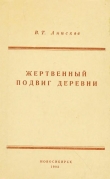Текст книги "Кануны"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
XVII
На земляном рундучке мягко настлано свежей гороховины – лежи да лущи стручки. С краю положены сосновые плахи, чтобы не скатиться во снах. И Сережка лежит на гороховине, у горячей, нагретой печным огнем овинной стены. Дедушка положил ему под голову старый казакин.
– Спи, Сергий, Христос с тобой. Я не долго…
И дед Никита уходит в деревню проведать дом. Сережка остается один не только в овине, но и на всем жутком к ночи гумне. В непроглядной тьме ярко топится большая, из глины сбитая печь. Ее не видно, и ничего не видно, а видно только пылающие сосновые чурки. Еще виден – изнутри – обширный купол печного свода, о который бьются полотнища пламени. Сережка лежит у горячей освещенной стены, напротив печного чела, думает: «Откуда столько огня в этих дровах? Горит чуть не до полночи, вот диво-то! А потом ничего и не остается, один пепелок».
В овине тепло и уже не дымно. Ровный сплошной жар идет в темноту и через боковые потолочные пазухи вливается наверх. А там на черных колосниках вниз колосьями плотно наставлены ржаные снопы. Овин срублен на два посада, разделен вверху надвое.
Сережка хорошо знает все это, но без дедка ему все равно страшно. А кого винить? Сам напросился. Завтра воскресенье, в школу не идти. Столбики на умножение все решены, мать отпустила сушить овин. И вот дедко ушел домой. Жуть холодком рождается меж ключиц, катится вниз и замирает около копчика. Страшно! Дрова горят ярко и весело, легонько потрескивают. Иногда из смоляных сучков с шипением бьют упругие язычки. И весь огонь шумит, пыхает. Огонь, как вода или ветер, тоже умеет шуметь. А там-то, за печью в потемках-то? Может, сидит волосатый старик-овиннушко и ждет, когда дедко уйдет подальше. А потом прямо к Сережке. Возьмет да и вылезет…
Сережка весь напрягся и откашливается для смелости. Достает с изголовья репу. Зубами обдирает горькую кожуру и бросает за печь. Овиннушко не рассердился, не выскочил. Репа попалась мягкая, сладкая, Сережка навернул ее и совсем осмелел. А что? Можно даже обойти вокруг печи. Может, и нет никого!
Он глядит на то место, где небольшая дверка, через которую вылезают наверх, в гумно. Осматривает окошко на улицу, заткнутое толстым сосновым чурбашиком. Он боится смотреть в темноту, за печь, но глаза сами так и просятся поглядеть туда. Что это? По всему Сережки-ному телу, от макушки до пят катится озноб. В темноте за печью светятся зеленые немигающие глаза. Сережка жмурится и весь съеживается, долго сидит так, ни жив ни мертв. С надеждой на то, что ему показалось все это, он опять глядит в темноту, но горящие зеленым огнем глаза все так же мерцают за печью. У Сережки отваливается челюсть и шевелятся на голове волосы. Он белеет от страха. Крик ужаса вот-вот вырвется из потрясенного мальчишеского нутра, но в гумне скрипит большая воротница, дед Никита возвращается в овин. Сапоги его стучат все ближе по гуменной долони, вот он уже рядом, вот открывает дверку, кряхтит и спускается в овин.
– На-ко… Заяц гостинца послал. – Дедко подает внуку капустного пирога. – Сам не ешь, грит, отдай Сереге.
– Дедо! Дедушко…
– Что, дружочек? – дедко замечает, что внук дрожит как осиновый лист. – Ты что, батюшко? Чево дрожишь-то?
– Дедо! Гляди-ко!
– А, дак ведь это Кустик. Вишь, на гумно пришел мышей половить.
И дед большой мозольной рукой гладит Сережкину голову. Мальчик потрясенно вздыхает от небывалого облегчения. Весь мир сразу становится на свое прежнее место. Родимый овин опять понятен, и так смешно шевелится дедкова борода, жующая крошки капустного пирога.
– Кис-кис… – зовет дедко. – Иди, Кустик, сюды, пирожка дам.
Кустик выходит из темноты, трется о Сережкин бок и мурлычет – настоящий простой и ласковый Кустик! Дедко подкидывает в печку дров. Сережка, облокотившись, глядит на огонь, облизывающий новые чурки, и слушает, как мурлыкает Кустик.
– Спи, спи, – говорит дедко. – Ежели молотить собираешься вутре, дак и спи. – Никита поправляет Сережкино изголовье. – Вон и Кустику спать охота.
– Только разбуди, дедушко.
Сережке кажется, что он еще не спит, глядит на огонь. Но он уже спит, и огонь затихает, расплывается во все стороны. Глохнут, отодвигаются куда-то слова деда и урчанье кота. Сладкий и крепкий сон обнимает мальчика. Дед Никита отставляет в угол Сережкины сапоги, накрывает мешком ноги внучонка. Пока горят вновь подкинутые дрова, можно подремать и ему. Дед Никита слушает кота и бормочет:
– Ангел Христов снятый, к тебе припадая, молюся, хранитель мой, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения… Аз же своею леностью и своим злым обычаем прогневал твою пречистую светлость…
Дрова в печи трещат, шепот Никиты переходит в голос, и кот замолкает, слушая старика.
– …и отгнах тя от себя всеми студными делы: лжами, клеветами, завистью, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, яростью, объядением без сытости и опивством, многоглаголением, злыми помыслы и лукавыми, и гордым обычаем… – Дед Никита крестится и кладет голову на Сережкино изголовье. Но сон старика чуток и зыбок. Пылает в печи спокойный, ровный огонь. Широка, темна за гумном тихая осенняя ночь. Все спит на земле, только не спят старики в овинах, подкидывают дрова, греют перед огнем старые кости. Кашляют. Думают, вспоминая отшумевшую жизнь. Сколько перепахано было земли, пролито пота? – О, хлеб насущный! Многотрудный, всесильный наш!.. Господи, господи… И днем и ночью гласишь, в зиму и лето, от рождения человеческого до смертного краю… Приди в закрома! Дай силу рукам человеческим, ясную зоркость уму и торжество бессмертной душе! Младенца установи на крепкие ноги, вдовицу утешь, приласкай сироту… Недруга напитай! Пускай потухнет его лютая злоба и стихнет потрясение нестойкой души. С тобой да сгинут везде страдания и смуты… – Дрова в печи пылают сильным огнем. Дед Никита не может забыться, он кряхтит и лезет через дверку в гумно. Гумно так велико, что на деревянной долони можно играть в рюхи либо объезжать молодую лошадь. Вокруг плотная, словно бы осязаемая темнота, но старик знает гумно на ощупь, как свои последние зубы во рту. Знает, сколько шагов до разных засеков, где какой угол и штырь. Он не боится ни споткнуться, ни стукнуться в темноте, ставит лестницу и лезет высоко на подмостки, откуда сажают на овины сырые снопы. Открывает плотно закрытую дверцу на первый посад. В лицо шибает прелым густым жаром, духом колосьев и травяного, сжатого вместе с рожью, подсада. Снопы сохнут споро. Никита слезает вниз, опять лезет в овин и крестит сладко посапывающего внука.
* * *
Сережка пробудился от молотильного стука. Еще не светало, и в овине было тепло и темно. В заткнутое чуркой окошко не пробивалось ни капельки света. Хоть выколи глаз. В печи краснели, гасли последние, подернутые золой угли. Зола шевелилась от воздуха, как бахрома. Пеклась посаженная кем-то картошка, но ни дедушки, ни кота не было.
«Проспал! – ужаснулся Сережка. – Обдули, не разбудили». Сапоги, как назло, затерялись, Сережка еле их обнаружил. Кое-как обулся и даже без пиджака вылез в гумно.
Его обдало студеной свежестью.
В гумне горело два фонаря, подвешенных на штыри у засеков. Молотили уже в самом конце, значит, домолачивали. Верка, сестра, увидев Сережку, пропустила удар и низом вывела молотило.
– Ой, проспал, Сережка, без тебя измолотили!
Сережка стоял сбоку. Павел с отцом и дедко бухали втроем, мать граблями подсовывала под их цепы, ворошила ржаные пряди. Дошли до конца и остановились.
– Что, Серега? – спросил Иван Никитич.
Сережка вдруг заревел.
Все начали утешать его, уговаривать:
– Ты чего ее слушаешь?
– Врет она, врет ведь! Еще овин есть.
– Намолотишъся.
– Глаза-то не три, не три, а то ость попадет.
Сережка не сразу успокоился, стукнул кулачишком по Вериному бедру.
– Вот тебе.
– Ну-ко оболокись! – прикрикнула мать, и Сережка побежал обратно в овин.
– Пойду коли печь топить, домолачивайте. Да картошку-то в овине не ешьте, опять шти останутся. – Аксинья вытрясла платок и ушла домой. Иван Никитич и Павел полезли в овин.
Синеватый, еле заметный рассвет обозначился в проеме больших гуменных ворот. Вера сгребла, вытрясла и вытаскала солому на улицу. Дедко полукруглым, сделанным из полоза пехлом, толкая, сгрудил непровеянное зерно и деревянной лопатой окидал ворох. Остатки он дочиста замел березовым голиком. Деревянный пол гумна, или долонь, стал ровным и чистым, без единой соринки.
– Ну, Сергий, полезай коли наверх! – сказал дедко. – Кидай!
Сережка заторопился по лестнице наверх. Он открыл дверку второго посада и начал рьяно скидывать. Снопы были в его рост, все еще тяжелые, хотя и сухие. Они кололись осотом и жесткими, как проволока, соломинами, но Сережка кидал и кидал. Вскоре пришлось залезать внутрь, в самую жару. Сережка раздвинул прожаренные колосники. Вера прилезла ему на помощь, и вдвоем они быстро скидали посад. Дедко внизу таскал снопы за шиворот в дальний конец гумна и клал двумя рядами на середину колосьями. Когда Сережка спустился вниз, дедко подобрал ему молотило, которое потоньше и полегче.
– Верка, давай зови мужиков! А ты, Сергий, вставай вот тут, подле меня. Да колоти-то сперва не шибко. Не торопись, подлаживайся.
Подошел Иван Никитич, притворно удивился:
– Гляди-ко! И Сережка у нас тут!
И встал с Павлом по другую сторону. Вера серпом быстро разрезала перевясла, взяла грабли, чтобы тормошить.
– Ну, с богом! – дедко ударил.
Сережка ударил тоже, но сбил отцовский удар. Потом стукнул Павел, и опять дед. Сережка бил и бил, но все было невпопад, он сбивал молотьбу. Дед Никита как будто и не замечал этого. Вера подсовывала рожь под удары цепов, молчала, терпели и остальные взрослые молотильщики. Сережка чувствовал это. В любую минуту он готов был бросить цеп и разреветься, он видел, что ничего не выходит, что он только мешает. Удары сыпались вразнобой, иногда с большими ненужными промежутками.
– А ты, Сережа, не думай ни про чего, – не останавливаясь, крикнул дедко. – Да не торопись.
Сережка расслабился. Изловчившись, он стукнул не спеша, и получилось как раз вовремя. Потом пропустил три соседних удара и стукнул опять, и опять пришлось как раз вовремя. И вдруг его молотило слилось с общим стуком. Он ощутил какую-то удивительную легкость. Молотило будто само, без его ведома, застукало по снопам. Он не заметил, как Верка переглянулась с отцом и Павлом, как дедко, нарочно, чтобы не сбить его с толку, не трогался с места и как все уже давно колотили по одному месту. Наконец дедко сделал приступок. И все слегка передвинулись дальше. «Так-так-таки-так, так-так-таки-так», – стучали цепы. Сережка весь ликовал от нового, никогда еще не испытанного им восторга. «Выходит! Выходит!» – хотелось ему крикнуть, но он молотил и молотил, боясь потерять найденное.
– Ух ты! – первым остановился Иван Никитич. – Не могу больше. Ну и Серега! Всех улетал.
– Молодец, – Павел поправил фуражку на Сережкиной голове.
…Жалея малолетка, посад молотили очень долго, не торопились.
Когда пришли обратно от ворот до овина, у Сережки затряслись на руках какие-то мелкие жилки.
– Все… – Дедко погасил фонари. Было уже светло.
– Аи да Серега! – сказал Павел, ставя цепы в угол. – Косить умеешь, молотить выучился. Теперь пахать научись да угол рубить – и можно жениться. Мужик!
– Мужик не мужик, а полмужика хорошие, – усмехнулся Иван Никитич. – Пошли-ко завтракать.
Сережка ликовал. Он улыбался во весь свой щербатый рот и не скрывал радости.
– Идите, идите, я скоро! – Вера сгребла солому. – Замок-то где, дедушко?
Дедко показал, где замок. Он открыл большие ворота, посвистел, призывая ветер. Ветру же не было. Утро начиналось солнечное, и веять зерно не пришлось. Все, кроме Веры и Павла, не торопясь пошли домой, завтракать. Сережка шел между отцом и дедом, держа руки назад, как большой.
* * *
Из-за поскотины, за сквозной молочною синевой быстро поднималось золотое нежаркое солнышко. В Шибанихе только что протопились печи, пахло печеным тестом и поджаренными сосновыми лапками. Только одна фотиевская изба не вовремя дымила широкой неказистой трубой.
Вера с помощью Павла сметала солому на перевал, на улице, около гуменных ворот. Потом окидали удвоившийся ворох зерна. Вера начисто, дважды подмела на гумне, оглянулась. Павел граблями вытягивал сверху, со сцепов волокитку гороха. Вере было смешно, что волокитка тянулась и тянулась. Он оборвал наконец гороховину, закинул оставшийся конец наверх и, кидая горошины в рот, начал лущить сухие стручки.
«Господи, – с любовью и жалостью подумала Вера. – Какой худющий… На чем и штаны держатся, одно костьё…»
Порой она ненавидела мельницу. Однажды даже пришла Вере грешная и страшная мысль: на угоре везде сухая щепа… Кинуть спичку, пускай бы сгорела, сгинула эта мучительница. Но Вера ужаснулась тогда этой страшной мысли, заругала себя. Ей ли, его жене, навек стать окаянной? Стыд за тот грех и жалость к Павлу все чаще накатывались на нее, и она помогала мужу как только могла. Иногда она вставала раньше матери, торопливо ставила для него самовар. Он еще затемно уходил на угор, весною и летом. Она каждое утро носила туда еду, часами терпеливо вертела точильный круг, когда плотники выправляли свои топоры. А теперь, когда Акимко либо Иван Нечаев не приходили из-за чего-нибудь на угор, сама садилась на штабель смолистых досок и дергала струг. Пусть и невзаправду, но научилась строгать, пилить и колоть непокорное дерево. Правда, Павел всегда сердился и гонял ее от угора. Женское ли это дело? В поле и на гумне был непочатый край работы. Особенно много времени отнимал у нее лен. Вытеребить да головки околотить, разостлать под росу. Снять да высушить на овине. Измять мялкой. Теперь вот как раз подоспела трепка. Вера уже истрепала за эти дни пятьсот кирбей. Трепать по-прежнему собирались у них под взъездом. Опустив босые ноги в груду теплой кострики, девки отчаянно били свои повесмы, на ходу пробирали кого попало либо пели. Подружки ее, Тоня с Палашкой, остались прежние. Словно и не выходила Верушка замуж. Палашка, правда, частенько ревела, когда оставалась вдвоем с Верой. А все Микулин пустоглазый, не женится. Чего думает своей головой? Да и Тонька стала не та, что была. Увезли Прозорова – на игрища ходить перестала. Ох, и поговорено было про это у шибановских и ольховских баб. На что надеялась Тонюшка, чем думала? Была бы ровня тому человеку, не болело бы сердце-Вера подошла к Павлу.
– Дай-ко горошку-то!
Он обнял жену, наткнулся невзначай на мягкое место.
– Холодно вроде, – сказал он. – Пойдем-ко в овин спустимся!
Вера засмеялась:
– Худой-то! Где уж тебе по овинам ходить?
– Ты это… чего? – взъерепенился он.
– А чего? – Вера смеялась.
– Чего… Там картошка испеклась. – Павел сердито распахнул ногой дверку в овин.
Ей было приятно, что он злится. Она знала, что тоже спустится туда, в теплую овинную темноту, но не торопилась. И все в ней сейчас ликовало. Она думала и еще о чем-то, боялась признаться в чем-то даже себе. Сказать или не сказать? Вот уже месяц, как не приходит это, женское… И срок весь вышел, и сама она чувствует, знает, что случилось с ней это, самое главное… Но она боится, что, может, ничего еще нет, кто знает? Ведь можно и ошибиться. Нет, кажется, правда. Ведь месяц уже, и каждый день что-то меняется в ней. Ей как будто не хватает чего-то, но ей почему-то приятна эта нехватка, а по ночам снятся какие-то новые непонятные сны.
«Господи, чего это я стою? Ждет ведь…» Вера оглянулась и, волнуясь, подошла к двери: «Чего это я? Как в девках, как первый раз ко столбушке».
Павел молчал. Снизу из темноты тянуло сухим теплом, запахом горячей печи, просохшей соломы и дерева.
Вера проворно спрыгнула, прикрыла дверку. Павел поймал ее за передник, притянул, обхватил рукой холодные крепкие ноги. «Нет, не скажу, – мелькнуло в ней как бы помимо ее. – Не скажу, потерплю еще». И она приникла к нему на устланный соломой рундучок, где ночевал сегодня ее брат Сережка…
Минут через пять он разжал локоть, высвобождая голову Веры.
– Ох, растрепалась вся, – сильным шепотом проговорила она. – Ну-ко, Паша, гребенку пошарь. Тут где-то…
В гумне послышался стук чьих-то шагов. Вера вскочила, перепуганная.
– Ой, дедушко идет! Иди, я за печь спрягаюсь… Павел, усмехаясь в темноте, выбрался из овина.
На середине гумна стоял и махал хвостом климовский Ундер. Мерин зорко поглядел и, прядая большими ушами, переставил навстречу Павлу свои большие копыта.
– Что, брат? – Павел потрепал по могучей, уже не вздрагивающей холке. – Никто не покупает тебя. И хозяин совсем забыл.
Мокрая от росы вожжина была привязана к недоуздку. Павел смотал веревку: на другом конце была привязана заостренная еловая тыча. Мерин был привязан на лугу, выдернул тычу и ни с того ни с сего притопал на роговское гумно. Павел еще раз погладил длинную голову Ундера, пощекотал под косицей. Ундер глубоко и печально всхрапнул, прислонился своей большой головой к плечу Павла и затих, словно благодарный за что-то.
Павел сказал жене, чтобы завтракали без него. Он взял из паза топор и вывел Ундера в поле на климовский отруб. Забил в землю тычу и пошел прочь. Оглянулся: Ундер, выставив уши, глядел ему вслед. Широкая глыба когда-то подвижного, вздрагивающего, горячего туловища громоздилась под осенним лужком. Мерин стоял и думал о чем-то. Павел быстро пошел к мельнице. Осеннее, едва пригревающее солнце било в спину, он шел по лужку, топча собственную тень и не глядя под ноги. Он не хотел глядеть и туда, куда шел. Он отворачивался, разглядывал небо и лесной горизонт, поля и лужки, кусты и деревни, изгороди и речки… Как далеко видать вокруг!
Молочно-синее, даже зеленоватое с ночной стороны и мигающее последней звездой небо у края продольного сизого облака разверзалось в сквозную бесконечную пропасть. Застывшее с вечера облако всю ночь темным полотнищем висело над лесом. Очень скоро его разнесет, развеет поднимающийся с земли ветерок, и тогда бесконечность, затканная невидимой пеленой, исчезнет. Но пока бесконечность разверзается у самого края перистой тучи… Чем выше небо, тем безбрежнее и синее. Оно теряет холодный зеленоватый оттенок, переходит в откровенную голубизну, и чем ближе к солнцу, тем ярче и золотистей. Само солнце, словно потеряв за ночь свои очертания, расширяясь далеко во все стороны, рассеивается и незаметно переплавляет свое ярое золото в спокойную свежую голубынь. Далеко, очень далеко видно вокруг! Павел даже сбивается с шага, он по-птичьи зорко, по-детски озорно окидывает глазами всю эту осеннюю пестроту. Рыжеватые болотца вдали перемежаются то белым ржаным жнивьем, то темно-коричневыми дорожками разостланного по луговинам льна, то зяблевой чернотой полос, то изумрудными яркими клонами озимых. И все это оторочено темно-зеленою полосой хвойных лесов, расцвеченных желтыми, оранжевыми и багровыми всплесками. И везде деревни, деревни… Бесчисленные дома, гумна, сеновалы, амбары, бани и погребки наползают друг на дружку, они напоминают цвет забусевшего серебра. Это древнее, обдутое тысячью ветров, ополоснутое вековыми дождями дерево словно серебряная чеканка; ясно, отчетливо видится каждая тесовая крыша. «Ступай! Ступай!» – Павла словно кто-то подталкивает. Он ускоряет шаги, глубоко вздыхает и крепко сжимает челюсти. Волнение и радость нарастают и подступают к горлу, но он все еще боится взглянуть вперед.
Там, на угоре, клином сошелся белый свет. Сошлась и сгрудилась вся земля. И нет больше ничего дороже, все здесь, словно душа всей земли. Это тут наяву разрешались его грозные сладкие сны. Тут сгорало и не могло сгореть его сердце… Сколько уже дней? Изнемогали руки и ноги, отдавая этому месту, казалось бы, все остатние силы. Но на этом же месте брались и копились новые силы, отсюда же он черпал их, словно из бездонного кладезя. «Господи, помоги мне!»– часто, глядя на нее, взывал он, и сила рук, до конца выпитая вязким податливым деревом, снова появлялась неизвестно откуда. Опять рождались догадка и сметка, тоже неизвестно откуда. Иногда, отчаявшись, он бросал топор; видел, чувствовал, что делал не то и не так, а как надо – не знал и не мог. Но снова приходило к нему какое-то озарение, и вновь получалось то, что надо. Да, он всегда чуял, где получалось как надо и где не так. Странно, что усталость во всем теле приходила к нему, как только он чуял фальшь. Руки наливались тяжестью, топор как будто не хотел тюкать. Пила захлебывалась в опилках, и долото становилось тупым, как конопатка. И тогда Павел бросал инструмент, ненавидя себя, он катал желваки, кидался из стороны в сторону, бегал вокруг нее. Мужики притворялись, что ничего не видят, невзначай роняли ободряющие слова: «Ты за дело, а дело за тебя».
И через какое-то время опять медленно копился в нем холодок непонятной и сладкой жажды. Потом голова враз прояснялась, в руках пропадала усталость и само собой, ясно всплывало то, что было надо ему. Радуясь, не веря себе и боясь ненароком вспугнуть то, что так нечаянно накатилось, он, стараясь не торопить себя, брал топор…
Павел повернулся к угору и взглянул наконец вперед, взглянул открыто и жадно.
На угоре, оттененная синим небесным разливом, высилась его еще бескрылая мельница. Желтовато-янтарная ее плоть, объединившая сотни перевоплощенных древесных тел, была так осязаемо близка, так дорога и понятна! В то же время мельница опять удивила его. Будто рожденная неожиданно, она посылала ему свой поклон, свою благодарность за то, что он создал ее, вывел из небытия.
Высоченная, стройная, она похожа была на старинную рюмку: тот же тонкий перехват в середине. Только уж больно громадна. И не прозрачный хрусталь светился на солнце, а спокойная, источающая смолу, теплая древесная плоть. Большой, но как будто игрушечный сруб, крытый двускатной тесовой крышей, покоился на нисходящей на конус клетке.
Другая клетка, только вверх конусом, держала все это, покоясь, в свою очередь, на четырех мощных двойных подпорах основного стол. Сейчас было видно только подножье столпа: весь этот толстый стержень, проходящий из земли через перехват, чуть не под крышу, был не виден. Но это он держал на себе всю несметную и неощутимую теперь тяжесть, не давая свихнуться в сторону большому, будто плывущему в небо, амбарному срубу. Весь сруб, вся мельница была как бы надета на этот столп. Но она была не надета, ее собирали на нем по бревнышку.
Узенький перехват, на котором вся мельница будет поворачиваться вокруг своей оси, уже смазан колесной мазью. Этот перехват находился на высоте обычного дома. А там, еще выше, словно висел в воздухе еще целый дом, – мельничный сруб, и было странно, что вся эта громадина держится на тоненьком перехвате сходящихся вершинами, слегка урезанных конусов.
Везде вокруг валялась щепа и обрубки дерева, опилки, доски, чурки. Еще стояли высокие, врытые в землю, подпертые слегами столбы с блоками и веревками: это недавно поднимали, вставляли в сруб мельничный вал. По толщине это было второе после главного столпа дерево, косослойное и могучее. Павел нашел его на урочище Клюшина и срубил еще под сок.
В торец вала был вставлен круглый стальной, скованный кузнецом Гаврилом Насоновым стержень, который покоился в каменном, врезанном в балку гнезде. Передний подшипник тоже был готов: вал, обитый железными скобами, будет вращаться на полукружье второго, но большего камня, врезанного в балку противоположной стороны. Павел сам отыскал в поле и обработал этот синий большой камень. Зубчатое колесо, правда в разобранном виде, и шестерня были тоже почти готовы: весной и летом дедко Никита ни дня, ни вечера не сидел сложа руки. Но ни крыльев, ни ковша, куда будут засыпать зерно, ни пестов, ни жерновов, ни мучного ларя все еще не было… Не сделаны пока и двери и лестница к настилу вокруг перехвата. Делу еще не видно конца… Павел воткнул топор в чурку, крякнул: «Ничего… Все-таки много и сделано. Мельница-то стоит! Стоит, хоть пока бескрылая! Придет час, оживет, стронется. Ветер зашумит, пойдет строчить».
Он живо представил эту будущую, самую счастливую для него минуту, когда зашумит воздух в широких крыльях-махах, заскрипит и все тронется. И как глухо ударят песты и с мягким шорохом зашипят жернова, будут давить, перемалывать сухое зерно родной земли. Мельница оживет, запахнет вокруг дегтем и теплой мукой, замашут шестеро могучих широких крыльев.
Все будет! Все, до последней мелочи…
Он еще раз отошел подальше, задрал голову… Вспомнил старинный случай, когда в детстве, глядя вверх, на князек отцовской толчеи, он вдруг обомлел: показалось, что толчея валится на него. Тогда он в ужасе закрыл глаза, хотел отбежать, но ничего не случилось. Белые летние облака неслись в небе, над толчеей, и она будто стремилась им навстречу.
Будто валилась. Вот так же случилось летом и с Ванюхой Нечаевым. Он крыл крышу, на самом верху – смелый мужик, ничего не скажешь! Один, даже не привязываясь к стропилам, покрыл крышу, поднимал на вожжине тесины и крыл. Все сделал, и куриц врезал, и надел охлупень, но когда прибивал на князьке резного конька, вдруг закричал… Он посмотрел на небо, на летящие облака и закричал, вся мельница бесшумно валилась, падала, как он рассказывал после. Павел крикнул ему снизу, чтобы он не глядел вверх. Нечаев долго, пластом лежал на князьке…
Сейчас Павел торопливо схватил топор. Хотелось, не теряя ни минуты, начать работу. Надо было строгать плахи для пола и потолка, но ни Акимка, ни Ванюхи Нечаева еще не было.
Павел решил пока тесать «барана» – подвижной брус, на котором будет врезан камень для вертикальной иглы, вращающей верхний жернов. И то работа, делать все равно ведь придется…
«А где мужики? – подумал он. – Печи давно протопились». И снова принялся тесать.
Нечаев и Дымов, ночевавшие у него, пришли оба сразу, но без топоров и какие-то суетливые. Не здороваясь, начали закуривать.
– Что это вы? Как не выспались. – Павел воткнул топор.
– Ты что, ничего не слыхал?
– Нет. А что?
Акимко Дымов сплюнул.
– Пока ты тут тюкаешь, тебя Игнаха в кулаки записал!
Павел хмыкнул.
– Он меня давно записал, еще на казанскую. Ну и что?
– А то, что он и меня. – Нечаев подкинул топор, сильно всадил в чурку. – Полторы сотни налогу…
Акимко выматерился и встал.
– Ты бы поглядел, что в деревне делается! Надо идти. Да вон и за тобой бегут.
Павел поглядел в поле, сердце тревожно екнуло. От деревни к мельнице, без фуражки и пиджачишка, бежал Сережка.