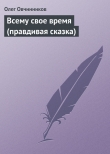Текст книги "Две дороги"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Прокурор брал со стола листы и читал свою обвинительную речь. В это время его правая рука жила точно сама по себе и делала резкие жесты невпопад. После нескольких фраз он отрывался от текста и негодующе смотрел в зал словно ослепшими от чтения глазами и дергался всей своей тщедушной фигурой. Заимов смотрел на него против светившего в окна солнца, и лицо прокурора виделось черным и весь он мечущимся на фоне стены силуэтом. В иные моменты его охватывало ощущение неправдоподобности происходящего: за окнами было нежное болгарское лето, зал пронизывали лучи солнца; в зале сидели люди, в большинстве болгары, и они с невозмутимыми лицами слушали, как прокурор – тоже болгарин – с пафосом говорил о священной преданности Болгарии фашистской Германии! Невероятно!
Судья Младенов слушал прокурора, по-домашнему опершись склоненной головой на руку, его гладкое, располневшее лицо ничего не выражало. Изредка он, из меняя позы, делал какие-то заметки. И, только когда прокурор обращался непосредственно к судьям, Младенов еле заметно кивал головой, как бы отвечая: да, да, мы вас слышим и согласны с вами.
Большую часть своей обвинительной речи прокурор Николов употребил на возвеличивание мудрых идей и планов великой Германии, распространялся об исторической гордости Болгарии, которой доверено стать знаменосцем «нового порядка» на Балканах. Затем он перешел к обвинению против «жалких пигмеев», поднявших руку на саму историю. Требуя смертной казни для Заимова, он так и сказал: в дни великой битвы за «новый порядок» в мире наш суд не может, не имеет права допустить либерализм – история всегда безжалостна к тем, кто пытается помешать ее движению вперед.
Даже князь Кирилл сказал, что речь прокурора была главным образом «его публичной исповедью в ненависти к Заимову и признанием в любви к Германии», и этот отзыв попал в донесение Виппера главному управлению службы безопасности.. В этом же донесении по поводу суда было сказано: он как бы завершил общую картину неумения болгарских инстанций осуществлять акции подобного рода.
Но это было написано уже после суда. А пока суд продолжался...
После речи прокурора должны были выступать адвокаты. Тумпоров воспользовался тем, что обвиняемый отверг его защиту, и отказался говорить. Адвокат Бочаров, не в силах скрыть переживаемого им страха, пролепетал что-то о евангельском милосердии судей. Другие адвокаты произнесли робкие речи в защиту своих подсудимых.
П р е д с е д а т е л ь М л а д е н о в. Владимир Стоянов Заимов. Суд предоставляет вам последнее слово для раскаяния и просьбы о милости.
Г е н е р а л З а и м о в. Мне есть в чем раскаиваться, господа судьи, но только не в том, за что вы меня судите. Раскаиваюсь в том, что еще в 1918 году, когда наши солдаты по примеру своих русских братьев оставили поле битвы и отправились потребовать отчета у виновников войны, я не был среди них. Раскаиваюсь, что в сентябре 1923 года, когда народ поднялся на восстание против фашизма, я не был с ним. Единственно за эти мои преступления перед народом, а не за мой героизм во время войны, я не был давно выброшен из армии и достиг генеральского чина. Сейчас я отдаю себе отчет в том, что во время обеих войн, в которых принимал участие, я не проявил настоящего героизма, а только исполнил долг дисциплинированного солдата. Когда я после военно-фашистского переворота 19 мая 1934 года в качестве боевого и политического секретаря большинства офицеров попытался исправить зло, передав народу власть, отнятую у него переворотом, я был арестован, подвергнут истязаниям, меня судили и за неимением улик освободили с дальним прицелом – подвергнуть суду сейчас, с тем чтобы запугать войсковых командиров и заставить их снова быть против народа в готовящейся войне против Советского Союза.
Предоставляю вам, господа судьи, вынести приговор, которого гитлеровские оккупанты хотят от вас, но пусть они знают, что моя смерть им не поможет. И в этот момент, когда вы ожидаете от меня снова признания вины и просьбы о помиловании, я заявляю, что болгарский народ не поднимется на войну против своего собрата и освободителя, который освободил его от турецкого ига и сейчас борется за освобождение всех порабощенных народов.
П р о к у р о р Н и к о л о в. Хватит! Прекратите!
Г е н е р а л З а и м о в. Вы дали мне последнее слово. Господин прокурор, я слушал вашу клевету на протяжении более чем двух часов, теперь послушайте и вы эти несколько моих последних слов.
Для рабочего, для каждого угнетенного теперешним общественным строем человека, для каждого, кто не выносит черной неправды, встречающейся на каждом шагу в нашем плохо устроенном обществе, является естественным и логичным бороться за лучший и справедливый мир.
С тех пор как началась вторая мировая война, я мечтаю, иногда вслух, дожить до того дня, когда, будучи солдатом армии моего свободного народа, увижу на скамье подсудимых виновников этой войны и как солдат буду свидетельствовать против них и за их прошлые преступления.
Я принимал участие в сотнях боев во время Балканской и первой мировой войны, но никогда не стрелял во вражеского солдата, когда у меня была возможность спасти его, не позволив ему убить. Но я бы убил того, кто непрерывно организует заговоры против мира между народами, а сам всегда отсутствует на поле боя. С чистой совестью и ясным сознанием, что исполняю свой верховный воинский долг перед человечеством, я бы убил собственной рукой этого убийцу миллионов ни в чем не повинных людей.
Это мое последнее слово, господа судьи!..
Заимов защищался сам.
Господа судьи... Кто же они, взявшиеся судить за измену Болгарии честнейшего ее патриота? Понимали ли они тогда, что их «правосудие» было гнусным преступлением против совести, против своего народа? Или поняли это позже? Во всяком случае, когда пришел их час ответить за свои преступления, они признали свою вину. Только делали при этом оговорки. Младенов пространно ссылался на непреложность для него, полковника, воинской дисциплины, не допускающей-де обсуждения приказа. А когда ему сказали, что он мог найти предлог, чтобы отказаться вести это дело, он заявил, что это уже вопрос храбрости и силы воли. Нет, это был вопрос прежде всего совести. Она у него была необычайно гибкая, и в ту пору, когда Гитлер был еще на коне, совесть Младенова подсказала ему надежду сделать на этом процессе карьеру.
Князь Кирилл, участвовавший в подборе судей, признался позже, что при выборе главного судьи учитывался карьеризм Младенова, а его ограниченность позволяла надеяться, что умный Заимов не сможет вести «последовательный диалог с телеграфным столбом». Примерно в таком же духе князь Кирилл охарактеризовал и члена суда Иванова. Сам Иванов свое участие в этом позорном процессе называет «характерным заблуждением того времени». Судью Паскалева князь Кирилл охарактеризовал как бесцветную фигуру без собственного мышления. Сам же Паскалев ссылался на свое «ничтожное положение в табели о рангах, исключавшее всякое проявление собственных воззрений». Никто из них о совести даже не заикнулся.
В донесении антифашистской группы Пеева тоже есть аналогичные краткие характеристики судей Заимова и такой вывод: именно эти их качества и предрешили их выбор – организаторам подобных процессов нужны не умы, а сколь мелкие, столь и послушные исполнители приказа...
Теперь мы вернемся в судейскую комнату, где судьи готовят свой позорный приговор.
Полковник Младенов и члены суда – капитан Иванов и подпоручик Паскалев – просматривали вместе проект приговора, еще накануне подготовленный председателем. Конечно, все они видели, что мотивированная часть приговора выглядит бледно, но каждый думал об этом по-своему, потому что это были три разных человека и по своему положению, и по уму, и даже по характеру.
Полковник Младенов старался теперь попросту не обращать внимания на слабую мотивировку. Его все еще не оставляла мысль о том, что для него этот суд – важнейший рубеж карьеры. Он прекрасно знал, что те, от кого зависела его судьба, хотят уничтожения Заимова, ибо не могут существовать одновременно они и Заимов, его и их правда. Все, что являет собой живой Заимов, должно уйти с ним, мертвым, в могилу. Наконец, для них необыкновенно важно, чтобы смертный приговор Заимову сказал всей Болгарии об их силе, уверенности, сказал о том, что только их правда единственная и является законом жизни, а все, что против, подлежит смерти. В этом смысле смертный приговор должен явиться утверждением жизненности всего, против чего восстал Заимов.
Полковник Младенов был уверен, что сильные мира сего тоже не обратят внимания на юридическое несовершенство приговора. Они прочтут только последние два слова: «смертная казнь», это вызовет у них сладостное ощущение своего торжества, и они подумают в эту минуту: «Молодец Младенов, не дрогнул, ему можно верить». От этой их мысли до решения о генеральских погонах – один шаг. В суде над Заимовым шесть лет назад он принял участие в качестве члена суда. Оправдание Заимова вызвало тогда гнев начальства, и это, конечно же, сказалось потом на его продвижении по службе. Сейчас в его руках – исправить ошибку давнего суда.
Капитану Иванову всю жизнь казалось, что он – жертва служебных интриг и только поэтому он еле долез до капитанского звания, в то время как иные его сослуживцы, по его мнению, конечно, менее достойные, уже сумели сделать более эффектные карьеры. А его просто не любили и боялись все, кто работал с ним рядом, и даже те, кто по служебной иерархии был выше его. О его немецких связях всем было известно, и это как раз мешало его служебной карьере – никому не хотелось повышать его, ибо это означало самим сделать его еще более опасным.
Сближение Болгарии с Германией капитан Иванов всячески приветствовал. Но он исповедовал не столько идеи нацистов, сколько методы их самоутверждения. Неслучайно все его знакомые немцы были из гестапо. Он почти уверен, что его участие в этом сенсационном процессе не обошлось без помощи его немецких друзей. О назначении в состав суда он раньше всего узнал от своего немецкого друга, который поздравил его и тут же попросил «быть начеку». В связи с этим назначением его приглашал к себе в кабинет сам начальник военно-судебного отдела генерал Никифоров, единственный во всем военном министерстве человек, которого капитан Иванов боялся, не считая министра, конечно. Никифоров «приватно» просил Иванова информировать его обо всем, как он выразился, любопытном, что будет происходить за рамками самого процесса, то есть в судебной комнате. Капитан Иванов высказал полную готовность выполнять это поручение генерала, и его информации Никифорову станут потом единственным свидетельством очевидца о происходившем «за рамками» процесса.
Сейчас, просматривая проект приговора, капитан Иванов был безоговорочно согласен с тем, что Заимов должен быть уничтожен физически, а больше его ничто в приговоре не беспокоило и не интересовало. Он был искренне горд своей причастностью к этому убийству.
Поручик Паскалев был, как мы знаем, не молод, в военный суд призван недавно, и поначалу он был несколько растерян перед самим фактом, что ему поручено судить столь блистательного, известного всей стране генерала. Но он прекрасно разбирался в обстановке, понимал, что ждет от суда высшая власть, и совершенно не собирался, обсуждая приговор, обращаться к своим знаниям закона. Он знал, что закон тут ни при чем и что Заимов должен быть наказан самым суровым приговором. Он впервые участвует в суде, где выносится к р а й н и й приговор, и поэтому внутренне еще не привык к словам «смертная казнь», «расстрел», но он – за, за, за. А то, что он осудит на смерть генерала, да еще такого генерала, жутко и сладко щекотало его самолюбие, и тогда его удлиненное острым подбородком лицо каменело, а во впалых глазах появлялся блеск.
– Надо выбросить из приговора все, что вызывает ожидание конкретности, – предложил Младенов. – Суд как бы должен сказать, что для него детали не играли существенной роли, а главной основой для приговора являются сама суть жизни обвиняемого, его взгляды, его надежды, его цели.
Капитан Иванов гневно скривил свое чистое красивое лицо.
– Он облил грязью его величество! Я просто не знаю, как я не выхватил револьвер!
– В нашем решении сразу после заглавного слова «приговор» идут слова: «именем его величества Бориса Третьего, царя Болгарии», и одним этим приговор ответит на клевету и грязь, которые вас возмутили, – ни на кого не глядя, холодно сказал Младенов.
– Не расстрелять его надо, а публично повесить! – воскликнул Иванов.
– Все-таки... генерал – осторожно возразил Младенов. – На этот счет есть определенные традиции. Да и какая разница? Важно, что он будет мертв. Не так ли?
Эти трое готовились скрепить своими именами смертный приговор Заимову. В этот час они стояли у порога своего страшного позора перед лицом будущего, перед лицом своего народа.
Заимов знал, что его ждет. Сколько же осталось жить? Пока они напишут свой приговор?... Казнят, кажется, на рассвете? Смерть близко. Очень близко...
Он никогда не боялся смерти. Но всегда ее угроза была как бы отстраненной возможностью ее избежать. Иногда даже надеждой на спасительную случайность. Осколок снаряда, что попал ему в голову случайно на какой-то сантиметр выше точки, где была смерть... На войне, как бы ни был бесстрашен солдат, он, зная, что смерть рядом, хоть бы слепо, но все же надеется, что она его минует.
Все последнее время она ходила за ним по пятам – он это знал. Но он не боялся ее, он делал все, чтобы быть умнее тех, кто мог послать эту смерть за ним.
Сейчас все было иначе. Сейчас смерть рядом, и он уже ничего не может сделать, чтобы ее избежать. Только что на суде он сказал, что мечтает дожить до счастливого времени, когда будут судить виновников нынешней преступной войны. Он говорил об этом и понимал, что судьи улыбаются внутренне его наивности – они знают, что жить ему осталось, может быть, всего один день. Но он не жалел, что сказал это. Все, что он сказал им сегодня о себе, было о всех честных болгарах, и в этом смысле его мечта умереть вместе с ним не может.
Его смерть рядом. Неотвратима. К этому надо привыкнуть. Но по силам ли это человеку? И разве не живут все люди, зная, что впереди их ждет смерть? Когда-то, давным-давно, он в книге какого-то, кажется, французского психолога читал о том, какой ужас охватил бы население планеты, если бы каждый человек заранее узнал срок своей смерти. Тогда эта мысль его заинтересовала, но он подумал о том, что человек, узнавший о предстоящем ему долголетии, мог бы идеально спланировать свою жизнь. Он был тогда молод и даже в теме смерти отыскал мысль о жизни.
Он обязан встретить смерть мужественно, как подобает солдату, и он не должен подарить палачам торжество видеть его сломленным. Надо найти силы подавить в себе извечный страх человека перед непостижимостью небытия, надо подняться над этим страхом. Заставить себя не думать об этом. Все люди смертны. Все. И все остаются в людской памяти. Всегда остается память о человеке.
Отец как-то сказал: память о человеке равнозначна потере, какую с его смертью понесли живущие. Да, да, истина в этом!
Но думать о том, сколько он значит для других, Заимов не хочет, не умеет, – против этого восстает вся его скромность, она в его крови. Да, но что значит его смерть, когда в этой страшной войне каждый миг гибнут тысячи и каждый из них со своей судьбой, с извечной жаждой жизни? Просто в этот день будет убито на одного солдата больше.
Единственно, на кого смерть обрушится неизбывным горем и горькой памятью на всю жизнь, это его близкие – Анна, дети. Прокурор кричал: «Такой весь ваш проклятый род!..» Неужели раздавят и семью? Есть же предел и у подлости. Нет, не посмеют. Анна... В трудный час она становится такой сильной, такой смелой. Во время первого суда, когда ему тоже грозила смерть, его защищали самые известные адвокаты – их нашла Анна. Потом, когда он благодарил своих адвокатов, один из них сказал: «Ваш главный защитник – ваша жена».
Анна выстоит! Сын уже мужчина. Офицер. Сын унаследовал от него любовь к армии. Перенесет ли он позор разжалования, поймет ли, что это позор не для него, а для временщиков, которые являются врагами Болгарии и ее армии? Он его сын, он все мужественно перенесет и все поймет. И ему поможет сама жизнь, ход истории. Власть временщиков будет недолгой – все они обречены. Придет час, и ее раздавят танки Красной Армии. Важно, чтобы сын сейчас не потерял воли и веры.
Мог ли он сам избежать того, что произошло? Мог... и не мог. Это было в самом начале года, в январе. Его познакомили с тайно прибывшим из Москвы болгарским коммунистом Цвятко Радойновым, который привез ему благодарность за бесстрашную патриотическую деятельность от Георгия Димитрова и приглашение ввиду грозящей ему опасности перебраться в Советский Союз, где он как генерал-артиллерист будет очень полезен на фронте. Для переброски его в СССР коммунисты располагали самолетом.
Он был страшно взволнован. Нет, нет, в первое же мгновение он знал, что не покинет Болгарию. Он только думал: почему ему предлагают уехать? Ведь сам Радойнов приехал в Болгарию, чтобы здесь вести борьбу за свободу и честь своего народа. Георгий Димитров благодарит его за работу и тоже хочет, чтобы он оставил Болгарию. Почему? Опасается, что он не выстоит перед трудностями?
А Радойнов спокойно и терпеливо ждал его ответа.
– Я до конца исполню свой долг здесь, на родной земле, – сказал ему Заимов.
Вопрос о его отъезде был снят, и об этом больше разговоров не было. Радойнов попросил помочь ему в организации болгарской освободительной армии. Позже с Заимовым связался другой, также тайно прибывший из Москвы болгарский коммунист Антон Иванов. И Заимов помогал ему установить связь партизан с надежными офицерами болгарской армии.
Да, тогда он мог избежать всего, что с ним произошло, мог избежать близкой теперь смерти. Но он никогда бы потом не простил себе этого.
Владимир Заимов не знал, что в эти часы болгарские коммунисты Цвятко Радойнов и Антон Иванов были в беспощадных руках охранки и тоже ждали казни.
Он испытывал сейчас странное чувство уверенности, неопровержимой правоты своей. Он причастен к великому и светлому, что противостоит мраку и ужасу фашизма! Он свято верит в победный итог своей борьбы!
Все будет хорошо... все будет хорошо... Все будет так, как того хотят честные люди.
А его смерть... Что значит его смерть, когда за то же, что и он, гибнут миллионы?
За дверью гремят сапоги.
Лязгает запор. За ним пришли.
Судьи завершают свое позорное дело.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Выписка из приговора, полученная Анной Заимовой в канцелярии суда.
ПРИГОВОР
№ 418
от имени его величества Бориса III,
царя болгар
Сегодня, 1 июня 1942 года, в Софии Софийский полевой военный суд на открытом судебном заседании в составе:
Председателя: полковника Игн. Младенова,
членов: капитана Хр. Иванова,
подпоручика П. Паскалева,
секретаря Долапчиева и при участии военного прокурора подполковника Илии Николова, заслушал уголовное дело за № 434 (1942 г.) против Владимира Стоянова Заимова и других по параграфу 112 Уголовного закона и параграфу 3 Закона о защите государства и, выслушав чтение обвинительного акта, судебное следствие, прения сторон и последнее слово подсудимых,
П Р И Г О В О Р И Л:
1. Подсудимых: Владимира Стоянова Заимова, генерала запаса, 53 лет, уроженца города Кюстендил, проживающего в Софии, по улице К. Шведского, д. 52, болгарина, восточноправославного вероисповедания, женатого, грамотного, неосуждавшегося ранее, коммерсанта и . . . . . . . . .
з а т о, что в военное время – с 1939 года по март 1942 года, когда болгарское государство состояло в положении сначала предстоящей, а затем настоящей войны, они занимались шпионажем, выдавая в интересах иностранного государства государственные тайны, сообщая одному иностранному посольству в Софии, в интересах которого они действовали, факты и сведения, незнание которых другим государством необходимо для блага нашей страны и ее безопасности, на основании параграфа 112 «г» п. 3 и 118 Уголовного закона и в связи с параграфом 22 «б» и 22 «г» Закона о защите государства, к следующим наказаниям:
а) подсудимого Владимира Стоянова Заимова – к смерти через расстрел и лишением прав, перечисленных в параграфе 30, п. 1—4, 6 и 7 Уголовного закона Н А В С Е Г Д А и к оплате штрафа в пользу государственной казны размером (500 000) пятьсот тысяч левов[22] 22
В отношении других обвиняемых приговор был такой, как его планировал Младенов.
[Закрыть].Председатель: полковник Младенов,
члены: капитан Иванов,
подпоручик Паскалев,
секретарь Долапчиев.
Сегодня, 1 июня 1942 года в 9 часов согласно параграфу 526, в присутствии прокурора и секретаря я прочитал настоящий приговор в окончательной форме суду и подсудимым.
Председатель: полковник Младенов.
Накануне вечером, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, Анна, собрав все силы, подошла к прокурору. Полковник Николов в это время складывал на столе свои бумаги и нервно запихивал их в портфель.
– Можно у вас спросить? – услышал он напряженный голос.
Прокурор обернулся и непроизвольно отшатнулся. Анна стояла перед ним, изможденная, с бледным, осунувшимся лицом. Прокурора обожгли ее глаза – столько в них было ненависти и презрения.
– Когда будет объявлен приговор?
– Завтра... в четыре часа дня, – ответил прокурор и, подхватив портфель, ушел.
Он знал, что приговор будет объявлен утром, но вдруг подумал, что эта женщина с бешеными глазами может устроить в зале скандал и сорвать эффектный финал процесса. И он обманул Анну.
Она провела бессонную ночь. Утром ушла из дому и неприкаянно бродила по городу, ничего не видя, не слыша. Ей и в голову не могло прийти, что прокурору зачем-то понадобилось солгать ей.
«Нет, нет, они его не убьют, – твердила она себе. – Не посмеют... Его защитит и собственная слава, и слава его отца. Убить его не могут... Не посмеют...»
Где-то около полудня, обессилев от хождения, она вернулась домой. И только закрыла за собой дверь, как услышала дикий крик дочери:
– Папа! Папа!
Анна спокойно спросила:
– Что тут происходит?
– Папу приговорили к смерти.
Несколько мгновений она стояла неподвижно. Потом решительно пошла в кабинет мужа и, сняв телефонную трубку, назвала известный ей номер военного министра Михова. Она знала всю мерзость этого человека, его лживость и продажность, но она знала и то, что только он один мог пойти к царю и сказать, чтобы остановили палачей.
– Вас слушают, – донесся до нее в трубке строгий голос адъютанта.
– Говорит Анна Заимова, – стараясь не торопиться, начала она. – Мне необходимо срочно говорить с министром. Мой муж осужден к смерти. Это невероятно... Это ужасно... Это нужно остановить...
– Я ничего не понимаю. Повторите, – требовательно сказал адъютант.
– Я Анна Заимова... Мой муж приговорен судом к смерти. Мне нужно срочно поговорить с министром. Генерал Заимов...
– Министра нет... – адъютант положил трубку.
Она выбежала на улицу и несколько минут бежала не зная куда. И вдруг остановилась, подумав, что она своим видом унижает себя и мужа. И она пошла медленно, гордо выпрямившись и открыто смотря в глаза встречным. Кто-то с ней поздоровался, и она ответила наклоном головы. И все же как она ни старалась идти спокойно, она незаметно для себя шла все быстрей и быстрей. Она шла в суд, надо было получить разрешение на свидание с мужем – прокурор так подло ее обманул, и теперь он просто обязан выполнить ее просьбу.
Ей повезло. Она встретила прокурора в коридоре суда. Увидев ее издали, прокурор замедлил шаг, он готов был повернуть обратно или скрыться за какой-нибудь дверью, но было уже поздно.
– У меня к вам опять просьба, дайте мне разрешение проститься с мужем, – как только могла спокойно сказала Анна. – Вы же обманули меня, и я сегодня не видела его.
Прокурор смотрел мимо нее, ничего не отвечая.
– Вы же своего добились и должны быть удовлетворены, так сделайте же одно маленькое доброе дело, – продолжала Анна, чувствуя, как в ее душе закипает гнев, и боясь, что он толкнет ее на что-то страшное и это уже нельзя будет поправить.
– Ваш муж получил то, что заслужил, – ответил прокурор и, обойдя ее, удалился в сумрак коридора.
Она стояла на улице у здания, где происходил суд, и, как в столбняке, смотрела на шумную летнюю улицу. И вдруг сильно забилось сердце, она пошла... «В тюрьму... в тюрьму... он там...» – больно стучало сердце и толкало: – «Иди, иди, иди». Она шла сквозь толпу, сквозь душный запах сирени, сквозь все, что было жизнью и что уже было не для нее.
Возле входа в помещение тюремной администрации часовой хотел остановить ее, но промолчал, только посмотрел ей вслед удивленно и тревожно.
В темном коридоре она уверенно направилась к двери и решительно вошла в небольшую комнату с зарешеченным окном. Посреди комнаты стоял тюремщик, он с изумлением и каким-то суеверным ужасом смотрел на нее, пока она подходила.
– Я жена Заимова, – сказала Анна. – Разрешите мне проститься с мужем.
Тюремщик таращил на нее глаза и молчал.
– Прокурор обманул меня. Он сказал, что приговор вынесут днем, а вынесли утром. Я не видела мужа. Дайте мне проститься, – быстро говорила Анна, необъяснимо чувствуя, что этот человек может выполнить ее просьбу, только боится.
Тюремщик отошел в угол комнаты и посмотрел на Анну более осмысленно, и у нее еще больше окрепла уверенность: «он может... он сделает...» В это время из соседней комнаты вышел второй тюремщик. Он бросил в угол какие-то тряпки и уставился на Анну.
– Кто такая? Что ей нужно? – спросил он.
– Жена Заимова... просит свидания, – ответил первый.
– Еще чего, – огрызнулся второй тюремщик, со злым любопытством рассматривая Анну. – Она такая же негодяйка и предательница, как и муж.
– Не говорите так, – огорченно сказала Анна. – Вы ведь совсем не такой злой человек. Все люди имеют сердце.
– Заткнись!
– Боже мой, боже мой, – тихо произнесла Анна и схватилась за сердце. Она уже знала, это необъяснимо, но она знала, что ее Владимир в соседней комнате! Знала! И пока тюремщики наливали в стакан воду, она быстро шагнула к двери в соседнюю комнату.
Заимова привезли в тюрьму, может быть, за каких-нибудь полчаса до появления здесь Анны. Его завели в комнату без окон и предложили снять арестантскую одежду и надеть свою – тюремное начальство не хотело терять казенное имущество.
Заимов был в полной отрешенности от всего, будто его уже не было. Он механически сменил одежду и стоял посреди комнаты, не догадываясь даже присесть на лавку.
Вдруг дверь в соседнюю комнату открылась, и он увидел Анну. Отрешенность словно взорвалась в нем – в мозг, в сердце, во все его существо обжигающим жаром и грохотом ворвалась жизнь. И он крикнул радостно, громко:
– Смотрите, кто пришел! Кто пришел!..
Тюремщики, рванувшиеся было за Анной, замерли в дверях, остановленные этим радостным криком и его счастливыми, сияющими глазами. Анна бросилась к нему, ноги у нее подкосились, и он подхватил ее, прижал к себе. Она подняла голову и крепко сжала руками его совсем, совсем седые виски.
– Владя, не печалься, – тихо сказала она. – Смертный приговор – нам обоим. Ты умрешь, и через два-три часа я тоже буду с тобой. Помнишь наш разговор?
Он кивнул. Он помнил. Еще давно Анна как-то сказала: «Если ты умрешь раньше меня, я не переживу и дня. Клянусь...»
– Смерти я не боюсь, – сказал он. – Мне тяжело только... Они оскорбили меня... Тяжело за тебя.
– Хватит брехать! – крикнул второй тюремщик и сделал шаг к Анне, чтобы схватить ее.
– Не троньте ее! – гневно приказал Заимов.
Тюремщик невольно остановился.
– Вот что, Анна, – сурово сказал Заимов. – От клятвы я тебя освобождаю. Слышишь? Ты должна... ты должна... ты обязана жить для Клавдии... для Стояна... Это мое тебе завещание. Ты будешь жить! Да?
Она опустила голову.
– Да... Раз ты хочешь. Будь спокоен за детей... Прощай...
Они обнялись и замерли.
– Хватит! Убирайся отсюда! – заорал второй тюремщик и обернулся к первому. – Чего рот раскрыл? Гони eel
Они оторвали Анну от мужа и вытолкали из комнаты.
На помилование Заимов не надеялся и даже думал, что царская милость была бы для него оскорбительной. Это как если бы на фронте, во время сражения, в самый опасный момент, кто-то вдруг вывел бы его в безопасное место, предоставив погибать другим. Нет, нет, об этом он и думать не хочет, как бы ему ни хотелось жить. Он не хотел бы и часа прожить без права открыто смотреть людям в глаза. Нет, нет, на войне как на войне...
Анна тоже ни слова не сказала об этом – она все понимает. Она и сама готовилась умереть вместе с ним. Господи, сколько любви в ее сердце, если она могла принять такое решение! Но теперь она так не сделает. Раз она сказала, что будет жить для детей, она от своего слова не отступит. Только бы дети поняли, как немыслимо тяжко ей будет жить без него.
«Милая Анна, мы простились с тобой навсегда... Навсегда». Эта мысль как последняя черта под всем личным, с ним он тоже в эту минуту расставался навсегда.
Как все справедливо и жестоко... Он должен был успокоить ее... вселить надежду... Какую? Он торопливо взял бумагу и карандаш... Дрожат руки... Он начинает писать. Мысли и слова путаются, забегают вперед... Как мог он забыть, что ему дано право писать близким!
«Милые, дорогие мои Анна, Степа и ты, маленькая моя Клавушка, так рано остающаяся без помощи своего папы. Все мои мысли и муки в эти тяжелые дни – о вас. Вы должны ожидать самое худшее и приготовить себя перенести его, поэтому я начну с деловых вопросов, а потом попытаюсь объяснить вам свои чувства и дела так, чтобы вы могли меня понять. Вам будет очень тяжело прокормиться. Как назло, у вас был друг и отец, который очень мало заботился о семье, а все о Болгарии. Оставляю вас без средств, только один дом весь в долгах, и без способа прокормиться. Вы должны будете лишиться многого. Степа, ты должен заменить меня и в любви к матери и сестренке, и в поддержке, хотя бы до тех пор, пока она вырастет. Будь их нежным защитником и отдай себя им...
Самый большой ужас для меня был, когда мне сказали, что и ты, Степа, арестован. Было ли так или мне сказали это для морального удара? Но напишу тебе и о своих делах, потому что мне дано только пять листов.
Ты, Анна, знаешь, каким славянофилом я был и не со вчерашнего дня. Я сгорю с этим своим убеждением. Я не мог отречься от своих убеждений и порвать с друзьями из России, как это сделали многие после того, как Германия напала на Россию. Я знал, что это опасно, но видел, что опаснее для Болгарии будет, если она останется без друзей в России, когда Германия проиграет войну и повторится катастрофа 1918 года. Кто тогда будет спасать нас? Мы уже сердим и Лондон, и делаем такое безумие в отношении своих соседей – наших братьев югославян и греков. У нас уже осталась только законная русская легация[23] 23
Посольство.
[Закрыть], которая сможет назвать более умеренных людей среди нас, которые могут говорить и которых будут слушать. Одним из них я готовился быть в этом случае, но кто сейчас хочет слушать и понимать? Меня обвиняют в измене. Я обдумывал каждое свое слово – не принесет ли оно зло, прямо или косвенно, и только тогда обменивался мыслями. Но это только вы можете, и я вас прошу понять, потому что обвинение, которое свалили на меня, жестоко и нетерпимо!