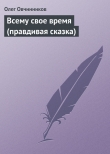Текст книги "Две дороги"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
Дышать в вагоне было нечем. Кто-то, не выдержав, открывал дверь, и в переполненный вагон врывались белые клубы морозного воздуха, сразу становилось холодно, и тогда раздавалась яростная брань. Дверь закрывали, и снова люди задыхались, кричали, что нечем дышать, и все начиналось сначала.
А поезд, качаясь на стрелках, вздрагивая на стыках рельсов, катился и катился сквозь метельную ночь, вез в Москву взбудораженный революцией пестрый люд: военных и штатских, старых и молодых, городских господ, деревенских мужиков.
Вагон стонал во сне, разговаривал, ругался, надсадно кашлял, грохотали колеса, и металось в фонаре над дверью зыбкое пламя свечи.
Забившись на верхней полке в самый угол под потолком, Дружиловский со страхом думал о том, что ждет его в Москве. Он очень надеялся, что ему поможет Саша Ямщиков – его приятель и однокашник по 4-й московской школе прапорщиков. Саша писал ему недавно, что работает теперь метрдотелем в ресторане «Аврора», звал бросить военную каторгу и перебираться в Москву. «Здесь царит невероятный хаос, – писал он, – если не растеряться, можно иметь все и жить как у Христа за пазухой...»
– Эй там, на галерке! Слезай! – кричал кто-то снизу и дергал его за шинель. Сжавшись от страха, он сделал вид, что только проснулся, и посмотрел вниз.
– Слезай! – кричал ему широкоплечий парень в кожанке и с комиссарским маузером на ремне. – Проверка документов!
Уже светало. Сквозь замороженные окна в вагон лился густой синий свет, лица людей в нем были мертвенно-белыми.
Склонившись к фонарю, который держал проводник вагона, парень в кожанке долго рассматривал временное удостоверение Дружиловского, утверждавшее, что он является преподавателем Гатчинской авиашколы.
– Командировка? – миролюбиво спросил парень, возвращая удостоверение.
– Отпуск... – еле слышно ответил Дружиловский и закрыл рукой рот с усиками.
– Куда едем?
– В Москву, – дрожащими губами ответил он.
– Если пробудешь там более трех дней, заявись в военкомат по месту жительства.
– Слушаюсь... – вытянулся он и крепко сомкнул губы. Еще не верилось, что все сошло благополучно.
Наверх он больше не полез, сел на полу. Никто не обращал на него внимания.
На московском перроне было очень людно, шумно, и он совсем успокоился – кто тебя заметит среди плывущих над толпой мешков, узлов, чемоданов, корзинок. Тех, кто нес их на своих плечах, не было видно, и казалось, что вещи сами двигались к выходу. Все это дымилось на ходу, пахло дублеными шубами, дегтем, карболкой.
Дружиловского вынесло на снежную просторную площадь. Извозчики кричали и гикали, зазывая седоков. На трясучем, громыхающем трамвае он поехал к центру города.
Москва выглядела так же, как в первый год войны, когда он учился здесь в школе прапорщиков. Скрипя по снегу железными подрезами, проносились конные возки с важными пассажирами, по тротуарам текла оживленная толпа, улицы и трамваи заполняли спешившие на работу люди. На стенах домов, на витринах магазинов, на афишных тумбах, столбах, на трамваях и даже на памятниках – всюду были наклеены плакаты и объявления. Они призывали к пролетарской бдительности, разоблачали дурман религии, разъясняли международное положение и снова звали к беспощадной бдительности. У Страстного монастыря он сошел с трамвая и стоял, глядя на знакомую площадь. Начинался безветренный зимний день с легким морозцем и робким солнцем, золотившим белые крыши домов и макушки заиндевевших деревьев.
Он постоял немного, прошел к памятнику Пушкину и сел там на скамейку – Саша писал, что на работу приходит к полудню, надо было как-то убить время. Рядом на скамейках сидели бабушки и няни, ребятишки с визгом бегали вокруг памятника. Рослый бородатый старик в валенках, подшитых кожей, сгребал снег в аккуратные сугробы. По середине площади ходил милиционер в длинной темной шинели. Все это совсем не было похоже на хаос, о котором писал Саша.
На Петровских линиях, где находился ресторан «Аврора», как и до резолюции, вдоль тротуара стояли извозчичьи возки. На облучках дремали извозчики в пышных, припущенных инеем армяках, перехваченных кушаками.
В зале ресторана царил полумрак. Стулья лежали на столах ножками вверх. Кисло пахло табаком и духами.
Сонный гардеробщик провел Дружиловского через зал в каморку без окон, и там он нашел своего приятеля.
– Серик! Здорово! – закричал Саша, бросаясь к нему с распростертыми объятиями. – Вот молодец! Приехал! Садись, Серик, садись, мы сейчас кофейку сообразим, – говорил он ласково и как-то беспокойно, а улыбка на его курносом лице то появлялась, то исчезала...
Дверь открылась, и высокий пожилой мужчина с красивым, но сильно помятым лицом внес на подносе кофейник. Он разлил кофе и, сунув поднос за диванчик, сел к столу, за которым сразу стало тесно. Саша взял Дружиловского за локоть.
– Знакомься, Серик, это Павел Григорьевич, наш буфетчик, – снова ласково и беспокойно заговорил Ямщиков. – Павел Григорьевич кончал Пажеский корпус. К большой жизни был предназначен. К очень большой.
Павел Григорьевич недовольно посмотрел на него из-под припухших век.
– К чему этот некролог?
– Ладно, ладно, не буду, – послушно наклонил голову Ямщиков.
Буфетчик медленно перевел взгляд на Дружиловского.
– Вас, я слышал, зовут Сергей Михайлович? И вы, я слышал, офицер? Это прекрасно. – Он сжал рукой массивный, мягкий подбородок. – Насколько мне известно, вы приехали в Москву попытать счастья. Это прекрасно, время для этого самое подходящее. Где будете проживать?
– Есть далекая родня, но надо ее отыскать.
– Не надо, – сказал Павел Григорьевич. – Пока поживете у меня, места много, вдвоем будет веселее. Двум русским офицерам есть о чем поговорить длинными зимними ночами...
– Мне еще надо работу найти.
– Не торопись, Серик. Работа не волк... – вмешался Ямщиков.
– Пока поработаете здесь, – добавил Павел Григорьевич.
Обычно до полудня Дружиловский спал, а потом вместе с Павлом Григорьевичем через всю Москву они ехали на трамвае в ресторан «Аврора». Там он помогал Ямщикову расставлять стулья, одним пальцем печатал на машинке меню и отчетность по буфету. Потом до вечера было несколько свободных часов, и он болтался по Москве. Не очень веря в посулы Ямщикова и Павла Григорьевича, присматривал себе работу. А вечером снова помогал Саше. Надевал великоватый ему официантский смокинг и делал все, что велел Ямщиков, – улаживал конфликты гостей с официантами, утихомиривал, а то и выдворял подвыпивших скандалистов... Поздней ночью на последнем трамвае они с Павлом Григорьевичем возвращались домой в Сокольники. Никаких офицерских разговоров они не вели – измотанные дорогой и длинным днем в ресторане, сразу ложились спать.
Так прошел месяц. На улице запахло весной. К этому времени Дружиловский уже присмотрел себе чистую работу – его брали администратором в кинематограф. Это было гораздо лучше, чем каждый вечер выслушивать пьяные бредни ресторанных гостей.
Вечером он сказал об этом Саше Ямщикову, но тот встревожился и даже обиделся:
– Не дури, Серик, как раз сегодня мы с Павлом Григорьевичем решили сделать тебе солидное предложение.
Дело оказалось очень выгодным... Какие-то умные люди сумели выкачать спирт из цистерны, стоявшей на товарной станции. Теперь они продавали этот спирт. Ямщиков и Павел Григорьевич собирались его купить, разводить водой и подавать у себя в ресторане вместо водки. Дружиловскому пока поручили произвести своеобразную разведку – купить у жуликов пробный бидончик спирта – и за одно это обещали сумму, которая равнялась его жалованью в летной школе за целый год.
– А если меня с этим бидоном задержат? – спросил он.
– Ну и что? – очень спокойно возразил Павел Григорьевич, рассматривая свои сцепленные на столе руки. – Пришел купить спирта – какая же тут вина? Вы же не знаете, откуда тот спирт.
– А откуда же я узнал, что он там есть?
– На Сухаревке кто-то сказал адрес, а ты случайно услышал... – сказал Ямщиков, он был очень серьезен сегодня. – На сутки неприятностей – это в худшем случае...
Вечером он отправился в Сокольники. Пришлось долго плутать по дачным улочкам, по обледенелым тропинкам – на половине домов не было номеров, и почти нигде не было названий улиц.
Наконец он отыскал нужный дом. Это была приземистая хибара, почти не видная с улицы за кустами. В двух маленьких окнах горел свет – желтые квадраты лежали на осевшем снегу. Занавески на окнах были плотно задернуты.
Дружиловский поднялся на ветхое скрипучее крылечко и постучался в дверь. Ему тотчас открыли.
– Здесь живут Курихины?
– Идите за мной, – ответил из темноты низкий женский голос.
Вытянув вперед руку, Дружиловский пошел на голос. Открылась дверь, и он шагнул через порог в освещенную комнату. Женщина, ничего не говоря, взяла из его рук бидончик и ушла, а он ждал, тревожно выставив вперед худое лицо.
Комнату освещала висевшая под потолком керосиновая лампа-«молния», в углу перед иконами теплилась лампада, в лежанке потрескивали угли, и оттуда тянуло теплом. На подоконнике в клетке, попискивая, прыгала с жердочки на жердочку канарейка. Все тут дышало уютом спокойной, тихой жизни.
Вернувшись, женщина поставила бидончик к ногам Дружиловского, сказала негромко:
– Цена как было сказано, есть ведер двести... – Она села за стол и пододвинула к себе раскрытую книгу.
Он взял бидон и направился к выходу.
– Дверь закройте хорошенько, пожалуйста, – попросила женщина.
Тропинка была скользкая, и с полным бидоном идти было труднее. Подойдя к калитке, он поставил бидон на землю и стал надевать перчатки. В это время калитка открылась, и мимо него быстро прошли несколько человек. Один остановился возле Дружиловского, взял бидон и сказал тихо:
– Идемте.
На улице поодаль стояли два черных автомобиля.
Везли его долго, а куда, не понять. Наконец автомобиль въехал в ворота и остановился. Дружиловский успел заметить только, что двор тесный, а вокруг дома большие и высокие. Его провели в комнату на втором этаже и сразу же начали допрашивать.
Следователь был совсем молодой, а когда снимал очки, близорукие его глаза смотрели совсем по-ребячьи.
– Вы знаете, где находитесь? – спросил следователь, протирая очки носовым платком и прищурясь. Не ожидая ответа, он пояснил: – Вы находитесь в ЧК, на Лубянке. Коротко скажите, кто вы?
– Я преподаватель Гатчинской авиационной школы, – ответил он после долгого молчания, верхняя губа его дрожала, и он придерживал усы пальцем.
– Покупкой ворованного спирта занимаетесь в свободное время? – спросил следователь.
– Просто хотел подешевле купить... для себя... угостить товарищей по школе...
– Для товарищей, значит? Но товарищи-то где? Гатчина, я слышал, под Петроградом, а вы орудуете в Сокольниках, в Москве. Ну? – Следователь взял ручку, занес ее над листом бумаги.
– Я приехал в Москву в отпуск, собирался возвращаться в школу и решил порадовать своих товарищей...
– Документы, – приказал следователь и отложил ручку.
– Пожалуйста.
– Дружиловский Сергей Михайлович?
– Так точно.
– Документ без фото... так что...
– Запросите Гатчину.
– Вот вам бумага, извольте подробно описать свою жизнь от рождения и до... спекуляции спиртом, – строго сказал следователь и ушел.
В комнате у двери остался бородатый солдат с винтовкой.
По следственному делу банды спекулянтов видно, что чекисты считали Дружиловского мелкой фигурой, но поначалу они допрашивали его ежедневно. Хотели выяснить, откуда он узнал о доме в Сокольниках, но он о своих друзьях из ресторана «Аврора» упорно молчал.
Были очные ставки с хозяевами дома. Женщину он узнал, и она подтвердила, что продала ему бидончик спирта из запасов мужа. Приводили ее мужа, толстого, с бритой наголо головой.
Через месяц из внутренней тюрьмы ВЧК Дружиловского перевели в Бутырскую и перестали допрашивать. Уже наступило лето, тополь посреди тюремного Двора ронял нежный пух, который покрывал высокий подоконник окна и шевелился там от сквозняка, будто живой. Дружиловский наблюдал за ним со своего места на нарах, и ему с острой тоской вспоминалось детство – невозвратное рогачевское приволье.
Однажды навестил буфетчик Павел Григорьевич. Они несколько минут разговаривали через проволочную сетку в присутствии часового.
– Все прекрасно, не волнуйтесь, – сказал Павел Григорьевич, глядя на него из-под нависших век строго и требовательно. – Саша вам кланяется, он не смог прийти, приболел. Скоро увидимся. Только на суде не качнитесь, – тихо добавил он одними губами.
В августе, наконец, наступил день суда. Долго и терпеливо выяснялись преступные связи обитателей домика в Сокольниках с другими шайками спекулянтов. О Саше Ямщикове и Павле Григорьевиче речи не было. Дружиловского допрашивали мало, а когда спросили, он рассказал про свой бидончик и про то, как хотел порадовать спиртом дружков по летной школе. Двоих обитателей домика в Сокольниках суд приговорил к расстрелу. Дружиловский расширенными глазами смотрел, как их уводили из зала суда, у него дрожали колени.
За отсутствием доказательств, что единовременная покупка спирта была произведена в спекулятивных целях, Дружиловского приговорили к шести месяцам тюремного заключения с зачетом пребывания в тюрьме до суда.
Где и как Дружиловский провел лето и зиму, неизвестно, но в мае 1919 года он объявился в Гатчине. Кира Николаевна, рыдая, повисла на нем и никак не могла успокоиться.
– Я умираю от голода, – сказал он трагическим голосом.
Она внимательно посмотрела на него, и глаза ее округлились:
– Боже! Что это с тобой? – прошептала она, смотря на его землистое лицо, ввалившиеся щеки и обвисшие усы.
– Пять дней ничего не ел...
Она стала его раздевать, поливала горячей водой на руки, потом бросилась на кухню и принесла еду в столовую.
Он долго и молча ел, а она сидела напротив и, подперев пухлый подбородок, смотрела на него.
– Милый, где же ты пропадал?
– Там меня нет... – жуя, пробормотал он.
– Боже, что я тут пережила! Если бы ты знал! Пошла в твою школу. «Нет, – говорят, – вашего Дружиловского и не будет». Представляешь? Три дня проплакала. Потом пошла к гадалке. «Он жив», – говорит. Господи, что я только не передумала! Опять пошла к гадалке – нет ли у меня соперницы?
– Мне бы к ней сходить и поспрошать о своих соперниках, – улыбнулся он.
– Ты про генерала? Сгинул он, как сквозь землю провалился, – радостно сказала она.
– Ну смотри, – погрозил он очень серьезно. – Я все узнаю. Если что, пожалеешь.
Она с радостными слезами прижала его голову к груди, стала целовать. Он не противился, целовал ее и думал, что все идет хорошо, по плану...
Ночью долго не спали, сговаривались, что делать дальше. Он рассказал ей, как ездил по Крыму и нашел в Гурзуфе, вблизи Ялты, то, что им нужно. На самом берегу, над морем, с садом и огородом, двухэтажный дом, красивый, удобный, с тремя комнатами для сдачи курортникам.
Кира Николаевна обрадовалась, но смотрела на него растерянными глазами.
– Ну и что? Что же мы можем сделать?
– Я свое дело сделал, милая, я нашел и хочу одного, чтобы мы поскорее там поселились. Но сложности, конечно, есть... Во-первых, нужно срочно дать ответ, и, во-вторых, плату требуют золотом, в нынешние деньги веры нет. Хозяин приехал вместе со мной. – Дружиловский тяжело вздохнул и опустил голову. – Не знаю, что делать... Не знаю.
– У меня есть кое-что... но такая малость... – после долгого молчания тихо сказала она.
Вот! Еще один шаг по плану... Он стал рассказывать, как он все это время мечтал очутиться в этом доме, заглянуть в ее глаза и забыть обо всем на свете.
– Я-то в Крым попал, спасаясь от ЧК, – рассказывал он, понуря голову. – Скажу тебе всю правду – друзья-офицеры уговорили меня морем удрать с ними в Турцию. Никакого другого выхода у меня не было: или эвакуация, или смерть в подвале ЧК. Пробраться сюда, к тебе, я даже подумать боялся... Ну вот... Поехали мы с приятелем в Гурзуф за его матерью. А там я увидел этот дом. Представил себе, как мы с тобой здесь заживем... Не могу тебе объяснить, что со мной произошло. Когда я сказал приятелю, что возвращаюсь в Гатчину, он решил, что я сошел с ума. Ему я не мог ничего толком объяснить, но я уже ничего не боялся: ни чекистов, ни черта лысого... – Он взял ее руку и прижал к губам. – Если б ты только знала, что я пережил, чтобы вернуться к тебе.
Кира Николаевна рассеянно гладила его по волосам и думала о том, что ценностей у нее осталось очень мало – о доме над морем и мечтать нечего.
– А может, мы продадим этот дом? – вдруг с надеждой спросила она.
– Этот, гатчинский? Да кому он нужен? Кто сейчас может его купить? – тяжело вздохнул он, отлично понимая ход ее мыслей. – Не томи меня, скажи прямо, что у тебя еще осталось?
Она пошла в спальню и принесла деревянный ларец.
Золотой браслет... цепочка с крестиком... два кольца... часики... Он доставал из ларца, клал вещи на стол, принюхивался к ним и прикидывал, хватит ли ему этого для расчета с чухонцем, который переведет его через финскую границу.
– Да, небогато, – сказал он печально.
– Мне же есть нечего было... я меняла на провизию... – потерянно сказала она.
– Да разве я могу тебя укорять? – воскликнул он и, сложив вещи в ларец, сказал: – Но я надежды не теряю, теперь золото в такой цене, с ума можно сойти. Утро вечера мудренее. Я завтра встречусь с хозяином дома. Знаешь что, я предложу ему еще и этот твой дом. Идея!
– Боже мой, милый, неужели что-нибудь выйдет? – шепотом спросила она.
– Чем черт не шутит, когда бог спит, – рассмеялся Дружиловский...
Он дождался, когда Кира Николаевна наконец уснула, распихал по карманам драгоценности и, оставив ей записку, что уезжает в Петроград оформлять сделку, покинул дом генерала Гарднера.
Из заявления К. Н. Гарднер в гатчинскую милицию:
«...Прождав после этого 10 дней, я поняла, что случилось несчастье – он стал жертвой грабителей или что-нибудь еще. Перечисленные золотые вещи являлись моими фамильными ценностями и моим единственным средством пропитания, так как на них я выменивала продукты для личного употребления.
Ваше подозрение, будто он сам похитил их и бежал, я отвергаю с возмущением, так как между нами была любовь и обоюдная мечта жить вместе в согласии и счастии...»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Проводник – молчаливый длинноногий чухонец – шагал легко, размашисто, и Дружиловскому приходилось частить шаг, почти бежать. Он уже испытывал ненависть к маячившему перед ним и все норовившему уйти от него белобрысому, коротко подстриженному затылку чухонца, злился все больше и больше, но отставать было нельзя.
Долго шли они по еловому лесу, казалось, росшему из камней. Огромные позеленевшие валуны приходилось обходить, это сильно удлиняло путь, и Дружиловский выбивался из сил.
Но вот лес стал редеть, и им открылась болотистая равнина, вдали на зеленых холмах виднелись домики непривычного темно-красного цвета. Чухонец остановился.
– Туда... Вас ждут, – сказал он, кивнув на дома.
Оказывается, граница была уже позади. Дружиловский остановился, тяжело вздохнул и хотел спросить проводника, сколько еще до тех красных домов, но, когда обернулся, того уже не было рядом – он быстро шагал к лесу, из которого они только что выбрались.
Из кустов вышел финский пограничник, он словно ждал, пока проводник уйдет. Равнодушно глядя на Дружиловского, он карабином показал, куда идти, и пошел позади, насвистывая заунывную мелодию.
В самом большом красном доме, над которым развевался финский флаг, Дружиловского обыскали.
Майор финской контрразведки – рослый, с бесстрастным смуглым лицом, с небольшим шрамом на щеке – предложил ему сесть и долго смотрел на него без всякого выражения. Дружиловский уже собрался начать свою приготовленную исповедь, но в это время майор сказал:
– Вот что рекомендую вам учесть... Я русский, так что сочинять благочестивые сказки бессмысленно. Отвечайте на мои вопросы коротко и конкретно.
– Мне ничего сочинять не надо, – обиженно ответил он, вытирая о брюки вспотевшие ладони. – А то, что вы русский, меня только радует.
– Сомневаюсь, – буркнул майор.
Он пододвинул к себе бумагу, спросил и записал необходимые формальные данные и начал допрос:
– Что задержались? Что делали два года у большевиков?
– Сидел в тюрьме.
– В какой?
– Сперва в ЧК, потом в Бутырской.
– За что?
– Я участник тайной контрреволюционной организации англичанина Локкарта.
Эту версию Дружиловский придумал, когда еще готовился к переходу границы, он понимал, что спекуляция спиртом там «не потянет». Однако на майора его признание не произвело никакого впечатления.
– Ваша роль в организации?
– Связной.
– Неглупо.
– Я вас не понял.
– Сейчас поймете. Насколько вы были посвящены в дела организации?
– Очень мало, связной есть связной.
– Ну естественно, – согласился майор, но Дружиловский в его согласии уловил ироническую нотку. – Сколько вы сидели?
– Шесть месяцев.
– Только и всего? А затем?
– Бежал.
– Как это вам удалось?
– Освободили группу анархистов, а один из них за золотой портсигар остался за меня в тюрьме.
– Есть еще в России благородные люди, – не то серьезно, не то насмешливо сказал майор.
В прошлом работник царской охранки, теперь майор верой и правдой служил своим новым хозяевам, спасшим его от революции и от бездомной жизни эмигранта. Это, впрочем, не мешало ему получать свою долю от проводников через границу. Кто только не попадался здесь в его руки: и князья-самозванцы, и лжеархимандриты, и даже незаконнорожденный сын императора. Он хорошо знал российскую жизнь, и это помогало ему разоблачать обман. Он быстро понял, что Дружиловский – мелкая сошка, и еще в самом начале допроса решил, что Финляндии он не нужен. Майор имел строгую инструкцию принимать только нужных и стоящих людей. Финны полагали, что к ним, в их трудовую страну, сразу после революции прорвалось достаточно бесполезного люда, не считая вот таких, как Дружиловский, сочинителей фантастических биографий.
– Когда вы бежали из тюрьмы?
– В августе прошлого года.
– Чем занимались до перехода границы?
– Готовился к нему.
– На что жили?
– Резервы.
– За переход границы, как я понимаю, платили золотом?
– Как уж заведено.
– Портсигар – анархисту, золото – проводнику... вы были состоятельным человеком? Что-нибудь еще осталось?
– Последнее отдал проводнику.
– Вас судили?
– Да.
– Какой приговор?
– Учитывая мою второстепенную роль в организации – десять лет.
– Интересно, это какая статья их законов?
– Точно не помню.
– Обычно осужденные помнят это лучше собственного имени.
– Нервы.
– Понимаю. – Майор решил завершить допрос. – Чем вы собираетесь заниматься?
– Мстить.
– Похвально, и мы вам поможем. Мы отправим вас в русскую армию генерала Юденича, нацеленную на Петроград. Месть с оружием в руках – грозная месть. Я завидую вам.
– Я хотел бы... я же не только офицер... я занимаюсь политикой... мне нужно попасть в Париж...
– Зачем? При ваших убеждениях главная политика – свернуть шею большевикам, а этим сейчас занимается Юденич.
– У меня есть важнейшее сообщение для высокопоставленных русских лиц. Они в Париже.
– Ну что ж, генерал Юденич найдет наилучший способ связать вас с этими лицами, да он и сам достаточно высокопоставленное лицо.
– Позволю себе заметить, что вы поступаете неправильно.
– Я поступаю, как подсказывает мне моя совесть русского офицера, знающего, где сейчас главный фронт борьбы с большевиками, которым вы хотите мстить...
Рано утром его отвезли в приморский финский город Котку, посадили на пароход, который вскоре отчалил и взял курс на Ревель.
Финский зеленый берег остался за кормой и быстро удалялся, превращаясь в темную полоску на горизонте.
Дружиловский метался по палубе, не находя себе места от бессильной ярости.
С серого неба посыпался мелкий дождь, море взбугрили волны, и маленький пароход стало качать. Дружиловского скосила морская болезнь, и почти весь путь он провел в гальюне.
Потом, когда у него появится дневник, он запишет в нем: «Финны гады – обожрались, видать, нашим братом офицером, подавай им не ниже генерала. Но самое гнусное, что в оценщики они наняли нашего же русского, и эта сволочь старается как может. Но и в Ревеле меня не ждало ничего хорошего, во всяком случае, на первых порах...»
Эстонские полицейские записали его фамилию в книгу и объяснили, как пройти в штаб Юденича. В штабе его внесли в какой-то список и предложили явиться завтра. Он не решился заявить о своих заслугах в заговоре Локкарта и о том, что ему надо связаться с самим Юденичем. Спросил только, где ему жить, и получил ответ, что здесь это не проблема. Он отыскал ювелирный магазин и продал последнюю ценность – колечко генеральши. Заплатили неплохо, и он действительно сразу снял комнату в частном пансионе.
На другой день в штабе Юденича он узнал, что причислен к авиационному отделу пока без должности, получил аванс в счет жалованья и обмундирование – английский френч, брюки-бриджи, сапоги и погоны подпоручика русской армии.
Делать ему было нечего, и он болтался по Ревелю – благополучному, чистенькому, наполненному медовым запахом цветущих лип. Встретил знакомого поручика – в Питере играли часто в карты. Они посидели в парке, поговорили о житье-бытье. Поручик работал здесь в военной комендатуре на вокзале. Ничего обнадеживающего он не рассказал.
– Припеваючи живут лишь те, кто состоит при штабе, – ядовито рассказывал поручик. – У этих и оклады высокие, и сами себе короли. Остальные ловчат как могут, чтобы не угодить на фронт. Там-то, кроме пули, ничего не получишь....
По вечерам ревельские рестораны были забиты русскими офицерами, сановными господами благородных кровей, биржевыми спекулянтами, шулерами, бывшими помещиками и фабрикантами. Из петербургских кабаков переселились сюда певички и куплетисты. В табачном пьяном чаду, под цыганские рыдания шел бесконечный разговор о грядущем спасении России, о том, кто под звон колоколов въедет в Питер на белом коне и кто из монаршей фамилии взойдет на престол, а пока здесь покупалось и продавалось все.
Первое, что сумел продать Дружиловский, были его рассказы о пережитых им ужасах в застенках ЧК. Их купил редактор русской газеты Ляхницкий, с которым он быстро сошелся. Пережитое на самом деле помогло ему придать своей брехне вид правдоподобия. Он глухо намекал, что был схвачен чекистами как имевший некое отношение к контрреволюционному заговору Локкарта. Какое именно, он не раскрывал, многозначительно объясняя, что пока сделать этого не может, чтобы не поставить под удар своих сообщников, оставшихся там, в России. Особенно красочно он описал свой побег из тюрьмы с помощью анархиста.
«Воспоминания» имели успех, и в ревельских кабаках Дружиловский стал приметной личностью. Какие-то помятые типы подходили к нему чокаться за благородство анархистов.
Вскоре он познакомился с комендантом штаба Юденича полковником Несвижевым, и в его жизни произошли большие перемены. По совету полковника он женился на бывшей певице из петроградской оперетки Юле Юрьевой, а при его содействии получил в штабе должность адъютанта командующего авиацией.
Юрьева с шумным успехом выступала в самом дорогом ресторане Ревеля, очень неплохо зарабатывала и была обольстительна. Она была гораздо старше его, но он никогда не имел дела с такими роскошными женщинами и, сидя с ней рядом, думал, что для него начинается совершенно новая жизнь. Он даже готов был благодарить того русского майора, который вышвырнул его из Финляндии в это благословенное место – вот уж воистину, никогда не знаешь, где выиграешь, где проиграешь.
Свадьба была сыграна без попа и чиновников, в ресторане. Гостей было не меньше полусотни. Дружиловский сидел во главе стола, слева от Юлы, а справа как посаженый отец невесты сидел полковник Несвижев. Поначалу Дружиловскому не нравилось, что полковник, пользуясь своим свадебным званием, поминутно лобызал его невесту и называл ее «моя певчая птичка», но, выпив, он перестал это замечать и даже гордился, что могущественный комендант штаба называет его Серженькой.
Перед рассветом, провожаемые пьяными воплями гостей, молодые направились домой...
В эту же первую брачную ночь Юла призналась ему, что полковник Несвижев является ее, как она выразилась, сердечным другом.
– С этим, котик мой, тебе придется примириться, – весело говорила она, заплетая пышную темную косу. – Но должна тебе сказать, что ты нравишься мне больше, и, насколько я понимаю, полковник сам передал меня тебе. А нам обоим он может еще пригодиться. Я не собираюсь закончить жизнь в этой дыре, мы с тобой удерем отсюда в Англию, есть у меня там друзья с высоким положением. Если хочешь знать, я была в Питере знакома с самим английским консулом и даже оказывала ему услуги.
Командующим авиацией оказался дряхлый генерал, страдавший подагрой. Он не мог подняться из кресла без посторонней помощи. К службе генерал относился как к некоему досадному осложнению болезни, с которым ему приходилось считаться, а мечтал лишь об одном – добраться до Болгарии, где его брат – полковник – служил в свите двора, имел поместье, подаренное болгарским царем. Он собирался разводить цветы и кроликов в поместье брата. Дружиловский быстро освоился и вошел в роль преданного слуги. Утром он делал генералу массаж, помогал одеваться, вечером стаскивал с него сапоги, кипятил воду для согревания генеральских ног, снова делал массаж и укладывал его в постель с подогретыми простынями.
– Мало кто понимает, – говорил ему генерал, – что кролики с их чудовищной размножаемостью – это провиант будущего. А здесь, сынок, мы приставлены с тобой к русской авиации, которой, между нами говоря, на самом деле нет.
Дружиловский поддакивал и благодарил бога, пославшего ему этого старенького больного генерала. Перспектива попасть на фронт по-прежнему была для него немыслимо страшной. Он прекрасно знал, что дела Юденича под Питером плохи – начатое им второе наступление захлебнулось, как и первое, а Красная Армия готовилась к контрнаступлению. Об этом говорили на всех этажах штаба.
Но в жизни Дружиловского всегда так бывало – только ему покажется, что он на коне, непременно стрясется какая-нибудь беда. Так произошло и теперь. Поздно вечером, когда он уже собирался покинуть своего мирно сопевшего генерала и направиться в ресторан, где выступала Юла, позвонили из штаба и приказали немедленно явиться в военную контрразведку.
Что только не передумал он, пока дошел до этого невзрачного дома в узком переулке, про который говорили, что туда легко только войти. Контрразведчики Юденича славились своей беспощадностью.
В сопровождении солдата Дружиловский поднялся на второй этаж. Несмотря на поздний час, работа здесь кипела вовсю – из-за дверей слышались голоса, по коридору то и дело из двери в дверь пробегали с бумагами в руках озабоченные офицеры.