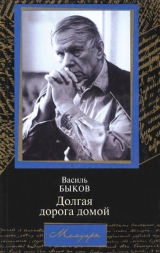
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
XII
А в Минске тогда началась беспокойная, взбаламученная жизнь. Партийная пресса, телевидение, а также партийные органы всех уровней набросились на новое национально-демократическое движение.[409] Обвинения были самые страшные. Бэнээфовцев называли фашистами, немецкими прихвостнями, полицаями. Национальный бело-красно-белый флаг тоже объявили фашистским, изо дня в день вопили, что именно под этим флагом немцы вместе с полицаями расстреливали евреев. О Позняке говорилось, что он был полицаем (это о человеке 1945 года рождения!), что отец его тоже был полицай, а не красноармеец, который погиб на фронте. Позняк, однако, сохранял спокойствие и твердость, не бросался с опровержениями, а неутомимо сплачивал под знаменем БНФ национальный актив. Его соратниками с самого начала стали: Михаил Дубенецкий, известные историки М. Ткачев и А. Грицкевич, ученый-физик профессор Ю. Ходыко, педагоги В. Вечерка, Ю. Сивчик, искусствоведы В. Чуйко и В. Трегубович, а также художники Г. Ващенко, М. Купава, А. Марочкин, Е. Кулик, журналист С. Наумчик и его жена Галя. Писателей в новом движении было немного: я, Рыгор Бородулин, Артур Вольский. И всё. Большинство писателей дистанцировались от БНФ. Позже многие из них вошли в Товарищество белорусского языка, либеральную организацию, созданную с согласия властей Нилом Гилевичем.
Зимой стали готовить съезд БНФ, чтобы узаконить Фронт, сделать его легитимным. Провести съезд в Минске было невозможно, и нас выручили литовские друзья, – помогли организационно, предоставили удобное помещение. К сожалению, я в том съезде не участвовал – подоспела давно запланированная поездка в Испанию. Международное писательское сообщество запланировало конгресс в Севилье, и я должен был там выступать с докладом. Была еще одна причина, которая вынудила меня отправиться не в Вильнюс, а в Севилью: предложение одной издательской фирмы издать мое Собрание сочинений с включением в него всего мною написанного, в том числе и запрещенного в Советском Союзе. Я подготовил рукописи, собрал черновики – такое было условие. Отправить это почтой было невозможно, а провезти через границу в своем багаже я мог, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью на таможне. Издательство дало мне несколько своих зарубежных адресов, в том[410] числе и в Мадриде. Прибыв в Мадрид, я тотчас запаковал рукописи в почтовую бандероль и отправил ее по мадридскому адресу фирмы. И – навсегда. Ни слова в ответ не получил. Позже пытался узнать что-нибудь об этой фирме, но никаких следов ее не нашел. Так всё и пропало. (Может, когда-нибудь отыщется в бездонных архивах КГБ, ФСБ, ФАПСИ и т. д.)
До Севильи несколько дней пробыл в Мадриде. Все европейские города, в общем, чем-то одинаковы – архитектурой, благоустроенностью. Вместе с тем у каждого свой облик, свои особенности – в планировке, озеленении, не говоря уже о музеях. Мадридский Прадо ошеломлял, как и все подобные хранилища многовековой культуры Европы. Не то, что галерея Пикассо, посетителей в которой было негусто. Да и выглядела она чересчур модерново – даже для Пикассо. Знаменитая его «Герника» тем не менее заслуженно стала символом неприятия мировой бойни, нависавшей над Европой в годы создания картины.
Но, пожалуй, самое огромное впечатление на меня произвел Мемориал, до которого полчаса езды от Мадрида автомобилем.
Еще издали виден водруженный на скале громадный католический крест, под которым в недрах скалы находится Мемориал – огромный зал-усыпальня, разделенный на две половины. По одну сторону обрели вечный покой республиканцы, по другую – франкисты. Посреди зала возвышается гранитное надгробие Франко. Мемориал – его идея, объединившая всех павших во время гражданской войны испанцев, – и врагов Франко, и его сторонников. Это явилось замечательным воплощением христианского постулата, что перед Богом все равны. Смерть объединяет. Постулат, который, к великому сожалению, у нас давно на задворках сознания даже в среде собственной нации, не говоря уж об отношении к другим нациям, к бывшим врагам. Если в Европе построены сотни мемориалов, бережно сохраняются все могилы наших солдат, жертв Второй мировой войны, то на нашей земле от захоронений немецких солдат не осталось и следа. Всё сровняли с землей, разрушили памятники[411] на волне гнева и ненависти к оккупантам, что было естественно во время войны и в первое послевоенное время, но, однако, не затухло по сей день. И сегодня наши ветераны готовы на всё, только бы не разрешить немцам за свой счет восстановить память о немецких жертвах на земле Беларуси. В то же время гуманитарную помощь от немцев хотят получать регулярно. Такая мораль.
Севилья с зелеными в феврале газонами и вечнозелеными пальмами приятно дохнула на нас весной, удивила апельсиновыми деревьями на улицах. Желтые плоды на деревьях, однако, оказались горькими. Мы посетили бывшую табачную фабрику, на которой работала когда-то бессмертная Кармен, а теперь стоял неумолчный гомон студентов Севильского университета.
На одно из утренних заседаний конгресса я не пошел, плохо в тот день себя чувствовал, лежал в номере на кровати и стал невольным свидетелем того, как в соседней комнате обыскивают чемоданы моего товарища, московского литератора. Делали это два наших земляка, приехавших в Севилью из Мадрида. Несправедливо было бы винить испанцев, если из чемоданов что-то пропало. А может, не пропало – прибавилось, что могло обернуться еще большими неприятностями.
Когда улетали домой, встретил в мадридском аэропорту Олега Ефремова, который возвращался в Москву с гастролей. Выглядел он неважно, смотрел на всё с глубоким пессимизмом, не ждал ничего хорошего для культуры. Это казалось странным на фоне эйфории, охватившей Москву под влиянием перестройки. Но Ефремов был человек мудрый, трудно было ему не поверить.
Вернулся в Минск и сразу очутился в водовороте политической борьбы, которая вовсю разворачивалась в белорусской столице. БНФ, как только был создан, стал апеллировать к народу, звал его на улицы. Народ не очень охотно реагировал на пламенные призывы Позняка, но всё же собирался, хотя и негусто, на митинги, слушал ораторов. Позняк ставил крайне радикальные цели, которые у одних вызывали сомнение, других пугали именно своим радикализмом.[412]
Часто заседал сойм БНФ, в заседаниях которого мы с Бородулиным старались регулярно участвовать. Рыгор выступал коротко, но всегда содержательно и остро. Надлежащих условий для политической работы не было, у сойма не было своего помещения и он собирался где придется – в школах, в музеях, иногда в Доме литератора, пока он принадлежал писателям. Из Дома литератора хоронили Михася Ткачева, который умер от последствий жестокого избиения в одном из райцентров. А незадолго до этого он съездил в Гродно на похороны Алексея Карпюка. Алексей умер летом от рака желудка, в тяжких страданиях. Еще и это – вдобавок к другим страданиям в его жизни!.. В последние его годы старые коммунисты в который раз нанесли ему душевную травму – обвинили в газетах в том, что он оболгал коллективизацию, в грязных выражениях оскорбили писателя. Карпюк подал на них в суд за клевету и выиграл процесс, взыскав с обидчиков денежное возмещение за моральный ущерб – один рубль. Его противники только похихикали: сарказм Карпюка до них не дошел… Вскоре они научились взыскивать за «оскорбление чести и достоинства» миллионы, которые перечисляли на нужды детских садов. Сами уже нахапали, самим стало не нужно.
Согласно новым, перестроечным законам началось выдвижение кандидатов на съезд народных депутатов СССР. Из Москвы были спущены квоты, в том числе и в СП БССР. В Доме литератора провели собрание, которое вел Нил Гилевич, назначенный председателем местной избирательной комиссии. А это означало, что он не имеет права выдвигать кандидатов в депутаты. Это огорчило не только его, но и меня, потому что я почувствовал, кого выдвинут, и не знал, как из этого выкрутиться.
Получилось примерно так, как я и предвидел: несколько человек один за другим предложили кандидатуру Быкова. Я выступил с самоотводом. Самоотвод поставили на голосование и отклонили. Я снова не согласился. И всё началось по новой: Быкова, Быкова!.. Один лишь Домашевич, должно[413] быль понял меня, сказал: «Ну что вы прицепились? Человек не хочет, уже немолод, нездоров…» Домашевича никто не слушал, так же, как и меня. На том и разошлись.
На другой день рано утром позвонил Анатоль Вертинский, который тогда был главным редактором «ЛiМа». Он чуть ли не с отчаянием сказал, что не знает, как ему быть. «В газету надо давать сообщение о результатах голосования по выдвижению кандидата в депутаты. Передо мной лежит протокол собрания, в нем написано: выдвинут Быков. А ты не согласился. Так что мне делать?» – взывал ко мне Анатоль.
Я уважал Вертинского, был с ним в дружеских отношениях и, усмирив душу, вынужден был согласиться. Ради «ЛiМа», ради его редактора, а не ради собрания, которое насильно выдвинуло меня на мучение…
Протокол собрания ушел в Москву, в Союз писателей СССР, куда такие же протоколы поступали из писательских организаций всех союзных республик и автономных областей. А поскольку выборы должны были проводиться в том же Союзе писателей СССР по спущенной ему квоте – 10 депутатов, то во всесоюзном СП надлежало выбрать 10 кандидатур из всех поступивших. И я думал – надеялся, что, может, там я не пройду, пройдут другие. Но этого не случилось – прошел и там. И вот Быков стал одним из десяти народных депутатов от всесоюзной писательской организации. Алесь Адамович тоже им стал, но от Союза кинематографистов. То, что был избран Адамович, несколько меня обрадовало – всё же свой человек будет рядом. Не один я в этом сборище номенклатуры из всей страны – только от Беларуси около ста!.. И немного утешало, что я – от творческой организации. Думалось, слава Богу, не придется сидеть среди этих, с которыми насиделся за десять лет в Верховном Совете БССР. Но я ошибался. В зале всех рассадили по алфавиту и территориальному принципу. Адамович оказался среди депутатов от Москвы, а я, естественно, среди депутатов от Беларуси. Моими соседями оказались председатель Брестского облисполкома, мастер молодечненского завода, председатель колхоза Бядуля, председатель КГБ Балуев.[414] Позади сидели председатель Совмина В. Кебич, первый секретарь ЦК КПБ Е. Соколов. Та еще компания!
Предстояло избрание руководящих органов съезда народных депутатов СССР и состава различных его комиссий. Для утверждения белорусских кандидатур в эти органы в Минске собрали всех депутатов от Беларуси, вел заседание Малафеев. Выбирали открытым голосованием. Услышав свое имя, я тотчас заявил о самоотводе, который был отклонен. Лишь генерал Чумаков и еще несколько человек проголосовали против Быкова, и я не знал, что о них думать – то ли они мои друзья, то ли недруги.
Продолжение следовало в Москве. В зале Президиума Верховного Совета собрался совет старейшин, на котором присутствовали и мы с Адамовичем. Мы сидели в амфитеатре, на задних скамьях, и наблюдали, как Горбачев и Лукьянов шушукаются, обсуждая кандидатуры. Я послал Горбачеву записку о самоотводе. Горбачев зачитал ее вслух и поднял меня с места: «Почему вы отказываетесь?» Я сказал, это здоровье не позволяет. Горбачев развел руками: «Ну вот, популярный писатель, а не хочет. Ну что ж…» Отложил мою записку в сторону и вычеркнул меня из списка кандидатов.
Адамович, напротив, хотел, чтобы его избрали, но напрасно. Его кандидатура даже не предлагалась. Было заметно, что он немного переживает, что ему досадно – он был человеком большого общественного темперамента. Но так уж у нас заведено: кто хочет, тому не дают, а кто не хочет, того заставляют. Этот большевистский принцип не удалось нарушить и Горбачеву. Когда стали распределять депутатов по комиссиям было предложено подавать заявки – кто куда желает. Я не подал никакой заявки, решил по-солдатски «сачконуть». Адамович же подал заявку сразу в две комиссии, надеясь, что в какую-нибудь да введут. К сожалению, его не ввели ни в одну из комиссий, а меня, не спросясь, избрали в комиссию по обороне и государственной безопасности. Потом я высказал свое неудовольствие Лукьянову, который занимался составом комиссий, на что он ответил: «Но ведь вы же пишете об армии и КГБ!» Так я влип.[415] Адамович насмешливо мне сказал: «Кого ты думал перехитрить?» А я рассказал ему старую байку про одесского бомжа, который, слоняясь по порту, искал какую-нибудь работу. Видит, на мостике океанского лайнера стоит красавец капитан, и бомж кричит ему: «Эй, кэп, тебе помощник не нужен?» – «Нет, не нужен». – «А боцман?» – «Тоже нет». – «А кок?» – «И кок не нужен». – «Ну твое счастье, падло, а то я бы тебе наработал!..» Я не одесский бомж, но на коммунистического кэпа работать тоже не собирался…
Началась бурная, бестолковая, но во многом драматическая деятельность на съездах народных депутатов. Депутатов было великое множество из всех республик Советского Союза. Больше всего – из среднеазиатских республик, и меньше – из Прибалтики и с Кавказа. Рассаживались в зале только на предписанных каждому местах, в перерывах кучковались возле своих партийных лидеров – первых секретарей ЦК союзных республик. Они были режиссерами съездовского действа, назначали выступающих, давали указания, что говорить. Рядом с белорусской делегацией целый гектар площади огромного зала занимала делегация Узбекистана, и мне любопытно было наблюдать за ее поведением. Там было несколько дирижеров, в том числе одна женщина, которые не только натаскивали выступающих, но и подавали реплики, выкрикивали, зачинали аплодисменты. Очень сплоченная была делегация.
Политический накал в зале для неопытного человека часто был невыносимым. Например, для таких людей, как Сахаров, Афанасьев и даже Собчак. Когда Сахаров говорил об Афганистане, отключали микрофоны, пытались согнать его с трибуны нарочитыми аплодисментами – «захлопывали». Зато когда выступил генерал Родионов, который устроил известную кровавую баню в Тбилиси, его проводили с трибуны бурной овацией, половина зала встала. Я тогда отчетливо понял, что попал явно не туда, что надо отсюда как-то рвать когти.
Алесь Адамович наоборот – был полон энергии и полемического азарта, готов был выступать по любому поводу. Часто это ему удавалось, потому что он сидел в первом ряду,[416] как раз перед трибуной. Однажды выступил очень резко, предупредил Горбачева об опасности, которая исходит от его генеральского окружения. За эту речь Алесю досталось от депутатов-писателей, российских коммунопатриотов. Печально, что к ним (поначалу молча) присоединились и некоторые белорусские деятели культуры, например, депутат Михаил Савицкий. Я попытался поговорить с Валентином Распутиным, с которым был в хороших отношениях, но быстро понял, что между нами – бездна. Эти люди не видели и не признали ничего, кроме своей любимой матушки-России. Ну да ладно – это русские, а как же другие?…
Пробным камнем новой политики Горбачева стала национальная проблема (Грузия, Армения. Азербайджан, Центральная Азия, Прибалтика). Даже мало осведомленному человеку было понятно, что народы этих стран рвутся к свободе и независимости, что им осточертела тюрьма под названием СССР. Имперцы этого не понимали. Я тогда контактировал с прибалтами – эстонцами и литовцами, которые взяли отчетливый курс на независимость и стали последовательно ее добиваться. Прежде всего – важно было признать незаконность секретных протоколов, которые прилагались к известному пакту Риббентропа – Молотова. Но сперва надо было найти эти протоколы. Советские дипломаты и кагэбэшники твердили, что никаких протоколов нет и не было, что это выдумка Запада. Усилиями демократов была создана специальная комиссия во главе с Ландсбергисом, в которую ввели и меня. Нам предстояло доказать, что опубликованные на Западе копии протоколов не фальшивка, что копии сделаны с подлинных документов. Доказать это было непросто. Академик Фалин с трибуны съезда не уставал уверять, что никаких протоколов в природе не существует. Большинство ему верило. Но большинство недооценило настойчивость прибалтов, в частности Ландсбергиса с его бульдожьей хваткой. Этот литовский профессор музыки в ходе нескольких заседаний доказал, что фальсификаторством занимается не Запад, а министерство иностранных дел СССР. Руководство страны продолжало упорно отстаивать свой обман, что некоторое время спустя привело к кровавым столкновениям в[417] Вильнюсе, Риге, да и в Закавказье. Пролилась кровь, о чем сурово предупреждал Горбачева неукротимый Алесь Адамович, который из активного сторонника Михаила Сергеевича превратился в его противника. Впрочем, как и вся межрегиональная депутатская группа Афанасьева – Попова.
В перерыве между заседаниями мне довелось встретиться и побеседовать с Андреем Сахаровым. Это произошло в буфете. К стойке буфета выстроилась длинная очередь депутатов, в которой стоял и я. В дверях появился Сахаров и явно растерялся, увидев такую большую очередь, не знал, куда ему стать. Большинство стоявших в очереди депутатов относились к нему враждебно, еще час назад они пытались согнать его с трибуны. Я подошел к Сахарову, предложил ему свое место. Он поблагодарил, но в очередь не стал. Мы отошли в сторонку, заговорили. Андрей Дмитриевич сказал, что читал мои книги и хотя сам в войне не участвовал, не сомневается в их достоверности, потому что доверяет реакции на них такой читательницы, как Елена Бонэр, его жена – она фронтовичка, была тяжело ранена. Что касается моральной ценности книг, то она бесспорна. Я рассказал академику историю о том, как от писателей добивались подписей под письмом против его и Солженицына, сказал, что поддерживаю его сегодняшнее выступление о преступлениях советских войск в Афганистане, – в том выступлении Сахаров привел эпизод, когда советские летчики пытались разбомбить своих, чтобы те не попали в плен. Это вызвало бурю протеста в зале, ветеран-инвалид выступил с гневной отповедью, дескать такого факта не было, потому что не могло быть никогда.
Это был мой первый и последний разговор с этим человеком. Ночью Сахаров скоропостижно скончался в своей квартире, а через два дня депутаты ехали автобусами его хоронить. Я оказался в автобусе, в который села группа генералов и маршал Ахрамеев. Словно забыв, что едут на похороны, генералы вели себя довольно оживленно, маршал шутил. Кто мог тогда предвидеть, что пройдет немного времени и маршал Ахрамеев повесится в собственном кабинете? Такие вот две смерти. Уровняют ли они покойных?[418] В зале заседаний среди белорусской делегации съезда народных депутатов возник конфликт, причиной которого был и я. Потребовалось провести довыборы депутатов в состав Верховного Совета. Демократически настроенная часть белорусской делегации стремилась провести кого-либо из своих – Шушкевича или Добровольского. Но делом озаботился Е. Соколов, он провел голосование по «упрощенной» схеме – в зале, с мест, поднятием руки. Подсчет голосов поручил гэбисту Балуеву. Я сразу поднял руку против всех остальных, но, конечно, остался в проигрыше, выбрали коммунистов. Тут я не сдержался и, очевидно, чрезмерно резко, а то и оскорбительно отбрил Соколова. Ленинградский следователь Иванов, который сидел неподалеку и наблюдал эту сцену, сказал мне: «Смело вы, однако!» Может, и смело, но по-дурацки и без пользы, всё равно ничего не добился. А главное, себе во вред, – наглотался потом таблеток…
На заседания комиссии, в которую меня ввели, я не ездил. Присылали повестку – специальный курьер стучал в дверь ночью, часа в четыре, вручал конверт, требовал расписаться в получении, после чего я ту бумажку выбрасывал в мусорную корзину. Но однажды на очередном съезде в конце дневного заседания пришлось принять участие в работе комиссии. Она заседала в роскошном зале Кремлевского дворца. Я пришел с опозданием, но лучше бы не приходил вовсе. Это был ужас, которого еще не бывало. Во всяком случае в зале заседаний съезда народных депутатов. Заседание комиссии вел ее председатель, товарищ в штатском, но я знал, что он – генерал-полковник. Остальные члены комиссии тоже были генералы – вооруженных сил и КГБ, а еще – цековцы и республиканские партийные лидеры. Страсти были накалены, лица у всех присутствующих раскраснелись. Очередной оратор доказывал, что политика Горбачева – предательская, что он препятствует достройке «авианесущих крейсеров, позарез необходимых армии и флоту». Оратора поддерживали репликами с мест. Затем начались прения, в ходе которых все выступавшие тоже говорили о предательстве Горбачева, который «продал Россию и гробит партию». Потом стали обсуждать «гнусный поклёп» журналиста Коротича,[419] который «написал в своем журнале „Огонёк“, будто в Советской Армии существует какая-то дедовщина». Преклонных лет полковник чуть не плакал от обиды за «нашу рабоче-крестьянскую армию, победившую злейшего врага – немецкий фашизм, которая…» И так далее, и так далее… Его дружно поддерживали. Прозвучало предложение вызвать на сессию Коротича и «пропесочить его, чтобы десятому заказал, как клеветать на доблестную рабоче-крестьянскую…» Я больше не мог терпеть всё это и вышел.
В дальнейшем я в комиссию не являлся. Я не хотел иметь ничего общего с преступной политикой очевидного коммунистического реванша, который задолго до известного путча обнаруживал себя, готовился теми, кто оказался перед лицом реальной угрозы потерять свою безраздельную власть. Я понимал Адамовича, который вместе с другими интеллигентами осуждал Горбачева, но я не мог не посочувствовать Михаилу Сергеевичу.
Горбачев оказался в зверинце, который сам же по недомыслию или намеренно раздразнил и, видно, уже не знал, как с ним справиться.
Рыгор Бородулин, как всегда переполненный разными (не только поэтическими) идеями, задумал сделать фильм о моей «малой родине». Когда всё было согласовано с киностудией «Беларусьфильм», мы на микроавтобусе студии поехали в Ушачи.
Дорога через Плещеницы и Бегомль была мне издавна знакома, я любил подступавшие к ней сосновые боры и холмы, тенистый лесной проселок через Березинский заповедник. Пожалуй, дорога и была самым приятным в том путешествии, потому что остальное… Остальное было слишком живо связано с тяжелыми воспоминаниями детства, угнетало картинами отмирания и запустения памятных околиц. Это бередило душу, изматывало нервы. Всё, что для других, сторонних, было деталью, фоном будущего фильма, для меня было болью. И я, может, не согласился бы на всю эту затею,[420] если бы хитрец Рыгор не поманил меня любимым моим озерцом. Запланированы были съемки на озере, и я поехал.
По дороге заехали в Волчу за моей сестрой Валей, которая уже знала о приезде киношников и ждала нас. Валя вышла замуж в Волчу за колхозного механизатора Шурку, неплохого, в общем, человека, у которого, однако, был один недостаток – всё тот же… Детей у них не было, и сестричка достаточно натерпелась в своем браке с Шуркой-Сашкой, который из-за своего известного недостатка-пристрастия умер совсем еще не старым. Вдовица осталась одна в хате, с котом и огородом, только им и занималась с первых вешних дней до поздней осени. С огорода и жила.
Посадили Валю в автобус и поехали в Бычки. Наш двор зарос репейником и крапивой, сиротливо выглядела заколоченная родная хата. Помню, как ее строили, помню ее новой, помню, как радовала она отца и маму, и нас, детей.
Но прошло не так уж много времени, и хата скособочилась, вросла чуть не по самые окна в землю и стоит с продырявленной крышей и сгнившим крылечком. Осталась только одна радость – два посаженных отцом дерева, дуб и клен, которые с каждым годом становятся всё выше и вознеслись высоко над хатой.
На крыльце хаты киношники заставили меня принимать необходимые им позы, отвечать на вопросы, которые задавал, оставаясь человеком «за кадром», редактор и режиссер фильма Володя Халип. Затем поехали на озеро, съехать к которому по холмистому спуску было немалым риском. Но как-то съехали. А там на удобном пригорочке, который я любил с детства, развели костерок, стали ладить возле него ученый разговор. Очень я не любил эти постановочные разговоры, когда надо демонстрировать свое глубокомыслие или лирическое состояние души. И то и другое, по-моему, лучше держать при себе, а если уж доверять, то бумаге. Сестрица сидела рядом и слушала, дивясь киношной «премудрости», переживая за наше с ней общее прошлое. Когда всё закончили, Володя Халип бухнулся в озеро и, к моему восхищению, переплыл его туда и обратно без отдыха. Такое я видел впервые.[421] Никто так бесстрашно не переплывал наше озеро: может, не было настоящих пловцов, а может, пугала глубина. Старики говорили, что озеро очень глубокое. Впрочем, ничего удивительного: Володя вырос на озере. На своем.
Вернулись в деревню, и, пока мой брат Микола со своей женой Тоней готовили угощение, я прошелся по безлюдной, заросшей травой улице. Родная моя, бедная и несчастная вёсочка, она доживала свои последние дни. Только в двух соседних хатах еще обретались люди, остальные были заколочены, да и тех осталось несколько. Зияла разбитыми окнами хата Головачей, куда я некогда любил приходить к Володе Головачу, не стало хаты дядьки Василя, хаты умершего от чахотки богатыря Куца. Но увидел и справное хозяйство – неплохо обосновался на своем подворье младший брат моего друга Коли, Семён, заботливый и работящий крестьянин. В хате Миши, который долгое время был директором школы, жила-доживала свой век его вдовая сестра, дочь которой убило молнией. В соседнем селе обитаемых хат было побольше, но я уже забыл имена их хозяев. Помню только Василя Паршенка, киномеханика, который жил за сельским кладбищем.
Окрестности тоже изменились. В мой любимый зеленый овраг было не пробраться, настолько он зарос олешником; исчезла, став ненужной людям, и наша криничка. Кустарник и олешники всё больше завоевывали, былые деревенские угодья подступали к самым огородам. Наглухо позарастали полевые дорожки, а те, что остались, были беспощадно изувечены огромными колесами и стальными гусеницами автотракторной техники. Хорошо, что в свои депутатские годы я добился, чтобы заасфальтировали главную дорогу. Но военные не дали заасфальтировать ответвление с магистральной дороги на Кубличи: там у них начиналась маневровая авторакетная трасса, которую надо было прятать от НАТО. Теперь нет ни трассы, ни ракет, но нет и человеческой дороги.
Мой брат Микола, который прожил тут всю жизнь, работая в колхозе, дождался, наконец, пенсии, чему был несказанно рад. Никто его больше не гнал на принудительную работу, можно было поковыряться на подворье, возле хаты, что[422] брат очень любил. Плёл из проволоки сетки для ограды, в соседних кустарниках заготавливал дрова. В хлеву похрюкивал кабанчик, паслась неподалеку коровенка. Пенсия была маленькая, но платили ее регулярно, хлеб раз в неделю привозила автолавка. Что еще нужно? Такой жизни никогда не было в деревне, и пенсионерам казалось, что они наконец дожили до коммунизма, который обещали большевики. Было бы только здоровье. Но как раз здоровья-то и не хватало, здоровье без остатка отняла колхозная барщина. Не долго радовался своей вольной жизни на пенсии и мой Микола…
Да, наступила пора утрат, всё ближе подступал час вечной разлуки. Меньше и меньше оставалось родственников, друзей и даже знакомых. Рыгор и вовсе остался один – последними ушли его тетушка, ласковая и хлебосольная (стоящий мужчина или нестоящий, она определяла по извечной крестьянской шкале: едок – не едок. Не знаю, как Рыгор, а я у нее оказался в числе неедоков), за ней ушел дядька Петрок, последний из Гришиной родни, не очень старательный сторож Гришиного отчего дома в Ушачах, в котором чуть ли не каждую зиму хозяйничали местные ворюги.
В одну из моих последних поездок на родину родилась идея-сюжет повести «Облава».
Знакомый из Кублич рассказал мне о случае, который произошел в 30-е годы, когда у нас проводилась коллективизация – раскулачивание, высылки, аресты. Некий крестьянин был сослан с семьей под Архангельск, там настрадался, похоронил жену и малолетнюю дочку и решал бежать домой. Удивительно, но это ему удалось. Со многими приключениями-испытаниями, одолев тысячу километров, он добрался до родной усадьбы и сладко в одиночестве поплакал. Но на том и кончилось счастье возвращения. В дороге его никто не знал, а тут узнал первый же повстречавшийся на рассвете сосед. И к исходу дня за ним стали охотиться, устроили облаву, в которой (вот драма!) вынужден был принять участие его сын, который в свое время отрекся от отца и вступил в партию. Отец утопился в болоте. И с чем же остался жить его сын? Не с тем ли, что всю жизнь носил в себе Александр Твардовский? Это ведь он оказался в подобной[423] ситуации, когда однажды в Смоленске, где Твардовский, тогда молодой поэт, жил и работал в редакции газеты, к нему в редакцию пришел его отец, бежавший из ссылки. И сын сказал ему: «Возвращался бы ты лучше туда, откуда пришел…» Люди нового времени вряд ли поймут всю глубину истоков пожизненной драмы прославленного поэта и его несчастного отца.
Ночью, по дороге в Минск, сидя в микроавтобусе меж умаянных съемками и дорогой киношников, я всё время думал о том давнем случае. А вернувшись домой быстро написал «Облаву».
Зенон Позняк стремился утвердить в БНФ строгую партийную дисциплину, учет и всё прочее, присущее постоянно действующей политической организации. Нельзя было более двух раз пропустить заседания сойма, на всех членов БНФ завели учетные карточки. Это, наверное, было необходимо, потому что министерство юстиции строго следило за соблюдением формальностей, чтобы, чуть что не так, придраться и запретить Фронт. Оформления его структуры и признания прав Позняк добился при яростном сопротивлении властей, а оно было яростным даже в относительно либеральные времена Шушкевича.
Конечно, суровый ригоризм Позняка нравился далеко не всем фронтовцам. Несомненно, честные и умные хлопцы, в большинстве интеллигенты, собравшись вместе, нередко заявляли о несогласии с лидером. Это несогласие касалось в основном тактики; стратегия ни у кого не вызывала сомнения, потому что стратегией была сама Беларусь, которой все они были преданы. Я любил и уважал их всех – всегда философски-рассудительно настроенного Юрия Ходыко, весельчака Валентина Голубева, неугомонного Вячеслава Сивчика, красноречивого Винцука Вечерку, по-деловому сосредоточенного Сергея Наумчика. Несколько позже к ним присоединился очень интеллигентный парень Лявон Борщевский. Славные были возле них и девчата, хотя, в силу женского характера,[424] не всегда ладившие одна с другой. Но все рассудительные и образованные.







