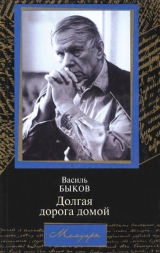
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В сравнении с казармой, пребывание подразделений на местности имело ряд преимуществ. Во-первых, относительная изолированность от начальства. Во-вторых, скрытность боевых порядков – никто не знает, чем мы тут занимаемся. Можно было иногда даже покемарить, что и делали солдаты, выставив, однако, зоркую стражу. А еще можно было всласть порыбачить, особенно во время нереста кеты или горбуши.
Под осень и зимой остров содрогался от землетрясений. Трещали по всем швам дома, но не разрушались, потому что построены были из досок, – трещали, скрипели да сажа сыпалась из жестяных труб печек. Случалось, трубы трескались в тот момент, когда печь топилась, и тогда возникали пожары.
Однажды я шел по улице в самом начале землетрясения, а когда земля задрожала сильнее – побежал, и тут улица передо мной треснула во всю ширину, я едва успел перепрыгнуть через разлом. А осенью 1952 года произошло и вовсе невиданное: речка, которая протекала через поселок и впадала в залив, вдруг потекла вспять, вздыбилась под напором волны со стороны залива. Залило луга, подтопило садовые домики. Через несколько дней мы узнали, что случилось с речкой – вспять ее повернула волна цунами, которая примчалась с севера, от берегов острова Парамушир, где был эпицентр сильного подводного землетрясения. Дня два спустя речка снова стала течь в море.
Дважды в год, весной и осенью, мы были свидетелями незабываемого зрелища – ход бесчисленных косяков рыбы на нерест, в пресноводные речушки на острове. Толпы, иначе не скажешь, рыб кишели сплошной массой, извивались на преградах из камней, преодолевали их на брюхе. Метровые рыбины можно было брать руками, глушить палками, ловить проволочными силками. Рыбой объедались. Но главной поживой была икра, которую можно было назапасать ведрами. Да никто не думал о запасе – выпотрошил рыбину, съел икру, и всё. Выпотрошенные рыбины все лето валялись на берегах островных речек и ручьев, гнили, смердели.[156]
Это я наблюдал в первое лето моей службы на Кунашире, а через три года, когда я прощался с островом, рыбы не стало. Ни кеты, ни горбуши.
В зимнюю пору, вернее, на исходе зимы, когда лед в заливе начинал трескаться, рыбаки тешили душу ловлей корюшки. В расщелинах льда вода кишела этими маленькими, юркими рыбешками, для ловли которых не требовалось никакой приманки. Достаточно было сделать крючок из кусочка проволоки и опустить его в трещину – рыбки хватали голый крючок, лишь успевай вытаскивать их на лед. За час можно было наловить целое ведро. Жареная корюшка была вкуснее любой другой морской рыбы. Жаль, что мне ловить ее не довелось – у меня не было времени, и я лишь смотрел, как ее ловят, сидя в своем НП на обрыве.
Читал я на Курилах мало, разве что газеты, которые доставляли на Кунашир раз в месяц. Это летом. А зимой, когда кончалась навигация, ничего не привозили. Даже водку. Свое радио слушать было скучно, а западные радиостанции заглушались. Неподалеку от моей батареи за околицей Головнино торчали антенны службы радиоперехвата, там круглые сутки дежурили офицеры КГБ. Но кое-какие книжные новинки на Кунашир попадали. Из того, что прочел, хорошее впечатление произвела повесть Э. Казакевича «Двое в степи». Это были страницы редчайшей в те годы правды о недавней войне. Но вскоре повесть стали громить в литературной и партийной прессе, как и статью Померанцева «Об искренности в литературе». Эта статья очень мне понравилась, но, прочитав разгромную критику на нее, такую же лживую, как критика повести Казакевича, я понял, что правды и искренности в литературе ждать придется долго. Литературный погром, начатый в 1946 году избиением Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, продолжался. И конца этому погрому пока не было. И у меня начисто пропала охота писать. После тех трех рассказов, которые отправил в Минск на имя Михася Лынькова, не написал ни строчки.
Зимой 53-го года, как раз в день Советской Армии, у меня родился сынок Сережка. Быть ему генералом, шутили друзья, – недаром в такой знаменательный день родился.[157]
Генералом он не стал, зато, слава Богу, выжил в лютые кунаширские холода, лежа в постельке возле железной печурки, для которой вечно не хватало дров. Закалился в японском климате. Жена работала в школе, и наш малыш, когда немножко подрос, воспитывался в компании с котом – огромным пушистым созданием, привязанность которого к малышу стала нас беспокоить. Кот спасал ребенка от стужи, согревал его своим телом, но ведь мог и придушить случайно, такой был огромный котище! Я попытался было от него избавиться, но ничего не вышло – характера не хватило…
В конце осени я получил приказ отправиться на Сахалин на офицерскую учебу. Жена, сын и кот остались на Кунашире.
На небольшом военном корабле я в компании еще нескольких офицеров добирался до Сахалина по штормящему Охотскому морю. Нас, сухопутников, буквально наизнанку выворачивала морская болезнь. Валялись мы в тесном смрадном отсеке, из последних сил держась за какие-то трубы – качка была ужасная, швыряло из стороны в сторону беспощадно. Всю ночь на верхней палубе стоял крик матросов, брань командиров, раздавались какие-то непонятные нам команды – экипаж сражался за живучесть судна. Когда пришли в Корсаков, убедились, что должны быть благодарны команде корабля: он запросто мог затонуть, столько льда намерзло на верхней палубе, на снастях и мачтах. Как мы не перевернулись вверх килем, одному Богу известно. И матросам.
К началу занятий я, разумеется, опоздал – занятия шли уже месяц в военном городке Южно-Сахалинска. В классе меня посадили за последний стол, на «Камчатке», где до меня сидел какой-то Баранов. Поэтому наш преподаватель подполковник Емельянов долго называл меня Барановым, по привычке. Я не обижался. В конце концов, между быком и бараном разница не столь велика!..[158]
На тех сахалински курсах мне пришлось серьезно овладевать математикой: в средней школе я ее «недобрал». А без знания математики в артиллерии делать нечего. Потянулись недели и месяцы сидения над учебниками, изучение логарифмических вычислений, теории вероятностей. Практические занятия – артиллерийские стрельбы – в полном объеме. Вычисление данных и стрельба по наземным и морским целям. Сперва это отрабатывалось в классах, на макетах, а затем, к весне, на полигоне. Незаметно эта наука меня захватила, а я захватившему меня делу, задаче отдаюсь полностью.
Там, на Сахалине, я узнал подробности землетрясения в районе острова Парамушир и вызванного этим землетрясением цунами, волны которого докатились до Головнино и повернули вспять речку. Но если мы в Головнино отделались лишь небольшим наводнением, то на Парамушире цунами двумя ударами смыло поселок и с ним танково-самоходный полк. Самоходки расшвыряло по берегу, сотни людей оказались в ледяной воде и погибли от переохлаждения, хотя многие долго держались на плаву, ухватившись за какое-нибудь бревно или ящик, и их можно было спасти. На помощь людям в район бедствия отправились американские военные баржи, но из Москвы на Парамушир поступила радиограмма: от помощи американцев отказаться. Очевидно, Москва сочла американскую помощь позором для себя – смерть предпочтительнее… Я не помню, чтобы кто-нибудь из офицеров одобрил этот чудовищный приказ. Но правда и то, что все промолчали…
Один офицер-дальневосточник рассказывал, как жила армия на Дальнем Востоке в годы войны. Голодали (впрочем, а где не голодали?), обмундирование и обувь не выдавались. Солдаты драли лыко и плели лапти. Зато дисциплина была свирепая, о чем заботились бравые тыловые генералы. Командовал армией генерал Апанасенко, с которым у офицера-рассказчика произошел поучительный случай. У этого офицера лежала в роддоме жена, и он отправился ее навестить. А роддом в поселке, в 20-ти километрах от части. Идет[159] он по грязи, под дождем (дело было осенью), как вдруг рядом с ним тормозит «виллис». В «виллисе» – генерал Апанасенко. Спрашивает: «Куда идете?» – «В поселок, товарищ генерал!» – «По какой надобности?» – «Жена рожает». – «Почему пешком? Что, машины нет в части?» – «Не дали, товарищ генерал. Горючего в обрез». – «Ну, садитесь». Сел он в «виллис», но шофер почему-то не едет, чего-то ждет. И тут генерал поворачивается к офицеру и говорит: «Ты что, размазня, не знаешь, что если тебя приглашает генерал, ты должен поблагодарить и отказаться! Субординацию забыл? Вон из машины!» Выскочил офицер из машины как ошпаренный, а «виллис» газанул и умчался. Такие вот советские понятия о субординации!..
Учеба захватила меня по-настоящему, в чем немалая заслуга подполковника Емельянова, он умел увлечь людей премудростями математики, да и сам был ею увлечен. Пытался даже вместе с нами доказать знаменитую теорему Ферма (a3 + b3 = c3), которую триста лет никто не мог доказать. Однако учили не только математике применительно к артиллерийскому делу, мы изучали уйму других предметов, в том числе «науку наук» – марксизм-ленинизм. Не фундаментально, правда, в рамках политучебы.
Жили в казармах, где были двухъярусные кровати и было холодно – казарма была огромная. Распорядок дня железный, начальник – звероватый майор. Особенно донимали утренние физзарядки в любую погоду. Даже в метель и дождь. Ну и, конечно же, марширование в строю: на занятия, с занятий, в столовую, в клуб. Нас злорадно вернули в нашу юность, когда мы были курсантами военных училищ, напомнили бессмертные традиции прусско-российской муштры.
Одно событие того времени запомнилось мне навсегда. Был серый мартовский день, казалось, обычный. Но вот в класс вошел подполковник Емельянов и явно деланным трагическим голосом объявил, что час назад умер великий Сталин. Все встали, постояли минуту с окаменевшими лицами, а я подумал: «Слава тебе, Господи! Может, хоть теперь что-нибудь изменится к лучшему!»
К сожалению, изменилось немногое.[160]
Бериевская амнистия, объявленная вскоре, наполнила дальневосточные города и поселки массой бандитов, убийц, воров, которые были отпущены на свободу в первую очередь. Политических выпускали с большим разбором – они были «социально-чуждые», а ворье и бандиты – «социально-близкие». И эти «социально-близкие» дружно взялись за привычное дело: до весны в город нельзя было сунуть носа. На каждом шагу грабили и убивали. Даже офицеров. А пропаганда в стране, и наша политучеба в частности, были нацелены на противостояние англо-американскому империализму. Продолжалось укрепление обороны Курил, на острова прибывали всё новые войска, военная техника и снаряжение. Вся береговая линия островов была охвачена пограничной службой, создали сложную систему радиопеленгации и радиоглушения. Ни по «Голосу Америки», ни по Би-би-си, ни по «Свободе» невозможно было разобрать ни слова – всё заглушал вой глушилок. Вся эта обстановка сказывалась на настроении офицеров, и настроение это было далеко от оптимизма. Хотя все на что-то надеялись… Ни одного своего товарища по курсам я не видел плачущим из-за того, что умер Сталин. Люди затаенно молчали.
Тем временем подоспел выпуск. По всем предметам у меня были пятерки, и я получил диплом с отличием. Только какая из этого польза?
Зачем было тратить время и силы на что, что нельзя реализовать? То, чему меня научили на курсах, реализовать можно лишь на войне. Но война для нас кончилась, навоевались!.. И не похоже ли то, чему мы учились, на размахивание кулаками после жестокой драки? Впрочем, лучше махать кулаками, чем проливать кровь… Но мне-то это зачем? Я ведь совсем не собирался оставаться в армии, делать военную карьеру, я жил мечтой вырваться из этой дальней дали на родину. И на Сахалин поехал с той же целью: думал, это приблизит меня к дому – добросовестно отбуду учебу и получу назначение в родные края. Оказалось, дорога домой стала еще длиннее… Другие офицеры получили новые назначения, некоторые с повышением. Я же возвращался на прежнее место службы.[161]
На Кунашире узнал новость: полк расформировывается. Многие офицеры уезжают на материк, многие ждут своей очереди и уже пакуют чемоданы. Что ждет меня, пока неизвестно… А ждало меня вот что.
В глубине острова стали строить аэродром для реактивных истребителей-бомбардировщиков. Глубокомысленный план Генштаба – построить военный аэродром максимально близко от потенциального противника, нависнуть над японским островом Хоккайдо. А как этот аэродром построить, если на Кунашире не найти и ста метров ровной площади? Ах, нет? Так создайте! И вот приказ – срыть вершины двух сопок и засыпать землей этих вершин седловину между сопками. Получится площадка. Но сперва надо вырубить лес, проложить дорогу. А техники никакой. Зато есть солдатские руки – безотказные и бесплатные. Они всё могут. Главное – поднажать. А как известно, приказ начальника – закон для подчиненных.
С приказом генералы не замедлили, и через два дня после своего возвращения в Головнино я уже был на тех сопках, где офицеры-строители объяснили мне, что и как следует делать. Сами они завтра уезжают на материк. Под моим руководством остаются два десятка солдат, с виду больше похожих на бродяг, одетых в рваные, замызганные спецовки. Первый же их вопрос ко мне: когда нас демобилизуют? Пошел уже шестой год, как они служат, а Москва, похоже, о них забыла. Но как к ним относятся, так и они будут относиться к делу. Наступает утро – на работу никто не выходит. Спят до обеда. Истребители, говорят, пусть подождут. Им и под Владивостоком неплохо.
А мне что делать? Через два дня должна приехать комиссия из округа – что я ей покажу? Разрытую землю да штабеля металлических полос, которыми должна быть выстлана площадка? Впрочем, как будет, так будет!..
Комиссия приехала, поглядела, записала что-то в свои блокноты и отбыла. А я остался со своими разозленными строителями. Уговоров работать, как должно, они не слушали. По-прежнему сачковали…[162]
Приехал командир полка, сказал, что он демобилизуется, его обязанности возлагаются на начальника штаба. Через некоторое время начальник штаба звонит мне по полевой связи и сообщает, что в полку ЧП: обворовали кассу финчасти. В воровстве подозревают одного из моих солдат-строителей. Поэтому я должен срочно явиться в гарнизон. Приехал – там большой «шмон», ищут вора. Если не найдут, начет наложат на командира полка и на командира батареи, то есть на меня. Нашли богача! Я сказал, что раз так, на аэродром больше не вернусь!..
Офицеры тем временем разъезжались на новые места службы. На меня же никакого приказа не было. Я терпеливо ждал. И дождался, узнал, что на днях отходит последний пароход, навигация закрывается. На полгода! Пошел к начальнику штаба: «Что мне делать?» Тот говорит: «Решайте сами. Вам тут оставаться нельзя, полка больше нет». Полка и впрямь нет – поселок опустел. Но и приказа на меня нет! Уехать самовольно? Без приказа? Да черт с ним с приказом!
С боем, без документов на отбытие прорвался с женой и сыном на тот последний пароход. Вновь, как и по дороге сюда – поздняя осень, на море бушует шторм. Все пассажиры лежат вповалку – морская болезнь. Только мой двухлетний сынишка не боится качки, шляется по коридорам парохода и у всех просит колбасы. Очень любил колбасу…
Во Владивостоке – снова Вторая Речка, казармы с двухъярусными нарами, где спят все – и мужчины, и женщины, и дети. Тысячи, если не десятки тысяч офицеров, сорванные с прежних мест службы, маются, ждут, когда выяснится, куда кому надлежит отправиться. Ждали, наверное, месяц. За это время мой Сережка побывал в больнице с ангиной, хотя думали, что дифтерит.
Когда дошла очередь до выяснения моей судьбы, кадровики очень удивились: «Лейтенант Быков? Так он же еще весной получил назначение на Сахалин, в гаубичный артполк! Почему он не на Сахалине?» «А кто мне сообщил об этом назначении?» – думал я, едва сдерживая безмолвное возмущение. Возмущаться вслух было невозможно. Себе дороже.[163]
И вновь – почти уже зимнее море, шторм, шквальный ветер. Ужасная, изматывающая ночь до самого Корсаковского порта.
Гаубичный полк стоял в лесу за Долинском. Как-то туда добрался. Дали квартиру – подселили к помполиту полка. Общая кухня, тесная комнатенка, разумеется, холодная… Не успел принять дела в батарее, как получаю новый приказ: ехать с командой моих батарейцев на отгрузку и охрану древесины. Один из интендантов части сказал мне: «Смотри, лейтенант, там дело нечистое. Дрова пропили, разворовали, а теперь, когда всё замело снегом, хотят выдать как целехонькое. Как бы не довелось тебе платить…»
Опять платить! Как всегда – в 12-кратном размере. Не успел приехать и уже подставляют! Конечно, кого же подставлять, если не чужого! Новичка! И я назавтра сказал: «Не поеду!» – «Как это не поедешь?» И впрямь диво: офицер отказывается выполнить приказ. «Так ведь – гауптвахта!» – «Хорошо, пойду на гауптвахту!» И пошел на десять суток. Сам командир дивизии мне их назначил.
Взял с собой на отсидку толстую книгу («Угрюм-река» Шишкова). И вспомнилось, как отбывал гауптвахту в Николаевке. Нет, здесь, в Долинске, немного иначе. Здесь либерализм. Сиди, полеживай, читай… Вечером заглянет кто-нибудь из знакомых офицеров, побывавших здесь некогда под арестом, принесет бутылочку и рыбца на закусь. Угощаемся. Да еще начальника караула угостим. Нет, армия наша явно преображается. Еще совсем недавно такое было немыслимо.
Отсидел все десять суток, выпустили поздним вечером. Вышел на улицу – снежок падает, а радио в клубе громко, так, что слышно на весь поселок, передает сообщение, что состоялся суд над изменником родины, агентом нескольких иностранных разведок, подлым заговорщиком и провокатором Лаврентием Берия. Суд применил к нему высшую меру социальной защиты – расстрел, и приговор уже приведен в исполнение. Это было для меня как бальзам на сердце – хоть одним из этих стало меньше.
Вернулся в полк почти уверенный, что уж теперь меня не пошлют «на дрова». Наивный человек, забыл, с кем имею[164] дело, – с начальством, которое всё равно своего добьется. Училось этому на протяжении всей своей службы… Через пару дней вынужден был отправиться в окрестности шахтерского поселка, который был моим тезкой – он назывался Быков!.. Недалеко от Быкова и валили лес на дрова. И вот сижу вечером в жарко натопленной подсобке со своим новым помощником, старшиной Гузом, и Гуз меня успокаивает: ни полена дров здесь не пропито и не украдено. Потому что нечего было пропивать, нечего красть. Летом заготовщики подавали начальству дутые цифры: мол, заготовлено столько-то кубометров дров, а их в помине нету. Сугробы снега, и только. Отлегло на душе. Думал, что придется платить за недостачу…
Слава Богу, недостачи не было, поскольку заготовленные дрова оказались фикцией. Но фикцией не отопишься, и я получил железный приказ: заготовить необходимое количество дров и доставить в гарнизон.
Лес валили на склоне горы, возвышавшейся за дальней околицей поселка Быков. Для вывозки бревен мне дали полуразбитую полуторку, которая то и дело ломалась. Сперва бревна сволакивали с горы к проложенной в снегу временной дороге, там грузили на полуторку и на ней через огромную седловину везли за 20 километров на железнодорожную станцию, где бревна перегружали на платформы. И так всю зиму того злополучного года. А весной, как только сошел снег, в тайге начались пожары.
Страшная это вещь, лесной пожар! Мы гасили их сутками напролет, без всяких там пожарных причиндалов – подручными средствами, коими были лопаты и собственные ноги. Затаптывали огонь до изнеможения. Но несмотря на все наши старания пожары метались по всей тайге, уничтожая тысячи гектаров ценных хвойных пород. Когда наступает трескучая лавина огня, от нее убегает все живое – зайцы, лисицы, барсуки, медведи. Все вместе. Ни один зверь не нападает на другого и, что любопытно, ни один не боится человека. Напротив, в человеке видят защиту, ждут от него помощи. И мы помогали зверям, гнали в более-менее безопасное место. Один молодой медведь прибился к нашей[165] лесной стоянке, где пахло свиной тушенкой и кашей, и с неделю жил рядом с нами.
Летом, когда надобность в дровах отпала, я вернулся на батарею.
Тут была другая напряженка – форсировали боевую подготовку, потому что ожидалась проверка боеспособности дивизии какой-то комиссией министерства обороны. Солдат и младших командиров это мало волновало, всяческих комиссий всегда было хоть отбавляй, но высокое начальство перед комиссиями из Москвы паниковало и до их приезда создавало свои комиссии, дабы упредить московских проверяющих. Армия, таким образом, управлялась бесконечными комиссиями и бесконечными совещаниями после них, где «накручивали хвосты». Только наш новый командир дивизиона подполковник Дятлов, в отличие от других старших офицеров, всегда был спокоен, не боялся никаких комиссий. Этот влюбленный в артиллерию офицер, неплохой математик, по наивности думал, что главное – научить нас мастерски стрелять из наших гаубиц, а не марафет наводить в расположении части, траву выпалывать да соринки подбирать в страхе перед комиссией. Поначалу это ему удавалось. Из недели в неделю он настойчиво делал из нас, комбатов, профессионалов, мастеров меткого огня. Мы, трое его подчиненных, неплохо провели самые трудные и сложные батарейные стрельбы по морским целям. Успешно провел стрельбы и весь дивизион. Комдив мог быть доволен и даже рассчитывать на поощрение со стороны начальства. Но, как известно, дьявол в армии никогда не спит, он всегда на бессменном дежурстве.
Подстерег дьявол и наш дивизион – в одну недобрую ночь загорелась казарма. Поскольку она, как почти все строения в тех краях, была деревянная, то к утру и сгорела дотла. Люди не пострадали, но сгорело много оружия, техники, различного военного имущества. Во время пожара, когда уже работали пожарники, в пылающей казарме стали взрываться снаряды, завизжали осколки. Как потом выяснилось,[166] снаряды эти были припрятаны старшинами в каптерках, чтобы всякий раз перед имитационными стрельбами не бегать за боезарядом на склад.
До сих пор удивляюсь, как это Дятдов не потерял из-за того пожара погоны. Да и мы вместе с ним. Отыгрались на немолодом уже командире полка – отправили на пенсию. Должно быть, это спасло остальных офицеров. Что до меня, то я в очередной раз подал рапорт на демобилизацию. Поскольку все мои предыдущие рапорты на сей счет были безрезультатными, то я обратился к министру обороны маршалу Малиновскому, который был депутатом Верховного Совета СССР от нашего округа. Это давало мне право как избирателю на личное обращение к министру. Долго не было никакого ответа, и я подумал было, что мой рапорт до маршала не дошел. Как вдруг ранним январским утром мне позвонили из Долинска и сказали, чтобы я немедленно явился в штаб дивизии. Единственную пешую дорогу в Долинск замело метелью, и я пошел по железнодорожным шпалам. Мороз был градусов под 30, а вдобавок ветер дул в лицо. Но я упрямо Шагал, радуясь, что, должно быть, наконец, наш депутат уволит меня из опостылевшей мне армии, которая уже превратилась в вечное мое проклятие. Замерзший, с наледью на бровях и ресницах, отыскал нужный мне кабинетик штаба, вошел, доложил. Молодой франтоватый офицер-кадровик покопался в лежавших перед ним на столе бумагах, нашел искомую, поднял на меня равнодушный взгляд: «Вы обращались к министру обороны, маршалу Советского Союза, депутату Верховного Совета Союза СССР товарищу Малиновскому?» – «Да, обращался». – «Получен ответ. Зачитываю: „Согласно Конституции СССР служба в Вооруженных Силах является священной обязанностью каждого советского гражданина. Разъяснить товарищу Быкову В. В., что он, как гражданин Советского Союза, обязан целиком и полностью исполнять требование Конституции. Подписано: министр обороны СССР, маршал Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР Р. Малиновский“. Вам все понятно?» – «Понятно…» – «Распишитесь вот здесь, что ознакомились с ответом».[167]
Пришибленный, подавленный вернулся в свой таежный поселок. Окончательно стало ясно, что по-хорошему из армии не вырваться. Оставался один выход – скандал. Но для этого нужно обладать соответствующим характером, без мягкотелости, как у меня. При этом, провоцируя скандал, необходимо не переборщить, а то вместо демобилизации загремишь под трибунал. Как один мой давний дружок Лешка Климов, который, напившись, натравил на начальника штаба свою овчарку. И получил срок. Из одной неволи угодил в другую, еще худшую.
О своем рапорте на имя Малиновского я рассказал одному из сослуживцев. И он, выслушав, рассмеялся: «Чудак-человек, к кому ты вздумал обращаться! Что мы министру? Станет он вникать в наши судьбы! Вот, послушай, как со мной было. Я в армии с войны, а всё еще командир техроты. Приехал как-то сюда Малиновский с инспекцией, собрал офицеров – какие жалобы? Ну я и сказал: очередное звание не присваивают, 15 лет в капитанах хожу. Он говорит своему адъютанту: запиши. Тот записал. Жду. Осенью приказ о присвоении очередных званий. Параграф первый: звание полковника присвоить… Параграф второй: звание подполковника присвоить… В параграфе третьем перечислили тех, кому присваивалось звание майора. Меня в этом списке не было… И вдруг слышу: присвоить звание капитана, командиру технической роты Степаненко, то есть мне! Я встал, плюнул и вышел. Спасибо за заботу, товарищ маршал! Уважили! Так и хожу – дважды капитан!..»
Я молчал, думая о своем: мне ведь не звание нужно, не о нем я хлопочу. Мне нужно, чтобы меня отпустили на волю. Осточертел мне этот русско-японский Восток. Я хочу домой! Уже четыре года, как я не был в отпуске, я изнемог на чужбине от тоски по своим милым ольшаникам. Что мне эти таежные кедры и заросли бамбука! Мне опостылела армия с ее вечным неустройством, нелепицей, с ее палочной дисциплиной, – отпустите меня домой!.. Но это кипело в душе, оставалось глубоко личным, – на службе я обязан был подчиняться всему, что было мне ненавистно. Каждый день – в 9.00 – развод на занятия. Я, как командир батареи, должен[168] был прийти до развода, принять рапорт дежурного и проверить качество «заправки коек». О, эта заправка коек, с проверки которой начинался каждый божий день! В армии это «пунктик», род помешательства. Как заправлены койки – проверяли сперва дежурные, затем старшины, затем комбат, затем комдивизиона. А мог проверить еще и командир полка, и начальник штаба. И это не дай Бог, потому что уж они-то непременно обнаружат, что койки заправлены где криво, где не гладко, и узрят в этом преступление против советского государства. Можно быть отличным специалистом своего войскового профиля, во всех отношениях грамотным офицером, «преданным делу Ленина – Сталина», но если в твоей аттестации будет записано, что ты недостаточно требователен к соблюдению правил внутреннего распорядка – к той же заправке коек! – никакого повышения тебе не видать. Я не жаждал повышения, поэтому однажды и навсегда плюнул на внутренний распорядок. Однако начальство мое всё свое внимание сосредоточило именно на том, как у меня обстоят дела с внутренним распорядком. Что и было отмечено в характеристиках и аттестациях лейтенанта Быкова. Из коих можно сделать вывод: как лейтенант Быков относился к армии, так и армия относилась к нему. Служба и Быков были несовместимы.
В соответствии с имеющим силу закона положением о прохождении службы офицеры на Дальнем Востоке должны были прослужить три года, а затем переводились в центральные или западные округа. Перевод осуществлялся путем замены: на твое место должен был прибыть офицер оттуда, из округа, в который тебя переводили на его место. Обычно «дальневосточники» просились в наиболее благополучные округа – в Московский или Киевский, в Закарпатский, иногда в Прибалтийский. Служить в Белоруссии желающих было мало, считалось, что жизнь там бедная. И я решил, коль скоро с демобилизацией у меня ничего не получается, добиваться перевода в Белоруссию. Подал рапорт, что желаю служить в Белорусском военном округе. И на шестом году моей дальневосточной службы пришел приказ о моей замене.[169] Надлежало сдать батарею, рассчитаться со всеми службами части и отбыть в город Осиповичи, БССР. Я осторожно порадовался и начал сложную процедуру расставания с полком.
Сдать батарею, орудия и всю технику, прочее имущество оказалось не так-то просто. Каждый день обнаруживалось «отсутствие наличия» то того, то другого. Что-то потерялось, что-то своевременно не было списано, хотя давно пришло в негодность. Однако числилось за батареей. Что-то давно передали другому подразделению, но в полковых документах факт передачи не оформили.
Когда почти со всеми пропажами разобрались, выяснилось, что не хватает одного крупнокалиберного пулемета, который когда-то использовали на имитационных стрельбах. Из-за этого чертового пулемета я мог остаться зимовать на Сахалине! Выход подсказал один опытный служака, спросил: «У тебя найдутся восемь рублей 20 копеек? Сбегай в магазин, купи бутылку коньяка и угости начальника службы боепитания». Я так и поступил. Когда мы с начбоем вышли вечером из забегаловки, я поинтересовался, где он достанет тот пулемет? А майор говорит: «На кой ляд мне его искать? Я его просто вычеркну из книги учета…»
Наконец всё было позади, все «бегунки» подписаны, и я получил документы на проезд от Сахалина до станции Осиповичи, Белорусской ССР. Ехали целую неделю, если не дольше, маялись на боковых полках плацкартного вагона. И вот – Москва. Жена с сыном в Москве не задержалась, поехала проведать сестру, которая жила в подмосковном Монино, а я отправился смотреть столицу. Начал, разумеется, с Красной площади, которая оказалась совсем не такой большой, какой я видел ее на красочных открытках, зато стены Кремля оказались гораздо выше, чем представлялось по тем же открыткам. В длинную очередь в мавзолей не стал, побрел вверх по улице Горького. Ходил, глазел, чувствуя себя стесненно среди столичного люда, – дикарь из тайги в цивилизованном городе!.. Вид у меня, конечно, был не ахти – пропотевший китель, юфтовые сапоги… Проголодался, и[170] решил зайти в кафе. Долго колебался, но есть хотелось всё больше, и я вошел. Официантка смерила меня пренебрежительным взглядом и сквозь зубы спросила, чего я желаю? Чего я мог пожелать? Сто грамм и что-нибудь на закуску. Она спросила: «Омлет?» Пусть будет омлет. Выпивать в одиночестве не очень хотелось, но сработала застарелая конфузливость, чувство, что неудобно перед официанткой – не заказать выпивку. Откуда такое чувство? Не знаю. Но и когда-то в Николаеве, когда утром шел на службу вместе со своим сослуживцем Валькой Бахтигозиным, было то же самое. Позавтракать дома мы не успевали, а на улице было полно лотков, в которых продавались бутерброды с килькой и водка в разлив. Покупать одни бутерброды нам было стыдно, и мы заказывали по сто грамм. Бойкие тетки-лотошницы деланно удивлялись: ай, ай, такие молодые хлопцы, что вам сто грамм. Возьмите по двести! И мы соглашались: давайте по двести! Так и тут. Постеснялся обойтись без водки. Ну и пошло: выпил сто грамм, затем еще сто. И прекрасно! И очень даже! Настроение поднялось, и Москва в моих глазах сразу похорошела!








