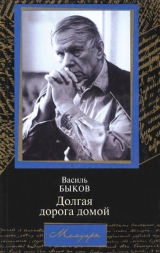
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Где теперь этот Матузов? Исчез, сгинул, никто и слова не скажет о нем, не вспомнит. А роман останется в литературе, как остался в истории его герой великий Калиновский. Ибо роман – от Бога, а редактор – порождение дьявола.
Короткевич разделял мои давние и нынешние литературные взгляды и заботы, твердо верил в то, что литература наша будет жить в народе, пока будет жив народ.
Но народ может и не жить, если сам этого не захочет, спохватившись, добавлял он. Я не возражал. В моем подсознании всё отчетливее возникал сюжет нового произведения. Через несколько дней, сидя в уютной лоджии нашего номера, я написал первую фразу: «Корова щипала траву».[348]
Наверное, правда, что уже на генетическом уровне женщина устойчивее мужчины и в дальнейшем – в процессе нелегкого существования – меньше поддается воздействию среды, сохраняет свою самость. Это особенно ощущается в конфликтные моменты, когда нужно защитить себя, семью, детей. А то и мужа. У мужчины нет такой твердости и решимости, ибо слишком много всесильных обстоятельств, влияющих на него, – власти, партии, военная служба, которые подчиняют, ломают, ставят на колени. Очевидно всё это и сформировало современный, не слишком привлекательный архетип белорусского мужика в жизни и в литературе, – бедной, покладистой, боязливой личности. Того, который по присловью красть боится, работать ленится, просить стыдится. Не случайно отважные в течение четырех военных лет партизаны в мирное время утратили всю свою отвагу и давали помыкать собою каждому, кто этого хотел. В том числе и женщинам, которые за войну стали куда разумнее и решительнее.
Некоторые спрашивают, почему в военные годы белорусские партизаны оказались такими храбрыми? Где набрались они этой храбрости в обезбоженной, колхозной, полуголодной стране? А всё там же. Всё оттуда пришло – из 30-х годов, в результате советской дрессировки голодом, истреблением и страхом. Когда крестьянству уже нечего было терять, разве что жизнь – свою последнюю собственность. Да и ее не очень-то жалели, такой она стала нестерпимой. Именно эта ситуация послужила психологическим источником многих, удивительных, на первый взгляд, поступков, в том числе тех, которые сейчас называют подвигами.
Мы с Короткевичем говорили о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя, никого загонять в угол – ни друга, ни врага. А между тем белорусское крестьянство в 30-е годы, лишенное земли и воли, оказалось именно таким – загнанным. От голодной смерти его спасли огороды – сорок соток дедовской земли, которые кормили. Немцы загнали белорусскую беду еще глубже. Что было делать крестьянам? Что делает собака или волк, попав в безвыходное положение? Бросается на людей. Белорусы бросились на немцев. От отчаянья. Вот они – истоки белорусской партизанки![349]
Если бы оккупанты были поумнее, если бы вернули людям землю и их собственность, – белорусы, быть может, вели б себя иначе по отношению к ним. Скажем, как литовцы, латыши или эстонцы. Как украинцы, наконец. Пахали бы землю, растили детей и плевали на бандитскую партизанку. То, что рядом уничтожали евреев, крестьян не очень-то беспокоило, лишь бы их не трогали! А ведь тронули. Да еще как! В этом немцам очень помогли партизаны – дали основание для всякого рода акций. И запылали хаты, пролилась кровь. В этом деле Гитлер и Сталин были сообщниками. То, что недоделал Сталин в 30-е годы, жестоко завершил Гитлер в начале 40-х. Беларусь лежала в руинах. Эпопея возрождения была долгой и трудной.
Да, никого нельзя загонять в угол: выйдет себе дороже. А вот мою Степаниду загнали. Простая деревенская тетка, она не хотела терять жизнь, отчаянно цеплялась за нее и впервые стала проявлять волю в неравной борьбе. Но было уже поздно… В этом ее трагедия.
А если бы не опоздала? У Степаниды ведь вообще не было своего времени, она, как и всё вокруг, выпала из естественного хода времен, оказалась на грани небытия. Несколько лет или недель драматического балансирования на этой грани и – конец, всё погибло. Возродится ли вновь?
Короткевич был не согласен с этим моим фатальным взглядом, он хотел надеяться. И, как мог, сам цеплялся за жизнь. Да не удержался. Потому что был человеком без времени, потому что родился или слишком рано, или, наоборот, слишком поздно, и не вовремя стал писателем. Несовременным. Несовременный человек не может долго жить…
В те годы, чтобы достигнуть успеха в литературе, совсем недостаточно было иметь литературный талант – нужны были «общественное лицо», а еще лучше – руководящая должность, невозможные без «членства» в партии. Именно поэтому наши «молодые талантливые», еще учась в университете, вступали в партию, а по окончании учебы охотно (или нет) шли в сексоты. Чтоб остаться в столице, устраивались в редакции. Впрочем, служебная карьера мало зависела от литературного таланта, он скорее затруднял[350] продвижение «наверх». В большинстве случаев литературные маэстро, осыпанные регалиями, наделенные почетными званиями и ответственными должностями, были посредственными писателями, что нисколько не мешало им руководить собратьями по перу. Писательство было делом не только рискованным, но и весьма ненадежным, как ненадежен был и сам метод соцреализма. Зато должность – литературная или, предпочтительнее, партийная – кормила, давала всякого рода привилегии, обеспечивала комфортабельным жильем и соответствующим ей почетом.
Володя Короткевич не имел к должностям никакого отношения. Он не был ни коммунистом (даже рядовым), ни редактором. И ему не оставалось ничего другого, как писать «несовременные» исторические романы да пить водку. Печатали его после бесконечных, временами глупых и невежественных, придирок (видимо, боясь белорусского «страшилища» – национализма), но запретить ему пить не могли.
И, живя в Доме творчества, Володя то ходил на море, то в поселок за чачей. Я же несколько недель сидел в лоджии и писал на шатучем дюралевом столике. Короткевич говорил, что ненавидит такие столики, где б они ни были, – хоть в комнате, хоть в кофейне, что они – дьявольское изобретение. На таком столике, утверждал он, ничего путного не напишешь. Ему для работы необходимы были солидный дубовый стол, пачка хорошей бумаги и свежая, тщательно отглаженная сорочка. Тогда у него появлялось вдохновение, которое всегда приносило обильные плоды.
Как-то он снова пропал на некоторое время, а когда вернулся, мы его просто не узнали. У него был какой-то прямо-таки нездешний вид – изможденное лицо, мутный взгляд. Едва стало смеркаться, пожаловался, что внизу, в кустах, сидит змей и внимательно следит за ним: «Идем, покажу…» Я зашел в угловой номер, в котором жили они с Валей, и Володя опасливо ткнул пальцем вниз: «Вот, вот… смотри… Выглядывает! Нет, спрятался. Ну, подожди, я тебя!» «Володя, брось! – сказал я с болью. – Ложись лучше спать!» «Нет, спать я не буду, – отвечал он. – Я его подстерегу… всё равно…»[351]
Валя плакала. Мне было очень не по себе…
А в конце нашего пребывания в Доме творчества мы поехали на экскурсию в Сухуми. Там Володя прежде всего потянул всех в обезьянник. Был оживлен, весел, полон детского восхищения проворными и ловкими существами, которые сидели, лазали, прыгали с ветки на ветку, нисколько не обращая внимания на рассматривавших их посетителей.
Ему очень понравилась одна небольшая симпатичная обезьянка, которая, встретившись с ним взглядом, смело прыгнула навстречу и протянула Володе ладошку с тоненькими черными пальчиками. «Смотрите, какое чудо! – с восторгом закричал он. – Она же лучше людей! Сколько в ней доброты и доверия!» Он положил в темную ладошку мандарин, и обезьянка с радостным визгом взлетела высоко на дерево.
В кофейне, которая попалась на проспекте под пальмами, было только кислое прохладное вино. Володя брезгливо морщился, но пил его полный ярких и радостных впечатлений.
Короткевич с женой уехали из Пицунды раньше нас. Мы проводили их к автобусу. Но выпить на прощанье было нечего.
Какова же была наша радость, когда вскоре получили из Минска телеграфный перевод на довольно крупную сумму и небольшую посылку! Помню, мы шли с почты и всю дорогу старались угадать, что это прислал нам Володя? В посылке оказалась бутылка молдавского коньяка, который в Беларуси еще можно было «достать». Ну – Божеская душа, милый Володя!
Счастливые деньки промелькнули быстро, и вскоре близкую нам семью постигла большая беда. По настоянию врачей Валя попала в Боровляны. Я возил к ней Володю на свидания. Сам оставался в машине, а он шел в корпус. Возвращался оттуда удрученный и молчаливый, тайком вытирал глаза. Он любил жену…
Когда она умерла, помнится, не плакал. Лишь после похорон советовался со мною, как ему жить дальше…
Незадолго до своей смерти Володя стал как-то особенно внимательно относиться к тем, кого уважал,[352] с кем дружил. Часто звонил мне, а если меня не было дома, подолгу разговаривал с Ириной. Здоровье его ухудшалось, но он как-то не слишком серьезно относился к этому. Ему всё труднее было писать, и он шел к друзьям. Словно предчувствуя неизбежное, старался побольше бывать на природе, с которой в скором времени Володе предстояло слиться навсегда. Поездка на любимую Припять стала для него последней…
Смерть Володи оплакивала вся Беларусь, которая будет долго помнить его. Такие, как Короткевич, часто не рождаются.
Дописывал повесть уже в Минске, на Танковой, – всю осень и начало зимы. Не скажу, чтоб она давалась мне очень трудно – материал знакомый, частично пережитый мной самим. В особенности относившийся к 30-м годам. Цепкая детская память сохранила многие драмы и черты быта того, поистине чрезвычайного времени. Что касается военных лет, то и в сценах, связанных с ними, мог многое себе представить, хотя и не жил на оккупированной территории. Этого, слава Богу, испытать мне не довелось. Я избежал не только опасности, но не получил определенной метки в своей биографии. Людям, имевшим ее, долго не давали забыть прошлое.
Повесть свою писал последовательно, кроме вставного сюжетного куска, который оказался словно бы ядром ореха, – его я сделал позднее. Ядро это было очень важно для развития темы, ибо именно оно как раз и несло в себе главный идейный знак – знак национальной беды. Мало было коллективизации, так еще и оккупация. Это и предопределило жизнь и судьбу реликтовых хуторян Степаниды и Петрока. Степанида инстинктивно чувствовала, откуда всё время подступает к ним беда, – то был мост. Она очень хотела его уничтожить, чтобы окончательно обособиться, отъединиться от мира и его напастей. Это для хуторян-белорусов было важнее всего. Однако осуществить свое желание никогда и никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Бомба Степаниды предназначалась для другого…[353]
Аккуратно перепечатанный экземпляр повести я отнес в «Полымя», очередным редактором которого стал в ту пору Кастусь Киреенко, человек с ограниченными способностями, но с определенными амбициями. У меня с ним не было никаких отношений, и иметь их не очень хотелось. Как, впрочем, и со всей редакцией этого журнала. Отнес я рукопись рано утром, когда в редакции никого, кроме корректоров, не было, и попросил передать главному. Через некоторое время он позвонил сам, сказал, что рукопись получил и ее будет читать Пташников. Тот при случайной встрече с похвалой отозвался о том, как напечатан текст – чисто, без помарок, не то, что у некоторых других. На этом редакционные разговоры и кончились. Я был благодарен им обоим, ибо счел это наилучшим вариантом отношений между двумя антиподами – автором и издателем. В скором времени повесть была напечатана.
С публикацией всех прежних повестей (до «Знака беды» включительно) у меня возникало немало серьезных проблем. О политической стерильности этих произведений заботились не только редакторат, не только цензура, но и КГБ. Даже во времена Горбачева. Бывший пресс-атташе генсека Андрей Грачев в своей книге «М. С. Горбачев» пишет: «Отвечая на заседании Политбюро В. Чебрикову (тогдашний руководитель КГБ. – В. Б.), который возражал против публикации повести Василя Быкова «Знак беды», бдительно разглядев в ней «подкоп под коллективизацию», Горбачев шумел: «Да, перекосы будут. Всё поплывет в потоке, который возникнет. Будут и пена, и сор, но всё это знак весны, обновления, спутники демократизации. А ее маховик надо раскручивать, не следует бояться…»
Таким образом, моя повесть была для руководителя КГБ «знаком беды», а для Горбачева – всё же «знаком весны». Кажется, ошибались оба.
Свой перевод «Знака беды» я отдал в московский журнал «Дружба народов». Вскоре меня срочно вызвали в редакцию: Редактор Сергей Баруздин высказал общие претензии, но детализировать их не стал: очень спешил на какое-то заседание (видимо, в ЦК). Сказал, что всё остальное выскажет его заместитель Леонид Теракопян.[354] Тот сделал это не слишком категорически, но подробно и доказательно, ну, конечно, имели место перегибы, нарушения, но коллективизация была необходима, ибо раздробленное частновладельческое сельское хозяйство не способно было… и т. д. Кое-что пришлось вычеркнуть, опустить, заменить банальностями. Но я уже знал: если на первом этапе редактирования в чем-нибудь уступишь (вот тут – всего три-четыре места), то на следующем этапе мест этих будет уже пять-восемь, а затем и десять-пятнадцать. Особенно в Главлите. Так получилось и на этот раз. Чтобы окончательно всё подчистить, из редакции в Минск был прислан опытный литературный правщик, с которым мы чистили повесть в четыре руки. Считалось, что правился только стиль, хотя работа наша имела к нему мало отношения – дело было в политике. Притом в политике вчерашнего дня, минувших десятилетий, которая всё еще многое определяла в нашей жизни. «А что если «Знак беды» назвать романом?» – пришла мне в голову неожиданная мысль. На это мой правщик ответил просто: «Тогда с ним придется возиться вдвое больше, ибо другой жанр». И я подумал: пусть уж остается в жанре повести.
А в издательстве «Молодая гвардия», которое тоже собиралось издать «Знак» отдельной книгой, ситуация сложилась еще хуже. Уже изрядно подчищенную для предыдущих публикаций повесть внезапно вернул Главлит. Судя по всему, произошло это вследствие того, что Главлит стал курировать мой старый «друг» Владимир Севрук, с каждым годом приобретавший всё больший вес в аппарате ЦК. Очевидно, с подачи Севрука повесть моя попала на стол ко «второму лицу в государстве», тогдашнему секретарю ЦК Лигачеву. Как известно, новая метла всегда метет чисто. В данном случае вместе с сельским хозяйством «подмела» она и литературу. В издательстве разразился скандал, и заведующую отделом Зою Яхонтову отрядили в Минск – уламывать автора. Хорошая эта женщина приехала ко мне на Танковую и рассказала о полученном ею задании. В общем требовалось сделать, на первый взгляд, немного: «Снять вот здесь, здесь и здесь. А также, если можно, от сих до сих…» и т. д.[355] Я искренне хотел помочь этой женщине (которая скоро должна была уходить на пенсию). Ведь известно, каждый редактор – тот же сапер: однажды ошибся – и пиши пропало. Я черкал, выбрасывал, но логика произведения протестовала, приходилось что-то восстанавливать, мы нервничали и спорили. В конце концов вытравили слишком уж конфликтную сцену раскулачивания, еще кое-что. Цензоры, конечно, превосходно понимали, где был «знак беды», и очень старались, чтоб этого не понял читатель. Чтобы всё спрятать в строго засекреченных фондах, начисто вычеркнув из литературы. Но не в их власти было вычеркнуть это из жизни, ибо, как говорили древние греки, – даже боги не в силах переиначить прошлое. Оно выше Настоящего, так как уже неподвластно никому.
Но большевики, однако, старались подчинить себе и его.
Это стремление в еще более драматической форме я почувствовал, когда М. Пташук снял по моей повести одноименный фильм. Поначалу всё как будто шло хорошо, почти приемлемо, насколько тогда вообще могла быть приемлема советская кинолента. Пташук как-то умудрился сдать картину без больших потерь, и ее отправили на кинофабрику в Киев делать копии для проката. Распустили съемочную группу, прекратили финансирование. И вдруг Пташука срочно вызвал заведующий отделом культуры ЦК КПБ Иван Иванович Антонович. Вместе с ним был вытребован и автор. Антонович в нервном тоне заявил нам, что фильм необходимо в срочном порядке переделать. Но Пташук сразу и решительно возразил – невозможно и некому. «Вы понимаете, – продолжал напирать Антонович, – это указание второго лица в государстве…» «А я не могу и не буду!» – твердо отвечал Пташук. «Тогда вам не работать на киностудии!..» – «Ну что ж, у меня есть водительские права, пойду крутить баранку». Антонович еще долго пытался уломать его, апеллировал ко мне. Безрезультатно. Нужно отдать должное режиссеру: он стоял, как скала.[356]
В то время в Москве многое стремительно менялось. «Второе лицо в государстве» перестало им быть. Антонович пошел на повышение и уехал из Беларуси – ему уже было не до картины Пташука и Быкова. На горизонте замаячила серьезная угроза для КПСС в лице Горбачева и Ельцина. Несомненно, что появление у власти сначала одного, затем другого, а также умного Александра Яковлева, значительно смягчило культурный климат в стране. Начало изменяться и отношение к недавним диссидентам. Я не был диссидентом в полном значении этого слова, но всё равно почувствовал: что-то меняется.
Так, Союз писателей Беларуси выдвинул «Знак беды» на соискание Ленинской премии. Этому в немалой степени способствовала личная инициатива Нила Гилевича, который с недавних пор стал первым секретарем Союза (после многолетнего секретарства Ивана Шамякина). Прежде такое выдвижение было бы просто невозможно, так как Иван Петрович, получив дюжину орденов за литературу, не мог еще добиться для себя этой весьма престижной премии. Таким образом Быкова выдвинули как бы в обход законной очереди. Москва поддержала это выдвижение: пусть мол, для приличия в немалом списке номинантов будет и один белорус. Но совершенно неожиданно в результате тайного голосования в комитете по премиям большинство голосов получил именно он. Мнение членов комитета, как мне рассказали позднее, склонил на мою сторону известный и уважаемый русский композитор Георгий Свиридов. Он высказался примерно так: «Я люблю русскую культуру и русскую литературу, но еще больше – истину. А в данном случае истина состоит в том, что повесть «Знак беды» – лучшая среди других». Это всё и решило. Лауреатом стал Быков.
Литературные премии, как бы к ним ни относиться, могли быть оправданы тем, что венчали творческие усилия авторов, создавших те или иные произведения. Иным был принцип награждения всякого рода знаками отличия (а их за[357] годы советской власти, в особенности к концу правления Леонида Ильича, перевалило за сотню). На каждом предприятии, в учреждении, даже в колхозе трудно было найти человека, который не имел хотя бы одного ордена, а тем более медали. Кое у кого – от министров до доярок – были целые созвездия. Не составляли исключения и писатели. Так у уважаемого Максима Танка только орденов Ленина было больше, чем у маршала Конева, и немногим меньше, чем у маршала Жукова, Хотя Евгений Иванович, как писал Карпюк, за всю войну не сделал ни одного выстрела.
К своему 60-летию я получил звание Героя Социалистического Труда.
Этого, откровенно говоря, никак не ожидал. Награда сначала удивила, а позже смутила меня. Инстинктивно почувствовал, что пользы от нее будет немного, а хлопот не оберешься, да и как бы не было беды. В дальнейшем мои предчувствия в значительной мере оправдались.
У друзей, однако, было другое мнение. Одни искренне радовались, другие считали наиболее приемлемым вариантом (всё же лучше, чем получил бы кто-нибудь иной!), некоторые завидовали – не без того. Всё, как у людей. Эта награда приравняла меня к моим коллегам – Ивану Шамякину, Максиму Танку, Петрусю Бровке. А также к длинному ряду пронырливых председателей колхозов, пробивных директоров предприятий-«ящиков», передовых механизаторов и доярок. Было бы разумнее, на мой взгляд, если бы золотую звезду получил тот, кто ее очень добивался, или тот, кто более плодотворно работал в литературе. Мне казалось: здесь какая-то ошибка… Правда, друзья и жена говорили, что это за талант. Но ведь если он у меня и был, то далеко не апологетический к наградившему меня режиму. И режим знал это.
Может, всё дело в том, что действительно менялось время. Медленно, с натугой, но менялось, уступая место новому – новым людям, новой политике. Первым секретарем ЦК КПБ стал Слюньков. В Москве всё большую силу набирал молодой перспективный Горбачев, который фактически стал руководителем государства. Мне передавали, что на одной из встреч с Горбачевым Слюньков спросил, что он думает по поводу того, чтобы дать Быкову Золотую звезду.[358] Тот согласился. Всё было сделано довольно быстро, но, как всегда, втайне. Лишь подписав указ, Громыко прислал поздравление новорожденному герою.
Вскоре после этого у меня состоялся разговор со Слюньковым. Первый секретарь ЦК КПБ, кажется, располагал временем и был в хорошем настроении. Интересовался литературой и литераторами, тем, как они чувствуют себя в сложных и изменчивых условиях современности. Ответ мой был кратким. К своим собратьям по перу я всегда относился уважительно, они заслуживали этого. Много ли найдется в мире писателей, которые работают в языковом вакууме, когда вокруг не слышно родного слова, а белорусский язык сохранился лишь как рудимент и рискует скоро стать подобием санскрита или латыни? Тем не менее наши поэты и прозаики продолжают писать свои романы и поэмы, лирику и эпос всё на том же родном белорусском. Хотя издаваться с каждым годом становится всё труднее. И жить не легче.
Хозяин республики в общем не возражал. Перед ним на столе высилась довольно большая стопка каких-то книг, которую он в конце разговора пододвинул ближе ко мне.
«Вот – Нил Гилевич, за два года издал десять книжек!» – «Что ж, человек пишет, ну и его печатают, – сказал я. – Это же не краденое…» – «Да, но другие такой возможности не имеют…» Тут уж я не знал, что ответить – не стоять же за уравниловку? Подоплека этого разговора была в том, что заведующий отделом пропаганды ЦК Савелий Павлов давно и настойчиво вел подкоп под Союз писателей. Пройдет еще некоторое время и Нил Гилевич организует его приём в Союз, полагая, видимо, что таким образом ослабит враждебность Павлова по отношению к себе и национальной литературе. Этого не произошло.
Муторное дело – юбилей. Он приносит уйму хлопот и забирает массу жизненных сил. Но дарит и несомненную радость: радость долгожданных встреч о друзьями, у которых возникает причина приехать, повидаться, ну, и, может, попировать – в меру своих возможностей. Конечно же, не так, как я, пригласив в Минск добрых людей, сам свалился перед[359] банкетом с сердечным приступом, и друзьям вместо участия в пиршестве пришлось меня спасать. А я так мечтал побыть тогда с милым Юрой Карякиным, с Игорем Дедковым, который примчался в Минск из своей Костромы. С Юрой мы хоть немного коньяку выпили в «Минске», а дорогого мне Игоря Александровича я услышал в полуобморочном состоянии, ожидая «скорую». Тогда спасали меня Сульянов и Законников: делали массаж сердца. Вызвали из дома Ирину. «Что с тобой, Василька?» – тревожно выдохнула она с порога. А Игорь, стоявший рядом, в ответ на чью-то неуместную реплику негромким голосом произнес: «Это потому, что любит…» Его незабываемый голос до сих пор продолжает звучать в моей памяти.
В этот раз я тоже пригласил гостей. И был очень рад приезду моих давних друзей – москвича Лазаря Лазарева с милой Наей, неугомонного Залыгина, с которым мы недавно пережили одну и ту же беду, осетина Нафи Джусойты, моего единомышленника и одногодка. Из Ленинграда прилетел Даниил Гранин, из Вильны – литовский златоуст Петкявичус, который на торжестве повеселил всех метким присловьем насчет того, что колбаса должна быть длинной, а речь – короткой. Раньше всех, пожалуй, появился из Молдовы шутливый Василь Василаке. Ну, а мои белорусские друзья были рады вместе со мной встретить и приветить гостей. Алесь Адамович сразу же начал опекать их, рядом были Буравкин, Козько, Матуковский. Куда-то, правда, пропал Рыгорка Бородулин. Но вскоре и он объявился. Алексей Карпюк на вечере в Купаловском театре, словно в укор тем, кто, раскрывая роскошные папки, читал лежавшие в них поздравительные адреса, вручил юбиляру фанерные крылья – для высокого полета. Я был тронут этим оригинальным подарком старого, много испытавшего друга.
Однако самое интересное и яркое ожидало нас на второй день и было связано с поездкой в легендарный и экзотический край – Полесье, которую подготовил мой молодой друг, известный писатель Виктор Козько.
Выехали мы – гости и минчане, некоторые с женами, – рано утром, на двух автобусах. На границе Житковичского[360] района, от которого я тогда был депутатом Верховного Совета, нас тепло и радостно встретили. Из районного центра мы направились в древний Туров. Приехав туда, сразу же взобрались на исторический холм. А в самом городке шумела цыганская свадьба с чубатым женихом и огнеглазой невестой. Всех приворожила красавица-Припять, на которой нас уже ожидало речное судно. И мы поплыли на нем куда-то вверх по течению. Куда – знал лишь свой человек в здешних местах Витя Козько. Остановились у песчаного берега. Там уже призывно дымился костерок, в ведерке варились раки. Они пришлись очень кстати к холодному пиву, бутылки охлаждали в воде. Гости и туровцы от души повеселились, а затем началось купанье. Жена бывшего моряка Лазарева, Ная, храбро переплыла Припять – туда и обратно. Настроение было радостным, но почему-то временами подступала грусть. Не от воспоминаний ли? А может, от смутного предчувствия трагической судьбы этой чудесной полесской реки, посыпанной вскоре чернобыльским пеплом?
Перед вечером Витя Козько не упустил случая свозить всех нас на свою Вильчу с прибрежными дубами, которые он много лет так упорно оберегал. Дубы были действительно прекрасные, вековые, многие из них широко раскинули свои кроны в пойме между рекой и селом.
Мне кажется, то были последние счастливые дни и часы в моей совсем еще не клонившейся к закату жизни. Очень скоро всё это ушло навсегда.
Мне позвонили из Союза писателей, секретарша сказала, что пришли какие-то немцы, которые хотели встретиться с кем-нибудь из руководства. Но, поскольку никого из руководителей Союза нет, они просят о встрече с Быковым. Что было делать? Оставил свои дела, положил в кейс бутылку коньяку и поехал на улицу Фрунзе.
В вестибюле меня ожидала довольно большая группа немцев (человек 12). Я сразу повел их в конференцзал. Один из них, который более или менее сносно говорил по-русски, объяснил, что мои собеседники – священники и прихожане[361] немецкой евангелической церкви, что они представляют Aktion Sühnezeichen – организацию, которая заботится о жертвах нацизма во всем мире, в том числе и в Беларуси. Он сказал также, что в Германии читают мои книги и уважают Быкова, писателя-пацифиста, сторонника дружбы между немецким и белорусским народами. «Что ж, они не ошибаются, – ответил я. – Вражда – это не по мне, я за дружбу со всеми народами, в том числе, конечно же, и с немецким. По этому поводу прошу выпить за белорусским столом по чарочке грузинского коньяку».
Так началось мое знакомство с немецкой пацифистской организацией, которое счастливо продолжается и по сегодняшний день.
Разные люди были в той первой группе – священники и студенты, два-три ветерана минувшей войны. Один с протезом вместо правой руки. Он рассказал, как в 43-м году лежал в госпитале в Минске, и там ему ампутировали руку. У другого ветерана был церковный приход в Кройцберге – одном из районов Западного Берлина. Поэт Кристоф Хойбнер, молодой, чернявый, больше похожий на итальянца, чем на немца, занимался административными вопросами в этой самой Акции. Все члены группы по-настоящему заинтересовали меня, я почувствовал, что они совсем не похожи на тех фашистов, которые были памятны с войны. И чувство это не обмануло меня.
Через некоторое время в Дом дружбы и культурных связей, который возглавлял Арсений Ваницкий, приехала красивая элегантная дама, Хельга Сибаи, договариваться о конкретном сотрудничестве Акции с Беларусью. Было достигнуто соглашение об уходе за памятниками жертвам фашизма (Хатынь), об участии немецких волонтеров в лечении наших психических больных (Новинки), о присмотре за малышами в некоторых детских садах. Соглашение не осталось на бумаге. Уже перед весной приехала большая группа парней и девушек, полных желания поработать в Хатыни. Ее привез Хойбнер. После того как работа была завершена, в гостинице состоялась встреча, на которой меня попросили рассказать о Беларуси, о войне и немного о литературе. Это было[362] до перестройки, когда многие советские люди еще смотрели на немцев как на врагов, даже в Академии наук кое-кто во время визитов иностранцев запирался в туалете, чтобы не встретиться. Пожалуй, один Дом дружбы и его руководитель Арсений Ваницкий смело шли на контакты и даже добивались их» расширения, для этого не раз приглашали и меня. Потребовалось немало времени и немало сдвигов в массовом сознании, чтобы возникли широкие связи со всеми странами. В налаживании этих связей активно участвовал Союз художников и очень несмело – Союз писателей. Гости приезжали из Германии, приглашали наших людей к себе. Ездили, разумеется, за их счет: у нас вечно не хватало средств.
Однажды меня пригласили в Западный Берлин на форум, связанный с годовщиной захвата власти Гитлером. В том, что форум этот будет антифашистским, у меня не было никаких сомнений, я уже знал отношение Акции к недавнему прошлому Германии. Но, естественно, не мог знать всего. Насколько широко, к примеру, популярны антифашистские идеи среди жителей Западного Берлина.
Массовое собрание это должно было проходить в огромном зале технического университета. Задолго до начала, назначенного на 18 часов, там не осталось ни одного свободного места – пришедшие стояли в проходах и вдоль стен. Руководителем (медиатором) форума стал мой друг Кристоф Хойбнер, и я впервые смог по-настоящему оценить его организаторские и шоуменские способности. В течение шести часов он неутомимо и умело направлял ход интернационального собрания, в котором выступления ветеранов-антифашистов, гостей из всех стран Европы, чередовались с выступлениями вокально-музыкальных групп, в том числе чудесной группы и хора из Израиля. Мне также довелось выступить там. Я рассказал, как был воспринят приход Гитлера к власти в Беларуси, что принес он с собою в дальнейшем, рассказал о наших жертвах, о наших партизанах. Зал аплодировал стоя.







