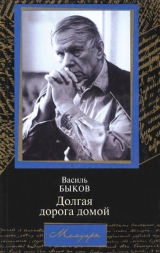
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я встал и тут же сел. Всё стало понятным. Кто-то донес, и я пропал. Ну не совсем, но моя политкарьера на халяву накрылась!.. Через два дня вернулся на батарею, и мой комбат Ахрин ехидно сказал: «Ну что, не получился из тебя политрук! А я ведь предупреждал». А помполит майор Цквикариа сказал, что после такого поступка мне не место не только в партии, но и в комсомоле – на ближайшем собрании исключим! Я со злости пошел в ресторан и напился, и, вернувшись, бросил в грубку свой комсомольский билет. (С того дня и на всю жизнь – беспартийный.) Назавтра очередной рапорт с просьбой о демобилизации.
Несколько недель ходил ошеломленный, ломал голову: кто донес?… Только кто-то из тех шести, которые были в ресторане,[125] мог это сделать. Вернее, из пяти – сам я не в счет. Но кто? Ведь все мы были братья по оружию, ровесники, друзья. Кого я мог заподозрить в самом гнусном, какие только могут быть, поступке? Двое из нашей компании были члены партии – может, они донесли? Или кто-то из комсомольцев? Или, может, Лешка, хоть он не состоял ни в партии, ни в комсомоле? Может, он с умыслом спровоцировал меня взять из сейфа взносы?
Кто доносчик – я так и не узнал. Как и во многих других случаях в последующие годы жизни.
Давно замечено людьми, что беда не приходит одна, беда любит компанию. Хотя следующие за первой беды переживаются уже не так тяжело, к ним относишься с юмором, с самоиронией. Очередная беда, постигшая меня после истории со взносами, связана с моим обмундированием, и это действительно довольно забавная беда.
Обмундирование для молодого военного немало значит. Хочется выглядеть не хуже других, быть «как все», не хочется, чтобы на тебя показывали пальцем: «Смотри, в чем он ходит!» Особенно неловко чувствуешь себя, если плохо одет, в городе. А у меня тогда, в Софии, возникла именно эта проблема: не было приличного обмундирования. Еще в Австрии у моей гимнастерки оторвался воротник, когда я снимал ее, ложась спать. Потянул через голову, и воротник остался в руках. Сопрел за зиму. Выдали мне другую гимнастерку, б/у, она была не очень поношенная, но с двумя заплатами: одна на спине, на левой лопатке, вторая на груди, – с убитого, должно быть, сняли ту гимнастерочку. Шинелька у меня была с подпалинами на полах, потому что лежала на сидении в машине, в которой я прорывался из окружения во время боев в Венгрии. Машину подбили, она вспыхнула – я успел, вываливаясь из машины, схватить только шинельку. (Досадно, что не успел спасти вещмешок, в котором лежал альбом с моими рисунками…) В той шинельке с подпалинами я и приехал в Софию. А уже осень была не за горами, и когда захолодало, меня в моей шинельке пронизывало насквозь.[126] Помню, стою как-то на Орлином мосту, жду автобус. Холодный ветер гуляет, падает первый реденький снежок. Мимо проходят болгары, смотрят на меня, и я слышу, как один из них говорит: «Братушка – сибиряк!» Я закоченел весь, а они думают, что мне тепло, что я закаленный, потому что сибиряк!..
Обрыдло мне мерзнуть, и я купил себе шинель у какого-то болгарского генерала. Болгарская армия была распущена, офицеры и генералы остались без средств, вот и продавали свою форму. А форма болгарской армии была похожа на нашу, а еще больше на форму русской царской армии, почти такая же, только на шинели было шесть пуговиц. Хороша была приобретенная мною шинель – из шикарного сукна, на красной шелковой подкладке. Однако именно эта подкладка оказалась печальным для меня недостатком шинели…
Надел я ту генеральскую шинель в выходной день, отправляясь со своим другом и его подружкой в поход на Виташу. Всё лето посматривали мы на эту прекрасную гору вблизи Софии, но взобраться на нее летом не было времени. Зимой на нее взбираться трудно – глубокий снег, обледенелые тропы, но ничего, взобрались, хотя очень устали. Заночевали в охотничьей хижине. Мой друг, старший лейтенант Володя, с подружкой утром не спешили возвращаться, остались на горе, а я спешил – мне нужно было успеть к утреннему разводу в части. Поэтому я спустился с Виташи еще на рассвете. По шоссе шел чуть ли не бегом, чувствовал, что опаздываю. И тут вдруг рядом со мной притормаживает «виллис», в котором сидит командир бригады. Говорит: «Садитесь!» Сажусь. Едем. Подъехали к проходной, я хотел быстренько вышмыгнуть, чтобы успеть стать в строй – бригада уже стоит на плацу, ждут комбрига. Но комбриг мне говорит: «Погодите!» И сам сопровождает меня на плац. На плацу дежурный офицер командует строю «смирно!», рапортует комбригу, как положено по уставу. Я стою рядом с комбригом и уже чувствую, что сейчас произойдет что-то скверное. Так и случилось. Комбриг отдает команду «вольно» и громко говорит дежурному офицеру: «Ну, а теперь отрапортуйте вот этому господину генералу! Ему, видите ли, не нравится советская[127] форма, вырядился в болгарскую. – И приподнимает полу моей шинели, чтобы все увидели красную подкладку. – Полюбуйтесь! Как попугай!»
В строю смеются. Но сдержанно. Комбриг для нас человек новый, недавний выпускник военной академии. Как только прибыл, очень энергично стал бороться за «порядок», от которого мы за войну отвыкли. Под горячую руку я ему и попался. Но и командир полка Парамонов сказал мне потом: «Чтоб я тебя больше в этой шинели не видел!» Что было делать? Продал я ту шинель нашему взводному, лейтенанту Кривовязу, который сшил себе из нее китель и бриджи. Мне выдали опять же б/у, однако почти новую английскую шинельку, только слишком короткую. Пришлось надтачивать снизу… Но с той генеральской шинелью, с теми пошитыми из нее кителем и бриджами и Кривовязу не повезло. Он был парень задиристый и однажды, выпив, подрался с одним майором, начальником сержантской школы, который тоже был изрядно пьян. Лейтенант был моложе и надавал майору «по мордам». Тому стало обидно: ночью он отправился в офицерское общежитие, в котором жил Кривовяз, чтобы продолжить драку. Но лейтенант спал мертвым сном, майору не удалось его разбудить. А на тумбочке рядом с кроватью Кривовяза лежали китель и бриджи из той генеральской шинели. А на столе стояла чернильница. Майор взял чернильницу и густо облил чернилами китель и бриджи. Это теперь просто – сдал в химчистку, и пятен как ни бывало. А тогда!.. Чем только не чистил Кривовяз свою обмундировку – и мылом, и бензином – всё напрасно! Так и пропала обмундировочка из сукна злополучной генеральской шинели. Что ж, не от хорошей жизни продал ее генерал, а дальнейшее лишний раз подтвердило, что, воистину, чужое несчастье никому счастья не приносит.
Дружил я в Софии со многими, с такими же младшими офицерами, как и я. Пользовался среди них неплохой репутацией, особенно после случая с комсомольскими взносами. Это начальство тогда на меня взъелось, а друзья – отнюдь. Близко сошелся с лейтенантом Виталием Дибнером, который служил в штабе.[128] Он был родом из Ленинграда, где живет и поныне (мы изредка переписываемся, перезваниваемся. Он давно уже доктор геологических наук, специалист по геологии Арктики). Время от времени мы бродили с ним по Софии, заходили в кафе. Виталий любил выпить стаканчик вина, я тоже, но главным было не это, а его рассказы о Ленинграде. И не только о Ленинграде. Виталий вообще много знал, окончил до войны университет (он был старше меня), был широко образованный человек, что больше всего меня в нем привлекало.
Другой мой друг был парень иного склада. Не буду называть его фамилию, скажу только, что он тоже был командиром взвода, звание – старший лейтенант. Звали его Володя (тот самый, с которым я поднимался на Виташу). Родом он был из Владивостока, но о городе своем рассказывал почему-то не очень охотно. Он был восхищен другим городом – Софией, Софьей, как называли его болгары. И влюбился в одну из его жительниц. На свою беду. Дело в том, что в те годы какие бы то ни было контакты советских военнослужащих с иностранцами не только не разрешались, но и жестко пресекались. Опасно было подружиться с болгарином. Да что там подружиться – стоило несколько раз кряду встретиться с одним и тем же человеком, да еще и выпить с ним, как это тут же становилось известным нашему милому смершу, который в чужой, хотя ее называли братской, стране шуровал с удвоенной энергией. А Володя не подружился – влюбился в студенточку Веру, дочь высокопоставленного государственного чиновника, члена ЦК болгарской компартии. Володя думал, что это обстоятельство – то, что отец Веры член ЦК – поможет избежать неприятностей. Не помогло!..
Хотя и благословенная страна Болгария, всех нас очень скоро охватила тоска по родине. Хотелось домой. Хотелось увидеть близких, которых не видели столько лет, увидеть родные места, вернуться в привычный домашний быт. Родные места снились по ночам, звали к себе голосами родителей в грустных письмах. Дома был голод и разруха, мы же в Болгарии жили относительно сыто и старались хоть немного помочь родным.[129] Однако, отправив домой денежный аттестат, сам оставался с жалкими копейками – только на сигареты. Это очень омрачало мою повседневную жизнь.
Почти всё свободное время, которого, впрочем, была мало, мы проводили в городе, в милой Софии. Меня привлекали прежде всего художественные музеи, где я впервые в жизни увидел некоторые полотна буржуазной, «салонной» живописи, впервые побывал в опере – на спектаклях «Евгений Онегин» Чайковского и «Князь Игорь» Бородина. Болгары тогда и в последующие годы тоже ставили в основном оперы русских композиторов. Впрочем, и во многом другом, если не во всем, они тогда шли за русскими. Помню, как в уличной толпе с удивлением смотрел на специально привезенные из России экскаваторы и бульдозеры, которые разрушали каменную ограду царского дворца в центре Софии, – с этой целью их и привезли. С каким энтузиазмом воспринимала разрушение стены толпа! Как же не быть энтузиазму – прогнали царя-кровопийцу, который отгородился от народа! (Через полстолетия с таким же энтузиазмом приветствовали возвращение бывшего царя на родину…)
Политический климат в Болгарии всё больше определяли болгарские коммунисты при поддержке и с помощью советских, которые, в сущности, всем и руководили. Начались разоблачения врагов болгарского народа, наподобие Васила Коларова, старого коммуниста, объявленного изменником. Врагов народ требовал расстрелять, что и было исполнено. (Отчего же не расстрелять, если народ просит…) На этом политическом фоне началась и продолжалась любовь моего друга Володи, которому к тому времени уже не на что было надеяться: отец его возлюбленной, поговаривали, попал в опалу. Володя стал таиться, скрывал свои встречи с Верой. На улице как скроешься? А в доме Вериных родителей встречаться было нельзя. В гарнизоне за Володей установили слежку, смерш следил за каждым его шагом. Несколько раз смершевцы вызывали Володю и предупреждали, чтобы прекратил сомнительное знакомство. Партком угрожал исключением из партии. Володя боялся исключения, это грозило ему немедленной отправкой на родину, а он не хотел потерять Веру.[130]
Мне он доверял и просил помочь. Когда мы втроем – я, Володя и Вера – совершили восхождение на Виташу, Володя попросил меня, чтобы я никому не говорил, что он после моего ухода остался на горе с Верой, чтобы, если меня вызовут и спросят, сказал, что еще вечером вместе с ним вернулся в город, что мы всё время были все вместе – наедине с Верой, мол, он не оставался. Записки от Веры и ее фотографии он поначалу прятал под столешницей стола в нашем общежитии, а потом, когда ему показалось, что кто-то их обнаружил, передал на сохранение мне. Я носил их в своей полевой сумке, с которой не расставался ни на занятиях с солдатами, ни на полевых учениях, ни в артиллерийском парке. И всё-таки их украли – в столовой, пока я обедал, а сумка висела на вешалке. Меня вызвали в отдел контрразведки, расспрашивали про Володю и о том, что было написано в тех бумажках, которые нашли в моей сумке. Я сказал, что чужие письма не читаю. «А если там были шпионские сведения, – сказали мне контрразведчики, – что тогда? Получается, что вас сделали шпионским связником!» Что я мог сказать? В сумке были любовные письма, я это знал, хотя и не читал их.
Володю вызвали в политотдел и там арестовали. Он предчувствовал, что его арестуют, и, уходя, шепнул мне: «В шесть ноль-ноль будь на Орлином мосту, передай Вере, чтобы не ждала». Что я и сделал. О дальнейшей судьбе Веры ничего не знаю, не успел узнать. В скором времени нашу бригаду расформировали, офицеров разбросали по разным гарнизонам по всей Болгарии. Адреса Веры у меня не было. (Вот вам еще один нереализованный «негативный» сюжет из моей долитературной биографии.)
IV
[130]
Некоторое время – недолго – я прослужил в стрелковой дивизии под Бургасом, но вскоре ее вывели из Болгарии на станцию Кодыма Одесской области, а там расформировали. Туда со станции Унгены мы шли пешим маршем – как раз по тем местам, где два года назад воевали. По дороге я забежал в деревушку, ту самую, что неподалеку от высотки,[131] о которой я уже рассказывал – о том, как мы пробирались туда ночью и едва не попали в плен. В деревушке не оказалось ни одного человека, исчез и тот дядька, который кормил нас курятиной. Дворы заросли лебедой… И так было на всем пути – в то лето в Молдавии стояла страшная засуха, повлекшая за собой голод. Поля вокруг были черные, выжженные зноем. Во время войны такого не было. Обезлюдели сотни сел, люди ушли на Украину…
В разгар лета я оказался в Николаеве, в тамошней стрелковой дивизии, которая стояла в летних лагерях под Терновкой, за Бугом. Вот тогда я впервые в жизни узнал, что такое настоящая жара. Степной юг явил мне все свои прелести. Знойный ветер, пыль и песок. Тени нет – нигде ни одного деревца. От пыли просто нет спасения – она в палатках на постели, на столах в походной столовой, на посуде, на одежде. Она скрипит на зубах – вездесущая песчаная пыль. Не раз вспоминал я тогда наши милые леса, перелески, клены и дубы, их прохладные тени на сельской улице. Вспоминал прекрасные лесные озера… Правда, неподалеку от лагерей была река, Буг, но возле реки патрули – следят, чтобы никто не подходил к берегу. Не положено! Извечный нелепый армейский принцип: не пускать туда, куда тебе надо. И силой гнать туда, куда сам ты никогда не пошел бы.
Все занятия на голой, без единой травинки, степной равнине. С утра до вечера на изнуряющей жаре. И пыль, пыль, пыль…
В той дивизии я впервые попал на гауптвахту. Посадили за то, что утонул солдат моего взвода. После занятий самовольно пробрался на берег Буга, бултыхнулся в воду и не вынырнул. Может, покончил с собой, а может, несчастный случай. А кто виноват? Конечно же, взводный. Хоть я в тот момент проходил инструктаж по проведению политзанятий. Но всё равно посадили. На гарнизонной гауптвахте порядки каторжные – ни сидеть, ни лежать. В пять утра подъем, лежаки выносят из камеры. Чтобы никто не садился, на цементный пол выливают пару ведер воды. Комендант – зверь. Ему мало обычных издевательств над арестованными,[132] изобретает собственные – весь день злобно орет, оскорбляет последними словами, как будто ты его личный заклятый враг.
Накануне осени я заболел, положили в госпиталь. На этот раз болезнь оказалась кстати – я лег в госпиталь перед самой инспекторской проверкой. Окна палаты выходили на плац физгородка, и я мог наблюдать, как проводится инспекторская проверка. Принимал ее сам командующий Одесским военным округом маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
Всех офицеров – молодых и в летах – построили в шеренгу возле физкультурного снаряда, именуемого «кобылой». Командир полка командует: «Вперед!» Первым к «кобыле» грузно бежит лысый, полный, уже пожилой по армейским-меркам (лет под пятьдесят ему) майор, командир батальона. Пытается перепрыгнуть через «кобылу», но тут же, махнув рукой, отходит в сторону. Следующий офицер тоже не может осилить упражнение. Ну, молодые, в основном взводные командиры, перепрыгивают, однако не все. Всех, кто не выполнил упражнение, выстраивают в отдельную шеренгу. И в шеренге этой оказываются большинство офицеров. Маршал начинает их материть: зажрались, брюхо отрастили, забыли о своем долге добросовестно служить советской родине, великому Сталину! «Вот как надо – учитесь!» – маршал подтыкает под ремень полы шинели, разбегается и – гоп! Перепрыгнул! Приказывает командиру полка: «Тренировать! О результате тренировки доложите мне лично!» Садится в свой «виллис» и уезжает. «Дурак, хоть и Жуков», – говорит, глядя вслед «виллису», мой сосед по палате, седой начфин артиллерийского полка.
Вечером один из больных, артиллерийский капитан, который воевал в составе 1-го Украинского фронта, рассказал, как командующий фронтом Жуков осенью 1943 года ликвидировал немецкий прорыв под Житомиром. Носился по боевым порядкам частей на своем неизменном «виллисе» в сопровождении бронетранспортера с головорезами-автоматчиками на броне и автомобиля, в котором сидели чины военного трибунала. Там, где замечал малейшую растерянность или подавленность,[133] приказывал автоматчикам схватить первых же попавшихся под руку солдат или офицеров и расстрелять их на месте. Из карманов еще теплых трупов трибунальщики доставали документы и оформляли приговор. Что ж, маршал сам никого не убивал и приговоры трибунала не подписывал, это делали другие, – по всем правилам военной юриспруденции.
Великий был маршал!..
Поздней осенью перешли на зимние квартиры. Солдат разместили в старых, николаевских времен, казармах, офицеры устраивались на частные квартиры. Незадолго до этого я встретил своего друга Вальку Бахтигозина, с которым расстался в Софии. Оказалось, что Валька всё еще младший лейтенант, но служит в артиллерийском полку, где, конечно же, совсем не то, что в стрелковом – более спокойно да и престижно. Валя предложил мне поселиться вместе с ним на квартире, которую он недавно снял у одинокой старушки. Бабуля согласилась принять двоих жильцов с условием, что на зиму мы достанем ей дров. Мы пообещали, хотя понятия не имели, где их взять. Увы, так и не достали ни полена и прожили зиму в неотапливаемом доме, спали не раздеваясь. Питались в столовой, вместе с солдатами: суп вермишелевый, каша перловая, чай, иногда компот. И то хорошо. Горожане и этого не имели, жили голодно, продукты отпускались по карточкам, а нормы были мизерные. Без карточек в городе можно было купить бутылку вина – сухого или полусухого. Какое покупать – решали в зависимости от крепости. Которое покрепче, то и пили. Но, как известно, хмель от вина слабый…
Война в этом южном городе словно и не кончалась. На улицах стреляли, особенно по ночам. Были случаи нападения на наших часовых, которые охраняли продуктовые склады. Нападали на офицеров, грабили. Один из наших ротных командиров, возвращаясь из казармы поздним вечером, взял с собою табельное оружие, пистолет, хотя выходить с оружием с территории части запрещалось. Возле парка имени Петровского, неподалеку от которого жил ротный, его остановили двое бандитов: снимай шинель, сапоги тоже!.. Ротный выхватил пистолет и застрелил одного из бандитов.[134] Второй удрал. И вот суд военного трибунала: за убийство гражданина такого-то гражданин такой-то (наш сослуживец, капитан) приговаривается к шести годам лишения свободы. После вынесения приговора ротный хватался за голову: «Какой же я идиот! Пусть бы меня до кальсон раздели, я и голый добежал бы до дома! А теперь». Судьи ему сочувствовали, но – закон!
В Николаеве я снова попытался вырваться из армии – подал два рапорта с просьбой о демобилизации. Ничего не вышло. И я совсем потерял надежду, что сниму, наконец, опостылевшие погоны. А вот Вальку, который хотел остаться в армии, на исходе зимы демобилизовали. На прощание мы выпили с ним в забегаловке, я проводил его на вокзал. Валька возвращался в свою Сибирь, в город Ачинск, к матери. Возвращался без радости. Ни война, ни послевоенная армейская служба ничего ему не принесли. Не выслужил Валька очередного офицерского звания, так и остался младшим лейтенантом, не было у него и наград. Хотя и воевал и служил не хуже других. А может, и лучше многих. Но был слишком молод и очень совестлив. И наивен. Впрочем, и я не стяжал особых лавров ни на войне, ни на службе – одну звезду на грудь (орден Красной Звезды), одну звездочку на погоны. И всё. Не то, что другие. Как-то встретил в кинотеатре, там, в Николаеве, Валерия К., своего однокашника по Саратовскому училищу. Вижу, он уже старший лейтенант, два ордена на груди, служит инструктором по комсомолу в политотделе. И сразу вспомнил, как он суетился перед выпуском из училища, бегал, собирал рекомендации в партию. Мы еще подтрунивали: «Тебе не всё равно, кем тебя закопают – беспартийным или коммунистом? Ведь на фронт едем!» Он пропускал наши слова мимо ушей и перед отправкой на фронт успел стать кандидатом в члены ВКП/б/. На Днепре, в отделе кадров фронта, где нас, бывших курсантов, распределяли по дивизиям, партийность Валерия учли и направили в политотдел. Тогда мы и поняли – ушлый он парень! Из молодых, да ранний!
В феврале нежданно-негаданно я получил отпуск и помчался домой. Ехал через Кривой Рог, Харьков, Гомель. На[135] вокзалах при пересадках была страшная давка, столпотворение тысяч людей – военные, гражданские, старики, женщины с детьми, бесконечные очереди в кассу, неразбериха… Благо я был налегке, с одним чемоданом, но всё же намыкался пока добрался до Подсвилья, деревни, где находилось правление колхоза, в бухгалтерии которого работала моя сестра Валя. В Подсвилье я прибыл ночью, разыскал правление – знал что Валя там и ночует, спит на канцелярском столе в комнатушке бухгалтерии. Разбудил. А утром мы пошли с ней заснеженной лесной дорогой в Кубличи. По дороге сестра рассказала о своей обиде на власти, о том, как ее обманули.
Летом 45-го года ее и других колхозниц послали в Восточную Пруссию, откуда женщины должны были пригнать огромное стадо коров. Больше месяца гнали они это стадо, пасли и доили по дороге, стерегли пуще глаза каждую корову, а сами терпели лишения, голодали и холодали. Но было за что терпеть – женщинам обещали, что с ними расплатятся коровами. Валя радовалась – снова у нас будет коровка (нашу Окулярку в 43-м съели партизаны). Но когда пригнали стадо, оказалось, что все коровы до единой нужны колхозу для развития племенного животноводства. Погонщицы остались с носом.
Дома была та радость, что все живы, что не сожгли хату – уцелела. А хлеба нет, и, понятно, молока нет. И мяса. Есть немного семенного картофеля, приходится его расходовать на еду, но скупо, чуть ли не по картофелинке. Не осталось даже кур, которые до войны были главной статьей нищенского семейного бюджета.
Вечером пришли односельчане, недавние партизаны, рассказывали, как пережили войну. Сколько горя хлебнули, сколько обид натерпелись! От немцев, от партизан, от «народников» (активистов БНС). В том числе и от некоторых из своей же деревни, особенно от тех из них, которые до войны были советскими активистами и во время войны постарались услужить оккупантам. Что ж, всем хотелось жить. Как нашему довоенному председателю колхоза Егору. В начале войны он попал в плен, оказался в лагере под Лепелем.[136] Пленных, которые были родом из здешних мест, немцы поначалу отпускали домой. Нужно было только доказать, что ты местный, а доказательством были жены, которые приходили в лагерь за своими мужьями.
За Егором тоже пришла жена, но он отказался возвращаться домой, сказал, что дома на него сразу донесут немцам, скажут им, что он коммунист, и его шлепнут. А тут его почти никто не знает: «Может, пересижу здесь войну». Не пересидел – загнулся в том лагере.
Из моих друзей школьных лет не осталось никого – кто погиб в партизанах, кто в полиции (в полицию мобилизовывали силой в начале оккупации), кто был убит на фронте, а тех, кто не был ни в партизанах, ни в полиции тотчас, после освобождения забрали в армию и отправили на фронт. Некоторые из числа этих хлопцев, уцелевших на фронте, оставались в армии, продолжали служить. Были среди молодых моих односельчан и такие, кто прошел все круги ада: мобилизацию в 41-м, плен и концлагеря, освобождение из них в 44-м и снова фронт, а после фронта – вновь лагеря. На этот раз в другой стороне – в Сибири и на крайнем Севере…
Съездил в Ушачи – надо было стать на временный учет в военкомате. До райцентра меня подвезли, а назад возвращался пешком, ночью. Еле дошел, и не замерз лишь потому, что в Ушачах выпил со своим когдатошним приятелям Мишей. Он, как тот мой однокашник по Саратовскому училищу, еще в армии позаботился о своей послевоенной карьере и теперь работал в райкоме партии. Он был старше меня, более опытный, а главное – оглядчиво предусмотрительный. Эта черта проявилась в нем еще когда мы были подростками: взяв в руки районную газету, он начинал чтение с передовой статьи, я же неизменно с четвертой полосы, где печатались зарубежные вести. На передовицы никогда не обращал внимания.
Мой приезд на родину после семи лет «небытия», конечно же, не мог не привлечь внимания местного НКВД. Стали захаживать тутошние сексоты, которым было очень любопытно, где я был во время войны? Не был ли в плену? А одна из любопытствующих мне сказала: «А я тебя видела[137] при немцах!..» Спрашиваю: «Где ты меня видела?» – «Не помню, где, но, кажется, видела. Ты еще в такой пилоточке был, в немецкой…»
Очевидно, были среди моих односельчан люди, которым было что скрывать. Но я свою войну прошел хотя и далеко отсюда однако всю при свидетелях. В плену я не был, на оккупированной территории не проживал. (А вот моему довоенному другу Коле не повезло: чуть ли не всю войну был в Заксенхаузе, работал в Австрии на шахтах. После освобождения из немецкого концлагеря попал на фронт, где и пробыл весь заключительный этап войны. Демобилизовавшись, домой не вернулся, а подался в Латвию, в Ригу, где живет и поныне. Спокойно, в достатке и без особых проблем. Знал Коля, что домой лучше не возвращаться…)
Отец спросил, какие у меня планы на будущее? Я сказал, что хочу уволиться из армии и вернуться в Беларусь. А он говорит: «Стоит ли? В армии хотя и трудно, однако кормят. А здесь? Доедим бульбочку – и голод. Как до войны. Теперь на своей полоске не посеешь, – не то, что во время оккупации. Уже и межи запахали…»
Возвращался я в Николаев с горьким чувством разочарования, осознавая с острой болью в душе, что не нашел на родине успокоения от пережитого на войне, не обрел душевного равновесия. Всё вокруг казалось неуютным, колючим, вся окружающая жизнь – не пригодная для счастья ни во время войны, ни в дни наступившего мира. Совсем не такой представлялась она мне в тот день, когда окончилась война. Мир безжалостно ткнул меня мордой в вонючую колдобину жизни. И как же мне выбираться из этой колдобины?
Смятение души усугублялось еще и тем, что там, в Николаеве, была у меня девушка, на которой я собирался жениться. У нее была квартира, родственники, все они работали на судостроительном заводе, на котором, говорили они мне, и я мог бы устроиться после демобилизации. Но у меня и в мыслях не было оставаться в Николаеве – я твердо решил возвращаться на родину.
Но мог ли я взять с собой ту девушку? Где мы будем жить, у кого? Где будем работать?[138] И намерение мое жениться на той девушке постепенно угасло, как угли в пепле отгоревшего костра.
В унынии и полной растерянности я приехал в Николаев.
Весной, аккурат в канун Первомая, пришел приказ о моем увольнении в запас. К тому времени я уже как-то примирился с мыслью, что из армии мне в ближайшем будущем не вырваться, что придется служить. И вот – на тебе! Снова, как это было и раньше, и позже, перемены в моей жизни случались внезапно, нежданно-негаданно, и как раз тогда, когда я меньше всего был к этому готов. Сразу же встал вопрос: куда ехать? Разумеется, на родину, Беларусь, но куда конкретно? К родителям, в колхоз? Нет смысла. А куда еще? Где найти пристанище хоть на первое время?
Поехал в Минск. Раньше я в нем не бывал, и то, что я там увидел, ошеломило. Город лежал в развалинах. На какой-то уцелевшей улице я разыскал Союз художников, председателем правления которого был тогда Иван Осипович Ахремчик. В Союзе художников мне разрешили позвонить ему по телефону домой. Я сказал, кто я, напомнил, что учился когда-то у него в Витебске и хотел бы продолжить учебу. Он сказал, что пока художественное училище не работает, его, в сущности, просто нет, а когда оно будет воссоздано, сказать трудно, – правительство еще не решило, когда ему быть и где – в Минске или в Витебске. Еще он сказал, что в Минске жить очень нелегко: «Вам нет смысла здесь оставаться. А вот в некоторых областных центрах есть отделения художественного фонда и неплохие коллективы художников. Например, в Бресте и в Гродно. Советую вам поехать либо в Брест, либо в Гродно, там вы найдете работу и жить там вам будет легче, чем в Минске. А со временем, может, и училище откроется, тогда и подумаем о вашей учебе». Поразмыслив, я решил последовать совету Ахремчика. Как раз в День Победы выехал поездом в Гродно – город, в котором у меня не было ни одного знакомого, ни одной близкой души. Кто мог знать, что этот город станет моим приютом на долгие годы, частью моей судьбы?[139]
Город мне понравился с первого взгляда. Не столь уж разрушен, только в центре несколько зданий лежали в развалинах Явно «западный» облик, черты Средневековья – в старинных зданиях, костелах, в каменной брусчатке мостовых Два старинных замка. Один из них над Неманом. Архитектура хотя и «западная», в то же время какая-то очень своя, белорусская. Это сразу легло мне на сердце радостью, повеяло чем-то милым, чего никогда не было на чужбине, в далеких западных городах. Полдня бродил по улицам, присматривался, но зайти куда-нибудь не решился. Первую свою гродненскую ночь провел на вокзале. Утром отправился разыскивать мастерскую художественного фонда.
Мастерская находилась в центре, на улице Клары Цеткин – небольшая комнатенка в старом доме. За единственным столом сидел лысоватый мужчина в светлом костюме с орденом Красного Знамени на лацкане пиджака. Это был руководитель гродненских художников Виктор Морозов, недавний командир противотанковой батареи, который, демобилизовавшись, осел в Гродно. Здесь же, в комнатенке, находился старый художник Дежка, страдавший болезнью Паркинсона, – голова у Дежки всё время тряслась. Затем пришли седовласый, вальяжный Игорь Васильевич Семенов, черноволосый, цыганистый Ваня Пушков, тоже бывший артиллерист. Пришел также Александр Кох, воспитанник Варшавской академии художеств, обликом и манерами типичный шляхтич. Кох сводил меня к себе на квартиру, где его жена, милая гродненская полька, напоила меня молоком с краюхой ржаного хлеба. Словом, со всеми своими новыми знакомыми я сразу нашел общий язык, и, чтобы закрепить наше доброе знакомство, мы вечером отправились в ресторан, который, конечно же, назывался «Неман», – как же иначе, если город стоит над Неманом! Денег у меня было немного (выходное пособие), а после ресторана не осталось почти ни копейки. Зато я приобрел друзей, которые устроили меня в занеманском районе города на квартиру к добросердечной, душевной женщине. Звали ее Марья Ивановна. На долгое время она стала для меня как бы второй матерью.[140]








