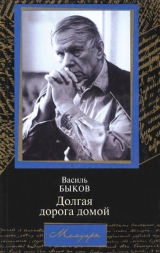
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
После этого форума я еще не раз посещал Западный Берлин, вплоть до разрушения Берлинском стены. С каждой поездкой были связаны свои проблемы. Прежде всего – транспортные.[363] Город почти всё время находился в жесткой блокаде. Аэропорт «Шенефельд», как известно, находится в его восточной части, принадлежавшей ГДР, поездом попасть тоже было невозможно. Приходилось обращаться в советское посольство, просить помощи. Но посольские работники совсем не заинтересованы были в моих поездках. Вследствие этого я с чемоданами тащился пешком. А тут еще правила перехода стены-границы всё время усложнялись, и иногда меня с пропускного пункта возвращали назад. Однажды – правда, уже в годы перестройки – нас с Анатолием Кудравцом почти нелегально перевезла жена Хойбнера – храбрая француженка Мишель. Вернуться же после трех-пяти дней гостевания в Западном Берлине было еще труднее: никакой транспорт в восточную часть города не ходил. Тогда перед отъездом я шел к советскому консулу Быкову и просил дать машину. Возможно то, что мы оказались однофамильцами, сыграло известную роль, но консул благоприятно отзывался на мои просьбы, и на следующее утро меня привозили в аэропорт «Шенефельд». Впоследствии, однако, Быкова перевели в Москву, где он умер, не дожив до сорока лет. Больше в генеральное консульство я не обращался.
Обычно мы с Кудравцом поселялись в западноберлинской гостинице «Богота» – недорогом и нешикарном отельчике, который находился почти на Курфюрстендамм, которая вела к Кудаму с его известным храмом, напоминающим о трагедии минувшей войны, – Гедахнискирхе. Отельчик этот со временем мне очень понравился: удобным было месторасположение, хорошим – обслуживание. Приезжая несколько раз подряд, ты уже становился здесь другом или по крайней мере добрым знакомым, тебя узнавали и радостно улыбались при встрече. Именно тогда мне вспомнилось давнее свидетельство Хемингуэя, который писал, что стоит при отъезде дать испанцу-портье несколько долларов, как в следующий раз, будь это через год или через три, если ты вернешься, тебя узнают и примут как лучшего друга. Здесь, в «Боготе», мы не давали ни одного доллара (их просто не было), но нас действительно узнавали и привечали. И не испанцы, а немцы. Это ведь тоже кое-что значило.[364]
В день приезда или на следующий день начинались встречи – в бюро Акции, находившемся около вокзала, в клубах – с молодежью, со студентами Свободного немецкого университета. Встречались и с активистами этой пацифистской организации в Кройцберге и в некоторых других районах города. Иногда, особенно вначале моего сотрудничества с Акцией, я принимал участие в деятельности руководства евангелической церкви на Ванзее, в чудесном зеленом пригороде Западного Берлина. Даже выступал как-то на протестантском молитвенном собрании, а после вместе с уважаемым епископом Шарфом любовался белорусскими танцами в зеленом театре.
В Западном Берлине были организованы мои встречи с читателями. Однажды встретился со студентами Свободного университета. В небольшом кафе, уставленном дюралевыми столиками, собралось человек 50 студентов. Сидели, пили пиво и колу, я что-то рассказывал, отвечал на вопросы. Был и такой: «Что такое Беларусь? Где она находится? В Сибири или поближе?» Один молодой человек, изрядно поддатый, набросился на меня с бранью: «Почему вы ввели танки в Прагу?» Я пытался что-то объяснить, но парень не унимался. Тогда из-за столика поднялся здоровенный юноша, настоящий атлет, взял скандалиста за шиворот и выставил за дверь.
Когда встреча закончилась, я поинтересовался, кто он, тот здоровила? Оказалось, американец из Оклахомы. Он не за советские танки, но не любит пьянчуг и наркоманов.
А в другой раз, в городском районе Кройцберг, ко мне подошел хромой, пожилой уже человека и на ломаном русском языке спросил, как теперь живется белорусам в Мозыре и Пуховичах? Оказалось, он знаком со многими белорусскими городами и деревнями – воевал на нашей земле. Что с ногой? Ранение. Операцию сделали в плену, оперировала «арту-юде». Плохо прооперировала, на всю жизнь остался инвалидом. Но он не в обиде – ни на «юде», ни на Гитлера, каждый делал свое дело. Важно, чтобы делать его профессионально.[365] К сожалению, профессионализма теперь не хватает очень многим. «Странная философия», – подумал я. И спросил, чем занимается уважаемый ветеран, какая у него профессия? Он сказал, что теперь – на пенсии, а до того был школьным учителем. Преподавал математику. В том числе высшую.
Все немцы, с которыми я познакомился и подружился, очень уважительно относились к белорусскому народу, искренне сочувствовали ему в беде, которую он изведал в результате гитлеровского нашествия. О страданиях, испытанных им в годы власти большевиков, о чем я рассказывал без утайки, высказываться воздерживались, но я чувствовал, что и в этом они на моей стороне. Языковой барьер преодолевался более или менее успешно. Так, в разговорах с Хойбнером мы пользовались довольно сложной «трасянкой» из трех языков – русского, немецкого и польского. В других случаях переводчицей служила Ирма, студентка, приехавшая в Западный Берлин из Риги. Эта девушка была умна, образованна, неплохо ориентировалась в немецкой истории и политике, она посвятила меня во многие их особенности и тайны. Несколько позже Ирма вышла замуж, родила ребенка и, к сожалению, перестала сотрудничать с Акцией. Переводить стала наша землячка из Минска – Лена Пренц, которая училась в Берлине.
Мои немецкие друзья познакомили меня с некоторыми весьма любопытными текстами, к которым я не имел доступа на родине. В книге одного из ранних сотрудников Гитлера Раушнинга, который записывал для истории высказывания фюрера, я сразу обратил внимание на такой пассаж: «Между нами и большевиками больше сходства, чем различия. Я дал распоряжение, чтобы бывших коммунистов беспрепятственно принимали в нашу партию». Весьма характерным показалось мне и другое свидетельство – доктора Ламмерса, тоже одного из гитлеровских приближенных. «Национал-социализм, – говорил Гитлер, – это то, чем мог стать марксизм, если бы освободился от своей абсурдной искусственной связи с демократическим устройством. Революционное учение – вот секрет новой стратегии. Я учился у большевиков. Я не боюсь говорить об этом».[366]
Несомненно, и Сталин учился у фашистов. Некоторое время они действовали согласованно, пока не вступили в жестокое единоборство. Как пишет свидетель, на этот раз близкий к Сталину, тот, когда узнал о самоубийстве Гитлера, стоя у окна своего кремлевского кабинета, раздумчиво произнес: «Доигрался подлюга! А сколько славных дел мы могли бы совершить вместе…»
К счастью, не совершили! Не всё в мире было разделено между красными и коричневыми, оставался свободный мир, который и стер с карты коричневую половину. Красная пока еще оставалась.
После объединения Германии финансовые дела Акции стали ухудшаться, бюро вынуждено было переехать в самый дешевый район Берлина. Но организация упорно не хотела отказываться от сотрудничества с Востоком, в том числе с Беларусью. Каждый год присылала волонтеров-альтернативщиков. Молодые люди месяцами работали санитарами в Новинках и Боровлянах, изучали язык – к сожалению, преимущественно русский. Один только молодой человек очень удивил меня в Берлине, когда сказал десяток белорусских слов, которым научила его пожилая санитарка в Боровлянах. Руководил волонтерами всё тот же Кристоф Хойбнер. Вот только стихов он стал писать меньше: работа и повседневные заботы отвлекали от поэзии. Кристоф часто бывал в Беларуси и Польше, стал шефом немецкого культурного центра в Освенциме. А жил он в старом фешенебельном районе Западного Берлина. В его доме хозяйничала жена – красавица-француженка Мишель и подрастали два славных паренька, которые уже в школьные годы свободно говорили по-французски и по-английски. Помню, младший Нема, как-то спросил: «Герр Быков, какой марки ваш хунд?» (То есть, какой породы моя собака.) Это очень рассмешило меня: в одной фразе прозвучал отголосок соприкосновения разных языков и цивилизаций.
Однажды поздней осенью ехал в Германию на какое-то мероприятие Евангельской церкви. Не дойдя до польско-немецкой границы, поезд неожиданно остановился на какой-то неприметной станции. Проводница объявила, что поезд[367] дальше не пойдет, в Германии забастовали железнодорожники. В вагонах выключили свет и отключили отопление. Пассажиры стали разбредаться кто куда, искать какой-нибудь другой транспорт. Я остался один в холодном купе, не зная, что мне делать. Прошло, должно быть, часа два. И вдруг слышу знакомый голос: «Где есть Василь Быкофф?» Да это же мой Кристоф! Откуда он взялся в этом польском захолустье? Оказалось, приехал за мной на своей машине из Берлина, узнав, что мой поезд застрял. Мы обнялись, я был приятно удивлен и бесконечно обрадован. Взяли еще одного неприкаянного пассажира – ленинградского ученого, который, как и я, маялся в пустом вагоне, и поехали.
Во Франкфуртена-Одере подхватили Людмилу Корбут, мою землячку, которая всё из-за той же забастовки не могла добраться до Берлина, где она жила. С Кристофом Людмила была давно знакома, они дружили. Со дня того совместного путешествия в машине Кристофа и я подружился с Людмилой, а затем и моя жена. Людмила хорошо знала немецкий и благодаря этому не раз нас с женой выручала, ходила с нами в эмиграционное ведомство, помогала заполнять всевозможные анкеты. Позже она была нашей гостьей в Виепесдорфе. Жизнь ее сложилась не очень счастливо, и, может, потому она была отзывчива, считала своим долгом помогать людям. Как и ее немецкий друг Кристоф – наш общий лучший друг.
Всякий раз, когда в Минске появлялись немцы, привозимые Хойбнером, возникали трудности с устройством их в гостиницах. Этим занимались мы с Анатолеем Кудравцом (который успел к тому времени опубликовать в «Немане» несколько переводов его стихотворений). Гостей иногда устраивали мы сами, в некоторых случаях приходилось обращаться к Ваницкому. Хойбнер и его друзья были довольны. Он, в свою очередь, пригласил нас на несколько выступлений в Берлин и некоторые другие города ФРГ. Мы выступали на молитвенных собраниях евангелистов, давали интервью газетчикам. Я встречался с политиками, депутатами бундестага. Дважды беседовал с нынешним министром обороны, а тогда просто депутатом Шарфингом, был принят премьером земли Нижняя Саксония Шредером. Все они живо[368] интересовались положением в Беларуси, выражали готовность помочь ей.
Помощь эту получали у нас многие. В особенности, когда речь шла о детях. Сошлюсь на близкий мне пример. Последствия Чернобыля резко сказались на здоровье внучки Анатолия Кудравца, она серьезно заболела. Хельга Сибаи, о которой я уже писал, сделала так, что шестилетняя девочка с матерью смогла поехать на лечение в городок Исни (земля Альгой). Это помогло, хотя и не сразу.
В Германии наш милый гид Кристоф Хойбнер старался показать нам разные стороны немецкой (западной, буржуазной) жизни, знакомил с тамошней культурой и бытом. Мы с Кудравцом только смотрели и помалкивали. Лишь вечерами, в гостинице, оставаясь наедине, скупо выражали свое удивление и восхищение. Организовать для Кристофа такую же поездку по нашей родине мы не решались – не хотели, чтоб он увидел слишком уж явный контраст. Тогда казалось, что поступаем правильно, поскольку неизвестно было, как отнесся бы он, обнаружив этот контраст, не изменил бы отношения ко всем нам. Хотя, как выяснилось вскоре, он и так всё знал и видел. Но, будучи человеком деликатным, не давал нам этого понять…
Благодаря Хойбнеру мы объездили значительную часть Западной Германии, побывали в Дортмунде, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне. Как-то (это было уже в конце существования восточногерманского государства) он неожиданно спросил: «Не хотите ли вы выпить гэдээровского пива?» Мы, понятно, не отказались бы. Но как это сделать? Тогда еще стояла печально-знаменитая Берлинская стена, около которой несла круглосуточную вахту бдительная стража. Тогда Кристоф повез нас в предместье Берлина Ванзее, в котором густые заросли на старом кладбище прикрывали узкий пролом в стене. Мы протолкнулись через него и оказались уже в ГДР, на окраине деревни. Затем нашли гаштет – местный кабачок, где и выпили по кружке восточногерманского пива, расплатившись западногерманскими марками. А когда тем же путем возвращались назад, написали на стене фломастером: «Здесь были два белоруса и один немец». Поставили[369] дату и втроем расписались. Этого знака белорусско-немецкой дружбы давно нет, как нет и самой стены, и западные немцы свободно ездят на своих «фольксвагенах» в ту деревню если у них возникает желание выпить именно в ней кружку-другую пива. Что ж, в добрый час!
Поселившись в Минске на Танковой, я не сразу познакомился со своими соседями. Прошло некоторое время, пока я узнал, кто живет со мною рядом, на одной площадке. Несколькими этажами выше находились мастерские художников, но я не был знаком с ними. Те живописцы и графики, с которыми встречался прежде, жили в других местах – преимущественно в новом доме на улице Сурганова. Поэтому немного удивился, когда меня вдруг пригласили по телефону зайти в одну из комнат на двенадцатом этаже.
Там была мастерская художника-графика Евгения Кулика, которого я иногда встречал во дворе. Всегда одинокий, болезненный, сгорбленный, он неторопливо шел из магазина или в магазин, вежливо здоровался, но не больше. Разговоров между нами не возникало. А в этот раз он гостеприимно встретил меня, попросил сесть и сказал, что есть дело. Кроме него в мастерской были Микола Купава и еще кто-то незнакомый. Мне сказали, что художники написали письмо в Москву по поводу бедственного положения белорусского языка и теперь собирают подписи под ним.
Я бегло прочитал письмо. Оно не отличалось новизной. Таких писем писалось немало, и всё впустую. Потому что дело ведь совсем не в том, что белорусский язык гибнет сам по себе. Партийное руководство знало об этом не хуже наших интеллигентов. Может быть, даже лучше, чем они, потому что владело всеми фактами и цифрами. Но как оно к этому относилось? Когда интеллигенты плакали, партийцы радовались, так как это было то, к чему направлялись их усилия. А именно – к окончательной победе коммунизма в одной, отдельно взятой стране, с единым языком, единой верой и единым руководством – ленинским ЦК… Важно было только сохранить в секрете широко проводившийся лингвоцид,[370] не разрушить психологический комфорт высокого начальства в этом вопросе. А тут какая-то горстка художников и писателей лезет со своим письмом…
Об этом, разумеется, знали авторы писем-жалоб в различные партийные инстанции. Потому что писали не в первый раз. Но упорно повторяли свои попытки достучаться до них – ничего другого им не оставалось. А что-то делать было совершенно необходимо. Хотя бы для очистки совести, для того, чтобы показать пример последующим поколениям, которым предстояло идти тем же путем. Чтобы существовал прецедент в прошлом. На какой-нибудь успех в настоящем мог рассчитывать разве что законченный дурак.
Я подписал письмо, через день-другой появились и другие подписи, и художники послали его в Москву – Горбачеву.
Вопросы, связанные с языком, волновали меня всегда. Еще за год до посылки письма напечатал в «Известиях» статью в его защиту, а затем на эту же тему выступил в прямом эфире московского телевидения. Тогда моим коллегой в студии НТВ был известный украинский писатель Владимир Яворивский, и мы вдвоем обращались к российской интеллигенции с призывом помочь нам защитить национальные святыни. Призывы эти, к сожалению, не были услышаны.
Те же вопросы остро ставил не я один. Так, Зенон Позняк опубликовал в эстонском журнале «Радуга» аргументированную статью, посвященную лингвоциду в Беларуси. Эта тема громко звучала в статьях и выступлениях Нила Гилевича, Рыгора Бородулина, Анатоля Вертинского и других наших писателей. Но письмо, о котором идет речь, впервые было адресовано непосредственно генеральному секретарю ЦК КПСС.
Ни на что не надеясь, мы всё-таки с нетерпением ждали ответа. Одни даже начали высказываться насчет того, что теперь, мол, язык узаконят, заставят руководство говорить по-белорусски, другие не могли сдержать кривых усмешек. Кое-кто считал, что если бы Машеров не погиб, он вернул бы родной язык в конституцию БССР. Но как он мог сделать это, если сам его оттуда исключил? Да и вообще неизвестно, знал ли он хоть одно белорусское слово?[371]
Как раз в это время в Минске гостила группа космонавтов. Тогда же в столицу приехал старый Пономаренко. На встречу с ними в дом, что в Войсковом переулке, были приглашены деятели культуры, позвали и меня. Я несколько удивился – зачем? Космос меня никогда не увлекал, я знал лишь немногих космонавтов. Но на встречу всё-таки пошел. Там были Климук, Коваленок, Терешкова с дочкой, еще кто-то. Гостей, как положено, посадили на почетные места за столом. Начались тосты и разговоры. Через некоторое время чинный порядок встречи был нарушен, участники сами собой разделились на группы «по интересам». На одном конце стола космонавты, окруженные восхищенными дамами, выдавали соленые анекдоты, а на другом – что-то тихим голосом рассказывал Пантелеймон Кондратьевич. Я прислушался. Похоже, в который раз озвучивалась старая басня о том, как он, Пономаренко, ордера на арест белорусских писателей заменил у Сталина на ордена для них. По его словам, сделать это было довольно сложно и небезопасно: сам вынужден был тайно добираться до Москвы через Слуцк и Бобруйск, долго добиваться приема у Сталина. Тот якобы спас от Берии славу белорусской литературы – Янку Купалу, Коласа, Бровку с Глебкой. Рассказ старого партийного босса имел успех. Кто-то тут же предложил тост за здоровье Пантелеймона Кондратьевича. После этой встречи в газетах был воспроизведен рассказ Пономаренко, расписан его «героический поступок». О нем не раз упоминал в своих выступлениях Борис Саченко (он вскоре напечатает статью, в которой сообщит о том, что «незавязанные шнурки», а не кагэбисты виноваты в гибели Янки Купалы). Пономаренко при жизни становился благороднейшим лицом белорусской истории.
Прошло не так уж много времени, и наступило отрезвление, и померкла героическая аура, созданная вокруг Пономаренко. «Ученый крот» откопал в бездонном партархиве засекреченные ранее письма тогдашнего партийного вождя Сталину. В них белорусский гаулейтер слезно просил разрешения как можно скорее арестовать националистов и врагов народа Янку Купалу, Якуба Коласа и еще некоторых других[372] вредителей, «мешавших успешному строительству социализма в БССР». Почему Сталин не удовлетворил эту просьбу – неведомо. Но вряд ли в этом есть хоть какая-то заслуга Пономаренко.
Как известно, бумажка в современной бумажной цивилизации – большая сила. Не горят не только рукописи – не горят порою и доносы. Это, несомненно, способствует выявлению истины, к чему стремится литература. По крайней мере – должна стремиться.
Между тем ответа на письмо, посланное в ЦК КПСС, не было довольно долго. Как вдруг – новость: из Москвы приехала комиссия разбираться с проблемами языка в Беларуси. И очень скоро нас начали вызывать по одному и секретно (как тогда было принято) в особый кабинет, находившийся в здании ЦК. Там сидели два надутых чиновника со Старой площади и приткнувшийся к ним Иван Антонович. Разговор с самого начала сводился к тому, что подписанты не разобрались в поднятом ими вопросе, частные факты («фактики») посчитали типичными, в результате чего написали неправду, возвели поклеп на партийную политику в Беларуси. В действительности же белорусский язык в республике функционирует нормально и успешно развивается, общие тиражи газет, печатающихся на этом языке, в сравнении с прошлой пятилеткой увеличился на … процентов, 80 процентов всех школ – белорусскоязычные. «Да нет же ни одной белорусской школы!» – не выдержал я. Чиновник, выкладывавший мне всё это, сразу же умолк. Видно, не привык, чтоб ему возражали, тем более, чтоб перебивали его. Помолчав, сказал, что на следующий день они поедут по областям и на месте познакомятся, как обстоят дела с языком.
Через несколько дней меня вновь вызвали в ЦК. На этот раз Антоновича в кабинете не было, за столом сидели лишь москвичи. Один из них бодро сообщил мне, что на Гродненщине они зашли в первую попавшуюся по дороге школу, и школа эта оказалась целиком белорусской. «Какая это школа? – поинтересовался я. – Наверно, в Гудевичах?» Чиновник в замешательстве уставился на меня: «А вы откуда знаете? Кто вам сказал?» – «Кому же неизвестно, где[373] у нас белорусская школа напоказ? В Гудевичах! Там и учитель такой есть – Белокоз, белорусский энтузиаст…» Мои собеседники заглянули в свои записи – да, действительно, Белокоз…
Мне показалось, что я им что-то испортил – благоприятное впечатление, что ли? Или я ошибался? Ведь разыгрываемый ими спектакль вряд ли можно было чем-нибудь испортить…
Как и следовало ожидать, письмо наше осталось без последствий, в языковой проблеме ничего существенно не изменилось. Борьба за ее решение давно уже приобрела хронический характер. Она то разгоралась, то затухала, не принося сколько-нибудь ощутимых результатов. Но на этот раз хоть никого из подписантов не посадили, не уволили с работы. Чувствовалось, приближаются новые времена, и это вселяло надежду.
Летом, после Купалья, появилась возможность поехать в Италию. Как я мог не воспользоваться такой возможностью? Со времени давней поездки в Рим страна эта была для меня желанным солнечным праздником. Приглашала мэрия города Терни, столицы провинции Умбрия. Ехать предстояло втроем. Кроме меня, в нашу группу входили Дейнеко из Товарищества дружбы и известный уже Иван Иванович Антонович из ЦК.
В накаленном летним зноем аэропорту имени Микеланджело нас ожидал живой и разговорчивый итальянец Джорджио, который на новенькой «Альфа-Ромео» повез нашу группу в Терни.
Летняя Италия даже через стекла мчащегося автомобиля выглядела чудесно, сказочно. По новой автостраде Джорджио гнал машину со скоростью 120 километров в час. Мимо проносились придорожные деревья и купы кустов с белыми и желтыми цветами. Вдали величественно проплывали хвойные зонты пиний. На склонах опаленных горячим солнцем гор вырастали старинные городки с добротными каменными домами, католическими храмами, древние замки, обсаженные кипарисами виллы.[374] Терни, современный индустриальный город, показался нам менее привлекательным, зато водопад на его окраине, знаменитый Каскадо, оживлявший весь окрестный пейзаж, был несомненной городской достопримечательностью.
Из центра провинции мы с Джорджио поехали на его родину – в курортное местечко Педилюка. Извилистая дорога долго петляла среди белых скал, пока, наконец, ни привела к поселочку, который прилепился к крутому склону на берегу горного озера. Выше по склону можно было разглядеть развалины какого-то замка, а на другом берегу виднелась скульптура Мадонны, словно выраставшая из зеленого холма. Вся эта красота отражалась в тихой озерной воде.
Мы поселились в придорожном мотеле, и Джорджио Бергамини начал возить нас теперь уже на собственном стареньком дизеле, который, увы, слишком часто выходил из строя. То потечет вода из радиатора, то лопнет шина… Мы съездили в Терпи, а оттуда – в усадьбу его приятеля-художника. Тамошний дом, гордо именовавшийся студией, был просто старой мельницей, приспособленной для жилья и работы. Внутри по каменному полу тёк чистый и прохладный ручей. Старый отец художника угощал нас вином и рассказывал, как работает сын. Выяснилось, что по профессии он металлург, а искусство – его хобби. Затем мы съездили в горную деревушку Палина, из которой открывался великолепный вид на широкую, затянутую сизой дымкой долину. Эта деревушка в минувшую войну была партизанской базой, и ее жители очень хотели бы подружиться с белорусскими партизанами.
В Терни довелось присутствовать на открытии белорусской художественной выставки. Это было постыдное зрелище. Полотна 40-50-х годов на темы подъема льняной тресты или заключения договора о соцсоревновании, портреты передовиков производства, развешенные в маленьком зальчике, производили гнетущее впечатление на редких посетителей. Действительно, показывать такие картины в Италии, стране высокого классического искусства, было для организаторов выставки проявлением величайшей самонадеянности.[375] Вероятно, даже они понимали это. Поэтому, когда выставка закрылась, о ней словно забыли, и полотна оказались по существу бесхозными. На родину их доставил всё тот же Джорджио – по собственной инициативе и за свой счет.
Одно из воскресений мы провели во Флоренции. Это была, наверно, самая незабываемая моя поездка. Я увидел подлинную статую Давида на площади перед собором, в котором когда-то встречались герои бессмертного Данте. А во всемирно известной галерее Уффици не сумел сдержать слез перед полотнами Сандро Боттичелли, с которыми по репродукциям был знаком еще в дни моей трудной юности. Полные впечатлений, мы в ближайшей траттории выпили по паре бокалов кьянти, которое с тех пор полюбилось мне на всю жизнь.
Джорджио был для нас и шофером, и гидом, и заботливым хозяином. Этот итальянец стал для меня верным многолетним другом. Почти каждый год после нашей первой встречи приезжал он в Минск – то со спортсменами, то с туристами, то с ветеранами-партизанами. Оказался он и советником итальянской фирмы, занимавшейся реконструкцией автодороги Брест – Москва. Я помог ему наладить сотрудничество с Товариществом дружбы, и Арсений Ваницкий не однажды принимал Джорджио и беседовал с ним за чашечкой кофе. Характерно, что вот с Антоновичем во время нашей поездки в Италию отношения у них были очень напряженными, они почти непрерывно спорили. Дело в том, что Джорджио был итальянским коммунистом, а Антонович, естественно, советским. Это, по-видимому, и являлось причиной часто возникавших конфликтов: всё-таки итальянские коммунисты были иной породы, чем наши.
Мой итальянский друг старался поддержать меня и материально в ту пору, когда у нас разразился политико-экономический кризис, когда с магазинных полок исчезли и продукты, и водка. Звонит как-то Джорджио из минского мотеля: приезжай, мол, за гостинцем, только обязательно на машине. По дороге я всё думал: какой это может быть гостинец, если для его перевозки требуется автомобиль? Оказалось, то был целый ящик кьянти, который Джорджио спрятал под[376] сиденьем своего микроавтобуса. Я удивился: «Как же ты провез?» Мой друг громко рассмеялся: «Итальяно – буно контрабандисто!» Что ж, спасибо тебе, опытный контрабандисто, мы часто вспоминали тебя, когда пили твое чудесное кьянти!
Был случай, когда и я выручил его – в меру моих возможностей. Он считает, что даже больше.
Его сын-подросток попал в мотоциклетную аварию и сломал ногу. Итальянские врачи срастили ее, но после этого нога стала короче другой, здоровой. Требовалась новая операция, которую согласился сделать очень известный в ту пору доктор Илизаров из Кургана. Джорджио повез сына туда, не имея там ни одной знакомой души, не зная языка. Такой энергичный и разворотливый, он почувствовал себя беспомощным. В довершение всего Джорджио обворовали. Без документов и денег он попал в милицию. И тогда вспомнил про Минск и Быкова.
И вот поздно ночью в моей квартире раздается телефонный звонок. Милицейский полковник из далекого сибирского города интересуется, действительно ли я писатель Быков, о котором он недавно читал в газетах? А получив подтверждение, спрашивает: знаю ли я итальянца по фамилии Бергамини, задержанного в Кургане? Понятно, что я постарался наилучшим образом аттестовать курганским милиционерам моего итальянского друга. В конце концов ему удалось достойно выйти из незавидного положения, в котором он оказался не по своей вине. Сына Джорджио оперировали успешно, и я за это горячо поблагодарил доктора Илизарова. А сын моего друга – Стефано – вскоре лихо отплясывал на собственной свадьбе.
Как я уже писал, Джорджио был частым гостем Беларуси и сразу появлялся у меня на Танковой. Как-то приехал с семьей – женой Анной и дочкой Симоной, привозил и своих друзей из Терни, и ветеранов из Палина. Конечно, приглашал и меня с Ириной приехать в Италию – отдохнуть, искупаться в Адриатическом море, на берегу которого у Анны имелось какое-то жилье. Мы были благодарны нашему милому итальянцу, но не поехали. Не поехали и тогда, когда[377] предстояло получить награду от президента Италии, а также премию имени св. Валентина. Неловко было выступать в роли бедного родственника, который надеется на щедрое гостеприимство хозяина. Тем более, что хозяин и сам не из числа богатеев… Гость почти всегда был беден и заботился о том, чтобы не потерять остатки чести, – то последнее, что еще имел.
С середины 80-х годов мои книги довольно часто издавались в Союзе; несколько реже – в Беларуси. Гонорары в рублях были стандартными. Разве что мне как лауреату платили немного больше. Так, за книгу прозы страниц на 500 мог купить «Жигули». Только вот покупать не то что машину, а многое из того, что было необходимо, не представлялось возможности. Товары, пользовавшиеся спросом, тем более повышенным, свободно не продавались. Чтобы их приобрести, приходилось обращаться к властям (главным образом – партийным) или иметь блат в торговых организациях. Правда, Союз писателей обладал некоторыми привилегиями, которые давали возможность его членам покупать, к примеру, автомобили или пыжиковые шапки. Деньги в обществе, организованном и существовавшем на основе планово-распределительного принципа, имели второстепенное значение. Но личные потребности людей входили в противоречие с этим принципом, возникали и проявлялись независимо от государственных установлений. Помню, внезапно и удивляюще возрос спрос на книги (словно в предчувствии скорого прощания с книжной цивилизацией), популярное издание можно было достать лишь по знакомству, таким же путем добывались и подписки на классиков. Западные интеллектуалы тогда завидовали нам, ибо в Европе престиж литературы упал уже очень низко в результате решительного наступления аудиовизуальной культуры, и книга буквально на глазах теряла свою духовную и информационную ценность.
Но произведения наших писателей на Западе еще продолжали издавать. Особенно в социалистических странах. Только в ГДР в переводе на немецкий язык вышло полтора[378] десятка моих книг, немного меньше – в ФРГ, Франции, Италии. Но получить гонорары за них было непросто. Заключение договоров на издание и выплату авторских вознаграждений полностью взяло на себя государство в лице специально созданной организации «Союзкнига». Были определены ставки налога с гонораров. Ставки эти составляли 70 процентов, плюс 30 процентов комиссионных в пользу «Союзкниги». Такая гибкая система давала возможность вообще не платить за некоторые издания (например, «идейно вредные») и целиком присваивать то, что должен был получить автор. Эти средства шли, как стало известно позже, на финансирование заграничных отделений советской разведки, которая в то время уже начала испытывать денежные затруднения. С авторами у нас расплачивались чеками, на которые можно было приобретать товары в специальных магазинах с ласковым названием «Березка». Люди старшего поколения, вероятно, помнят еще эти стыдливо запрятанные в тихих переулках магазинчики, в загадочных витринах которых виднелись рекламные плакаты «Интуриста» с русскими красавицами в кокошниках. Там действительно было что покупать, в особенности, если хватало чеков. Но авторы изданий, выходивших за рубежом, получали их до смешного мало – 50 рублей за книгу, и это считалось еще хорошо. А то платили и по 40, 20 и даже 10 рублей за издание. И всё – по закону, и жаловаться было не принято. Большой «законник» Богомолов попробовал судиться с организациями, обиравшими писателей, и высудил 15 рублей-чеков за пухлый роман, изданный в Чехословакии.







