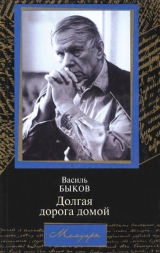
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Карпюк, безусловно, был человеком честным и, возможно, стремился быть честным коммунистом. Но не знал, как им можно быть. И вообще, что это такое – честный советский человек? Если говорить о Карпюке, то он не выносил лжи и терпеть не мог беспорядка. Нигде. Поэтому, сдав в Фолюше свою амуницию, он решил пройтись вдоль ограды из колючей проволоки, чтобы посмотреть, не забыли ли что-нибудь новоиспеченные солдаты при погрузке в машины? И – о, чудо! Увидел в траве три карабина. Привыкший на войне ценить оружие, он взвалил карабины на плечи и понес в каптерку сборного пункта. Но та оказалась уже закрытой: «все ушли на фронт!» Он не мог оставить карабины в лесу и повез их в город, в штаб армии. Там, однако, взять карабины отказались – не нашей части! А уже наступала ночь, и он вынужден был отнести карабины домой. Из дома позвонил мне: «Вот холера, что мне делать?» Я говорю: «За твоим домом течет Вонючка, бухни туда свои карабины, и делу конец». Он меня обругал: «Можно подумать, что ты в армии не служил, не знаешь, что такое оружие!» «Знаю, – говорю, – этим добром засрали весь мир. Только трех твоих карабинов и не хватает…»
Не нашли мы тогда с Карпюком общего языка, едва не поссорились. Назавтра он снова ходил по городу с теми карабинами, пытался их сдать и дождался,[247] что у него потребовали письменного объяснения: где и с какой целью взял и т. д. С трудом выпутался из истории, которую сам и создал.
Интересно, что меня в ходе той мобилизации не призвали. Может, причиной тому был мой двоюродный брат, который, как я когда-то соврал анкете, «проживает на территории Западной Германии». А может, были другие причины. Впрочем, не в пример Карпюку, я туда и не рвался. И был рад, что Карпюка вернули. Те, кто был мобилизован, рассказывали потом, как их в качестве резерва держали на польско-чехословацкой границе в ожидании реакции блока НАТО. Но никакой реакции не последовало. Это вызвало восхищение определенной части гродненцев – ага, испугались могущества нашей Советской Армии! О чехах говорили: свободы им захотелось! Мы вот живем без свободы, но ведь не бунтуем. А им свободу подавай. Еще чего! И так рассуждали не самые худшие и не самые недалекие люди из числа наших знакомых. А может, они только так говорили, а думали иначе? Но какая польза от правильных мыслей, если их нельзя высказать прямо, а приходится выворачивать наизнанку, говорить совсем противоположное? Очевидно, чтобы высказать честную мысль и не навлечь на себя подозрений, надо было обладать изощренным умом. Никто из нас тогда таким умным не был. Мы были слишком простодушны в своим мыслях и прямолинейны в своих поступках, за что и расплачивались.
Сидя в своем офисе в Доме Ожешко, Карпюк прочитал в «Новом мире» воспоминания генерала Горбатова, в которых его внимание привлек не рассказ о военных подвигах генерала и о его, Горбатова, карьере, а скупая фраза о том, что генерал не пьет. И никогда не пил. Пораженный таким чудом, Карпюк сунул журнал в карман и помчался на вокзал. Даже не предупредив жену, сел в московский поезд и утром был в Москве. После долгих переговоров с полковниками Генерального Штаба раздобыл адрес Горбатова, который жил возле Никитских ворот, и отправился к нему. Генерала генштабисты предупредили о госте,[248] и Горбатов, когда Карпюк позвонил в дверь, пригласил его войти. Карпюк представился – белорусский писатель, ветеран войны. Генерал усадил гостя за маленький столик и достал из шкафа граненый графинчик, Карпюк готов был возмутиться и сказал, что в журнале генерал написал, что не пьет. Оказалось, он действительно не пьет, а графинчик – для гостя. Тогда Карпюк горячо пожал генералу руку, радостно сказал, что тоже не пьет. И объяснил, по какой надобности он приехал в Москву. Во всех странах мира есть общества трезвости, а у нас нет. Между тем вред от пьянства… и так далее, и тому подобнее. Поэтому надо обратиться к общественности с письмом, подписанным авторитетными людьми, такими, как вы и я, и создать организацию трезвенников. Текст письма уже готов – вот, прочтите…
Немного обескураженный генерал прочел текст и тяжело вздохнул. Сказал, что дело неплохое, но кто подпишет письмо? Среди его знакомых из числа генералов трезвенника не найти. Может, вы найдете среди писателей?…
Карпюк задумался. Он понимал, что двух подписей мало для такого письма, нужна была третья. Но найти трезвенника среди писателей тоже проблема. И вдруг он вспомнил про Адамовича, который тогда был в Москве на каких-то курсах. (Давно уже стал доктором наук, а всё учился.) Карпюк стал бегать по Москве в поисках Адамовича. Он искал его весь день, до самого вечера, объездил все известные редакции, обзвонил общих знакомых. И узнал, что Адамович сегодня едет в Минск. Карпюк купил билет на вечерний поезд и, когда тот двинулся, начал обход вагонов. Обошел все, заглядывал в каждое купе и возле Смоленска всё-таки нашел сонного Адамовича. Выслушав Карпюка, Адамович сказал: «Я готов вступить в твое общество трезвости. Но с условием развалить его изнутри». И лег спать. Карпюк обругал Алеся и сошел с поезда. Утром он снова был в доме у Никитских ворот и объявил генералу, что третьего трезвенника в России не нашел. Так благородное общество трезвости и не было создано.
Карпюк потом говорил, что зря он связался с военными, тем более с генералами. В своей жизни он не раз убедился,[249] что с этим народом лучше дела не иметь. Во время войны Карпюк командовал партизанским отрядом, потом воевал на фронте, был дважды тяжело ранен, а офицерского звания так и не выслужил. В то же время юнцы, которые приходили в армию из университетов, все были в лейтенантских погонах, звание им присваивали, так сказать, авансом. Иные даже имели награды. Бог весть за что. Карпюк же не смог выхлопотать медаль, положенную ему по заслугам.
Однажды Карпюк написал два письма – одно министру обороны, в котором требовал, чтобы ему вручили медаль «За взятие Берлина», второе – дядьке на Урал. Дядька давно жаловался ему в своих письмах, что живет плохо, с продуктами трудно, просил помочь. Племянник ответил дядьке: брось ты эту, российскую жизнь, приезжай в Беларусь, тут бульбочки хватит. И отнес оба письма на почту. И вот какое-то время спустя прибегает к нему посыльный из военкомата и вручает повестку. Карпюк обрадовался – не пришла ли медаль от министра обороны? Явился к военкому. Тот почему-то глядит волком, затем подает Карпюку какую-то бумагу: «На, читай!» Карпюк начинает читать. «Нет, ты вслух читай», – говорит военком. А там на бланке министра обороны Союза ССР написано: «Приказываю. Параграф первый. Вызвать гражданина Карпюка А. Н. и объяснить ему, что я в родстве с ним не состою, дядькой его не являюсь. Параграф второй. Гродненскому облвоенкому полковнику такому-то за низкий уровень политмассовой работы с личным составом объявляю выговор. Министр обороны, маршал Советского Союза Г. Жуков». «Все понял? – спрашивает военком. – Мне через полгода на пенсию, кто теперь с меня этот выговор снимет? Или мне без пенсии в отставку уходить? Вот что ты натворил, разгильдяй!»
Удрученный, вконец расстроенный Карпюк приходит домой, а там его ждет письмо от дядьки. Химическим карандашом на страничке из школьной тетрадки написано: «Дорогой племянник, ты там совсем рехнулся в этом своем Гродно, – какой я тебе маршал и где я тебе возьму ту медаль? Я в армии и одного дня не служил…»[250]
С дядькой, конечно, отношения наладились, а вот представление Карпюка к присвоению ему офицерского звания накрылось. Карпюк был в недоумении: «Что я такого написал? Я же маршала не оскорбил. Что мне так и оставаться рядовым? В пятьдесят лет. А эти, которые во время войны в живого немца ни разу не выстрелили, уже майоры запаса. Вон как тот Гаврюшка, что самогон на хуторе для комбрига гнал. Теперь он член бюро горкома!..» Не знал Карпюк, что придет время, и этот бригадный самогонщик немало крови ему попортит…
В тот вечер я приехал из Минска, куда ездил узнать, что с моей книгой. Дело в том, что несколько лет издательство «Мастацкая Лiтаратура» волынило с ее изданием, даже не включало в план. Спрашиваю у заведующего редакцией прозы Алеся Божко, в чем дело, а он смотрит на меня невинными глазами: «А где рукопись? Рукописи-то нет!» Года три назад я лично привез рукопись в издательство и в этом же кабинете отдал секретарше. Та поставила ее в шкаф. Бросаю взгляд на шкаф и вижу за стеклом свою рукопись: «Да вот же она!» Божко искренне удивился: «А мы искали, искали!..» Однако книга всё равно вышла не скоро…
Дома, на Кошевого, сидел по приезде у телевизора, время еще было не позднее, и вдруг – удар в окно, стекло – вдребезги, на полу кусок кирпича. Я выбежал на улицу – нигде никого. Назавтра, после невеселого раздумья, пошел в милицию, написал заявление. Заставили переписать, сказали, что будут расследовать. Какое-то время ждал результата, потом махнул рукой. Стал ждать, что последует дальше, и дождался…
К тому времени Карпюк добился от областного начальства, чтобы писателям поставили, наконец, телефоны. Это было сделано. Стало, конечно, удобнее, не надо было бегать звонить из почтового отделения или по автомату: автоматы постоянно были неисправны. Но началась другая беда: стали звонить, не называясь, какие-то люди, по гродненским[251] телефонам, из Минска, из Москвы, и еще черт знает откуда. Это был форменный телефонный террор, явно организованный. Понятно, кем… Телефон трезвонил в любое время дня и ночи, встревоженный, я вскакивал с постели, хватал трубку, и слышал: «До каких пор вы будете подрывать советскую власть?» Или: «Много вам заплатило ЦРУ за клевету на партию и Красную Армию?» Днем нередко звонил Дубовинкин, участливо о чем-то спрашивал, что-то уточнял и ненавязчиво воспитывал. Читал мораль. Ту же мораль несколько раз прочел мне полковник из политуправления БВО, который представился кандидатом наук (правда, не уточнил каких) и активным участником ВОВ. Хорошо поставленным голосом он напористо объяснял, что к военной теме надо подходить очень осмотрительно, чтобы не исказить ретроспективу. Сам он пережил на войне столько, что, если обо всем написать, хватит на «Войну и мир», но он не пишет, потому что нет времени. Всё его время занимает служба, работа по воспитанию советского солдата, патриота своей родины. Я слушал этот вздор и думал: неужели это серьезно? Может, вся эта болтовня – самооправдание человека, который где-то нагрешил и теперь исправляется? Как Яркин из нашей редакции. Он любил «заложить», по пьянке мог набедокурить, и, набедокурив, первым просил слова на партсобрании и пламенно выступал в поддержку очередного постановления ЦК, или обкома, или горкома. Ему было без разницы, кого поддерживать, главное – поддерживать. Это ему засчитывалось и спасало. До очередного эксцесса.
Моя жизнь в Гродно, к которому я привязался, становилась, однако, всё менее привлекательной. Стена отчуждения между мною и коллективом росла всё больше. (Хотя, если подумать, могло быть и хуже.) Я оставался на прежней должности – литературный консультант, но платить мне стали сдельно, только за ответы авторам. За месяц набегали копейки. Друзей там у меня не было, не с кем стало даже поговорить и выпить. Валентин Чекин, с которым у меня была какая-то дружба, «завязал», другие хоть и не «завязали», очень стали осторожничать с этим делом. В редакции газеты, часть тиража которой выходила на белорусском языке, не было[252] слышно ни одного белорусского слова. Все говорили по-русски. Кроме, разве что, литработника Вячеслава Кота, который упорно со всеми, и с белорусами, и с русскими, разговаривал только по-белорусски, что часто вызывало удивление. Но Вячеслав интересовался белорусской литературой, заочно учился в БГУ, где слушал лекции профессора Науменко. После, вернувшись домой, заходил ко мне в кабинет и загадочно, с сочувствием смотрел на меня. Я догадывался в чем дело, но ни о чем не спрашивал.
Иногда в редакцию заходил бывший командир батареи Иван Ущеповский, с которым у меня сложились неплохие отношения и взаимопонимание. Пережив не одно военное лихо и обладая хорошей памятью, он правдиво описал маловеселую страницу войны – гибель нескольких наших армий под Вязьмой и Ржевом, что официальная история войны старательно замалчивала. К сожалению, автору не хватало литературной грамотности, и я, жалея материал, сделал литературную запись, на что потратил зиму. Потом старался пристроить в какое-нибудь издательство, но ничего не вышло, – ни в Москве, ни в Минске рукопись не приняли. Так редкие по своей правдивости страницы об одном из самых кровавых эпизодов войны остались ненапечатанными, о чем искренне до сих пор жалею.
Мало кто из моих знакомых рассказывал о своей войне искренне, не становясь на пропагандистские ходули. Запомнился, однако, фельдшер Хандобкин с его полным самоиронии рассказом о том, как его из Центрального штаба партизанского движения послали к партизанам – пинком вытолкнули из самолета, и он, еле живой от страха, приземлился в «логове зверя». Когда-то нечто подобное рассказывал поэт Анатоль Астрейка, который в начале войны вместе с некоторыми другими белорусскими поэтами жил в гостинице «Москва», где они выпускали газету «Раздавим фашистскую гадину». Астрейка, однако, в газете не удержался, потому что был беспартийный, а там обосновались поэты-коммунисты, которые и досидели до конца войны. За свой героический труд (вдохновляли белорусский народ на борьбу с захватчиками) они были награждены орденами боевого Красного Знамени.[253] Астрейка же, переживший в партизанах не одну блокаду, получил медаль. Воистину, Бог не ровно делит. Тем более начальство – даже жизнь и смерть.
На областных партийных и хозяйственных совещаниях дотошно, со смаком обсуждали «идеологические диверсии» гродненских литераторов. Даже потребовали ответа у секретаря обкома по идеологии А. Ульяновича, который не знал, как оправдаться, но обещал «спустить штаны» с Карпюка и Быкова. Одна очень руководящая дама хотела, видимо, оправдать Быкова таким аргументом: чего же вы хотите от человека, который даже ВПШ не окончил, потому что беспартийный? К тому же пьет. На это ей возразили: но ведь Карпюк окончил институт, даже Высшие литкурсы и не пьет. И партийный. Так куда же смотрит обком КПБ?
Что до выпивки, то руководящая дама не совсем была не права – водился за мной этот грех. Особенно во время поездок на разные писательские мероприятия. Однажды, помню, на пленуме в Москве просидели с одним моим другом весь день в буфете, где, конечно же, пили. И не только пили, но и очень активно дискутировали с двумя украинскими ортодоксами по поводу травли Виктора Некрасова. Спор превратился в злую ссору, и мы ругались (и пили) до самого закрытия пленума. Так и не побывав в зале.
Подобное не раз бывало и в Минске, и Карпюк даже ездил к моим друзьям скандалить, что они спаивают Быкова. Из меня постепенно создавали образ пустоватого бездельника и пьянтоса. Я не разрушал этот образ, я его поддерживал в качестве определенной защиты от того, что могло постигнуть человека ответственного, здравомыслящего и трезвого. И постигло многих.
В центральных газетах появилась статья (или текст речи) начальника Главпура Советской Армии генерала армии Епишева, в которой он наряду с московскими авторами (Евтушенко, Вознесенским, Аксеновым) чихвостил и Быкова. На очередном партийном мероприятии в Доме офицеров, на которое пригласили Карпюка, Алексей сказал со злостью: «Если Епишев генерал, то пусть командует армией, а не лезет в литературу». Эта его реплика вызвала панику среди[254] партийного руководства Гродно. Когда Алексей в очередной раз пошел в обком, его туда не впустили. Назревало что-то не совсем обычное.
В такой атмосфере наступил столетний юбилей Ленина, к которому готовились так, будто настал день окончательной победы коммунизма. В городах и селах проводились собрания, пленумы, ленинские симпозиумы. В Союзе писателей по этому поводу собрали торжественный пленум. Приехали и мы с Карпюком. Я посидел немного и ушел: беспартийные друзья пригласили на угощение. Карпюк записался в число выступающих. А накануне в стране прошел ленинский субботник, репортажи с которого печатались во всех газетах, и Карпюк сделал это темой своего выступления. В конце он сказал: «Мы знаем, как участвовал в субботниках Владимир Ильич, с кем он носил бревна. А с кем носил бревна Леонид Ильич, об этом „Правда“ нам не сообщила. Или, может, Брежнев не участвовал в ленинском субботнике, – пусть нам скажут». Марцелев, который сидел в президиуме, содрогнулся от этих слов и в конце пленума сказал, как бы между прочим: «Что касается выступления товарища Карпюка, то этот человек начинает ходить по головам».
Какое-то время спустя тот же Марцелев и его помощник Гниломедов приехали в Гродно наводить порядок в местном отделении СП. Сперва побывали в обкоме, а потом по одному стали вызывать нас в Дом Ожешко. Первой вызвали Дануту, которая вышла оттуда вся в слезах. Даже не захотела рассказывать, о чем ее спрашивали. Следующим был я. Разговор был обычный: спрашивали о причинах конфликта с местными властями и читали мораль. Когда я рассказал о происках КГБ, Марцелев даже испугался: «А вы что, уже всем рассказали?» «Нет, – говорю, – не всем, но кое-кому рассказал. В том числе и корреспондентам из Москвы и Варшавы». У Карпюка тоже спрашивали о причинах его конфликтных отношений с обкомом, на что Алексей сказал: «Как они к нам относятся, так и мы к ним. Юбилейной ленинской медалью за искусственное осеменение коров Ульяновича наградили, а нас с Быковым за войну – и не подумали».[255]
В конце учебного года в школе произошел конфликтный случай с моим младшим сыном. Позвонила директор школы, очень принципиальная дама с характерной фамилией Сукачева, и потребовала, чтобы я немедленно явился в школу. Я не пошел, сперва решил спросить у своего Василя, что он натворил? Он, естественно, отнекивался, мол, ничего. Но потом всё выяснилось. На ленинском уроке в 4-м классе, когда говорили об Ильиче, мой сын в рифму пробормотал себе под нос: «Ильич – старый хрыч». Это услышала его бдительная соседка по парте и тут же подняла руку, чтобы сказать учительнице. Учительница пришла в ужас, велела моему сыну встать, стала допытываться, как он мог; сын, конечно, не признавался. Дело дошло до директора, доложили в горком и еще куда-то. Раздули политический скандал, потребовали от меня письменного объяснения. Жалея сына, которому грозило исключение из школы, я что-то писал, оправдывался сам и оправдывал его. Всё это было отвратительно и позорно.
Уже мало с кем в Гродно сохранились у меня дружеские отношения. Все знакомые были заняты личными делами, а главное – побаивались слишком близких контактов с опальными писателями. Иногда встречался с Борисом Клейном, в его свободное от работы в институте время. Борис отличался довольно глубоким аналитическим умом, разбирался в политике. Да и в искусстве тоже. (Рассказывал, как когда-то учился в одном классе с Роланом Быковым, а теперь вот судьба свела его с другим Быковым.) Белорусской литературой интересовался мало, но это как кому суждено.
Как-то вечером он пришел ко мне на квартиру, мы посидели немного, и я пошел провожать его. Самую важную часть разговора мы приберегли именно к этой прогулке. Клейн жил недалеко от меня, в центре города, возле тюрьмы. Дошли до его дома, затем обратно. Было уже темно, прохожих на улице почти не было. Когда мы снова вернулись к его дому, у самого подъезда перед нами возникли трое, заступили дорогу. Сперва мы даже не поняли, почему они не дают нам пройти,[256] и вдруг удар по лицу и меня, и Бориса. С него слетели очки, а я сдавленно крикнул: «В чем дело?» И получил второй удар. И Бориса еще раз ударили. Тогда мы закричали на всю улицу. Один из нападавших быстро перешел на другую сторону улицы, где уже стоял третий. Оставшийся у подъезда неожиданно приблизился к нам вплотную, но не ударил, а тихо сказал: «Простите, ребята!» И присоединился к тем двоим.
Я помог Борису найти в потемках его очки. Ошеломленные, мы еще постояли, смотрели, как те трое неторопливо идут себе в сторону тюрьмы. Что было делать дальше? Управление милиции находилось неподалеку, напротив его – управление КГБ. Но мы туда не пошли. Мы вообще никуда не пошли ни в тот вечер, ни назавтра. Мы поняли, чьих это рук дело и что жаловаться – напрасный труд. Опять же не столь уж сильно они нас поколотили: синяков не осталось. Только линзы очков Бориса пришлось заменить, а у меня никаких потерь не было. Оставалось благодарить Бога и ждать новых приключений.
Через день я позвонил в Минск Матуковскому, рассказал, что у нас происходит. Николай Егорович повздыхал в трубку и сказал, что надо мне перебираться в Минск: «В Гродно тебя съедят. Или убьют, что тоже не лучше…»
Однако в Минске, куда я в скором времени съездил, обстановка была не менее мрачная. Кислик с Тарасом рассказали, что в Академии наук разгромлена группа националиста Прашковича, за политику исключили из партии и выгнали из редакции «Советской Белоруссии» Сергея Виноградова, мужа писательницы Вакуловской. В Союзе писателей, куда я забегал, можно было перекинуться словом разве что с приветливым Толей Вертинским, который с давних пор относился ко мне с симпатией. Адамович жил в Москве, учился на сценарных курсах. (Нужны ему были эти курсы! Разве что для того, чтобы сбежать из Минска.) Не мешало бы зайти в «Маладосць», но ее упрятали в здание ЦК ЛКСМБ, в котором был строгий пропускной режим, чего я не выносил. Позвонил Нилу Гилевичу.[257] Этого человека и поэта я уважал давно, прежде всего за его твердую национальную позицию, удерживать которую, однако, ему становилось всё трудней. Особенно всё то время, пока он был беспартийным. С ним за чаркой на его уютной кухне можно было отвести душу, наговориться на родном языке. Что я и делал в последнее время, бывая в Минске.
Как-то в канун весны в Гродно приехал мой ушацкий земляк Рыгор Бородулин. Приехал с молоденькой женушкой, улыбчивой умничкой Валей. В Гродно жила теща Рыгора, но квартира у нее была тесная, и он остановился в гостинице «Неман». Гостиница эта и ресторан при ней издавна связаны были для нас, гродненских старожилов, с «невезухой», вечно там с нами что-нибудь случалось. Не повезло и Рыгору – он отравился в ресторане ужином. В поисках спасения позвонил мне. Специальных лекарств у меня не оказалось, пришлось лечить земляка примитивной марганцовкой. Если из добрых рук, то поможет, шутил Рыгорка, глотая красно-фиолетовую дрянь. И правда – помогло. Мы с ним хорошо поговорили, а потом авансом и замочили его выздоровление. Рыгор был мастак насчет этого дела, и его природный ум становился тогда еще острее. И так чуткий к людям, он в определенные моменты достигал в этой чуткости какой-то подсознательной глубины и проникновенности, интуитивно видел каждого и впрямь насквозь. Он дал исчерпывающую характеристику многим моим друзьям и врагам, и я, слушая его, лишь удивлялся, как же я раньше сам этого не видел. Должно быть, по той причине, что жил на отшибе, в провинции, литературную среду знал мало. А она, эта среда, существовала и функционировала согласно своим внутренним правилам, для посторонних не заметным, не усвоив которые невозможно было что-либо понять. А я наивно думал, что всё дело только в литературе, в достоинствах того или иного произведения. Оказалось, еще и в личности того, кто это произведение написал, в его друзьях-собутыльниках и особенно – в отношениях с начальством.
Однажды в конце рабочего дня в редакции раздался телефонный звонок, заведующий отделом передал трубку мне:[258]
«Тебя!» – «Кто?» – «Не знаю». Беру трубку, называю себя и слышу глуховатый незнакомый голос: «С вами говорит Александр Трифонович». (Я даже испугался, подумав, что это Твардовский, но почему он в Гродно?) Но нет, оказалось, что это другой Александр Трифонович – новый секретарь ЦК КПБ по идеологии Кузьмин. Он хочет встретиться со мной, но неофициально, – может, погуляем вечером по городу, поговорим? Было лето, погода стояла хорошая, можно и встретиться.
Это была первая моя встреча с Кузьминым, человеком, который поколебал укрепившиеся в моем сознании представления о партийных функционерах всех рангов. Мы бродили по тихим гродненским улочкам, неподалеку от старинных замков, и Александр Трифонович раздумчиво рассказывал о своей войне, о том, как он был на фронте летчиком – штурманом бомбардировщика, о том, как его однажды сбили. Рассказывал и о том, как им интересовались особисты, которые шуровали и в авиации. Уцелел он на войне только потому, что был тяжело ранен и его списали. Жизнь на гражданке начал инвалидом, помаленьку стал продвигаться по партийной линии и вот добрел до ЦК. Теперь он руководит идеологией, в которой, однако, ничего не решает, потому что в этой области всё давно решено – раз и навсегда. Насчет освещения войны в моих произведениях он полностью на моей стороне, но как партийный функционер, к сожалению, не может заявить об этом публично. Я только плечами пожимал – что ж, спасибо и за такое признание. Мне никто никогда, даже секретарь парторганизации редакции, не говорил, что он на моей стороне. Хотя тот секретарь тоже ветеран войны, бывший фронтовик. Иные порой говорили в глаза, что они против моих «писаний», большинство, однако, мудро молчало.
После той встречи у меня с ОТК (как называли Кузьмина «за глаза»), установились неплохие, почти приятельские отношения. Чем мог, он старался помочь мне, так же, как и Алесю Адамовичу, который вскоре оказался без работы, когда его изгнали из Московского университета. Да и многим другим Кузьмин старался помочь.[259]
Над нами в Гродно что-то собиралось, сгущалось, нависало. Мы не знали, что конкретно, но чувствовали – добра не жди!..
Как-то на улице я встретил учительницу из Зельвы, которую немного знал. Как водится, поспрашивали друг у друга, как жизнь, как дела. Я сказал, что похвалиться нечем. И она сказала, что весной станет полегче. Что значит – полегче? Учительница рассмеялась: «А может, и хуже станет». – «Кто вам сказал?» – «Карты мне говорят».
Я вскоре забыл о том разговоре, а вспомнил в тот день, когда в редакции объявили – после обеда закрытое партсобрание. Закрытые партсобрания случались не часто, обычно проводились открытые, на которые я, разумеется, не ходил. Карпюк вынужден был ходить, он был на партучете в редакции. Пришел и на этот раз, заглянул ко мне в отдел. Был мрачен, сказал с порога: «Будут исключать». – «Кого?» – «Меня…» Вот это новость, подумал я. За что? Почему? Что случилось?
Скоро стало известно, что…
На собрание пришел представитель горкома, перечислил целый ворох политических прегрешений члена КПСС Алексея Карпюка и поставил на обсуждение предложение горкома – исключить. Карпюка знали в редакции лет, наверное, пятнадцать, старожилы редакции когда-то работали с ним, и мало кто с пониманием отнесся к предложению горкома. Правда, иных отпугивал неукротимый характер Алексея, но его уважали как героя войны, известного на Гродненщине партизанского командира. Когда проголосовали, оказалось, что только три или четыре коммуниста (преимущественно отставники) были за исключение, остальные – за выговор. Представитель горкома свою задачу не выполнил и ушел недовольный. Надо было ждать продолжения.
И действительно, продолжение не замедлило. Через неделю Карпюка вызвали на бюро горкома и исключили единогласно.
В обеденный перерыв я встретил на улице первого секретаря горкома Могильницкого, с которым был немного знаком, и спросил: «За что так строго? Разве Карпюк – преступник?».[260] А он мне отвечает: «Хуже чем преступник». И пошел, не попрощавшись, своей дорогой. Удрученный и растерянный, я думал о том, сколько их, этих секретарей, вершителей наших судеб, побывало над нами? Над каждым определенное время сиял нимб властной силы и святости, казалось, они могут всё. И они делали то, чего от них требовали другие, выше рангом, с еще большим нимбом. В этом они видели чуть ли не единственный смысл своей работы и надеялись, что сделают на этом карьеру, вскарабкаются повыше. Но, случалось, что и сгорали – от чрезмерных стараний, за пьянку или аморалку и уходили в небытие на другой день после того, как вытряхивались из своих кабинетов. Словно их и не было никогда. А на их место приходили другие – тоже с неизменным нимбом партийности, и все начиналось сначала. Что до Могильницкого, то он именно на деле Карпюка вознесся весьма высоко: сел в кресло прокурора республики. Чтобы в свое время низвергнуться с этой высоты и сгореть. Ныне в Гродно не за что зацепиться, чтобы о нем вспомнить. Разве что в связи с позорной расправой над писателем Карпюком.
Но Карпюк был не из тех, кто мог безвольно покориться власти, или врагу, или житейской нелепице. Всю жизнь этот человек стремился оседлать свою судьбу, хотя это и стоило ему огромных усилий и далеко не всегда удавалось. Но и удавалось. Даже во время войны, когда он бежал из концлагеря, когда спасся от расстрела в партизанской бригаде. Да и на фронте ему в целом везло, вряд ли кто-нибудь другой выжил бы после такого тяжелого ранения, какое получил Карпюк. Он – выжил. С его жаждой жизни он мог бы жить еще долго, если бы жизнь эту ему не сократили злоумышленники…
Для Карпюка началась долгая полоса душевных страданий, хождений по инстанциям, по всем этим парткомиссиям с их хищным партийно-партизанским активом. Уж те-то, о ком Карпюк говорил и писал, что они за всю войну ни разу не выстрелили по живому немцу, показали свою принципиальность, – единогласно отвергали все апелляции Карпюка. Синхронно сработали и его коллеги в Союзе писателей: сняли Карпюка с поста секретаря областного отделения.[261] С приказом об этом в Гродно приехал секретарь СП Гречаников, который, однако, послал свое минское начальство на три буквы и до отхода поезда зашился в ресторане, чем вызвал у нас уважение.
Конечно, беда не ходит одна. В то время беды кружили хороводами. Заболела жена Карпюка, учительница Инна Анатольевна. Алексей вынужден был отвезти ее в Боровляны. На руках у безработного писателя остались трое детей. Книги Алексея, которые должны были вот-вот выйти, вылетели из планов. Денег не стало, как не стало и никаких надежд их заработать. Карпюк одалживал у меня, но я тоже был не богат и писал в литфонд заявления с просьбой о единовременной помощи. Чтобы потом отдать деньги Карпюку. Ему литфонд помощи уже не оказывал. Иногда, ближе к вечеру, мы где-нибудь встречались втроем – Карпюк, Клейн и я, обсуждали, как быть, что делать? Клейн советовал не сдаваться – бороться, писать, говорил Алексею: «Правда на твоей стороне». Но кому она была нужна, эта Лешина правда?







