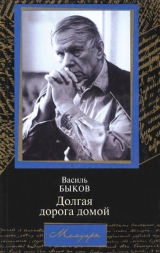
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Вслед за статьей в «Правде» как по команде посыпались резко критические, часто оскорбительные статьи с политическим подтекстом во всех остальных центральных газетах.[217] Обвинения с каждым разом звучали всё более грозно. «Красная звезда» в статье Баранца и Дашкова выбросила свой главный обвинительный козырь – мол, Быков хочет поссорить два извечно братских народа, белорусский и украинский. Ветераны в своих письмах в редакции, как всегда, жаловались на умаление их роли в разгроме немецких захватчиков. Очень скоро к обвинительному хору московских газет подключилась белорусская печать. Пожалуй, дольше других держал паузу «ЛiМ». Провинциальные газеты, которые не могли оперативно организовать собственные статьи против «идеологической диверсии» Быкова, перепечатывали статьи центральных. В том числе моя родная «Гродненская правда». Интересно, что автора били общими словами – за всё, что угодно. За клевету, за принижение, умаление, искажение. Но нигде ни слова не было сказано о СМЕРШе, об НКВД или КГБ. Как будто написанное в повести не имело никакого отношения к этим «органам». Я читал и не мог уразуметь: это нарочно или не понимают?
«Мертвым не больно» объявили безусловной неудачей автора. Но автору важна была не оценка произведения, не отношение к нему начальства, а то, действительно ли это неудача? Это важно было для моих следующих замыслов, потому что, как писал У. Фолкнер, «неудача для меня превыше всего. Начать что-то, что тебе не под силу – ты даже надеяться не можешь на успех, но всё же попытаться и стерпеть поражение, затем попытаться снова. Это для меня удача». Разумеется, я не мог сравнивать себя с Фолкнером, но его опыт был тогда для меня важен. Но, кажется, та «неудача» обернулась для меня чем-то другим. Хотя, чтобы понять и почувствовать это, автору понадобилось 20 с лишним лет.
В результате широкой кампании по дискредитации произведения Быкова автор стал получать множество писем от читателей. Писали из разных городов и сел Беларуси, из Москвы, из Ленинграда и даже из Сибири и Дальнего Востока. Авторы были самые разные: от ветеранов прошлой войны до молодежи и студентов. Значительное большинство писем было в поддержку позиции автора,[218] с выражением благодарности за то, что написал правду. Приходили письма и от писателей, которые были, так сказать, «уязвлены» войной, стали инвалидами и сами писали о ней. Так, по письмам, я познакомился с отличным русским писателем В. Тендряковым, С. Крутилиным, В. Гончаровым из Воронежа, с Д. Гусаровым из Петрозаводска. Все они были благодарны мне и «письменно» жали руку.
Писем собралось два чемодана. Часть я сжег на даче, когда увидел, что письма могут украсть: очень ими интересовались определенные люди. Многие письма перлюстрировались, что было видно невооруженным глазом: на обратной стороне конвертов оставались явные следы горячей отпарки клея.
Некоторые письма перлюстрировались не один раз – в разных инстанциях. Особенно измятыми, захватанными были конверты с моими письмами родителям в деревню (я в то время хранил их в своем архиве). Очевидно, эти письма вскрывались сначала в Гродно, где я опускал их в почтовый ящик, затем в Минске, затем по месту жительства адресата: всюду был интерес к тому, что пишет Быков. Но я давно уже не писал нечего подозрительного, тем более родителям. Как, кстати, и они мне, однако их письма тоже вскрывались. Бандероли (какую-нибудь книгу или рукопись) я получал изорванными, как будто конверт грызла собака. На такой бандероли стоял черный почтовый штемпель: «Поступила в поврежденном виде».
Некоторые письма вообще до меня не доходили – должно быть, подшивались к «делу». Ксероксов тогда не было, а загружать перепечаткой квалифицированных машинисток «органы» не хотели, берегли их пальцы…
Однажды в нашу редакцию, в отдел культуры, явился незнакомый человек и, прощупав проницательным взглядом всех находившихся в отделе, сказал, что ему нужно поговорить с Быковым. Все торопливо вышли, а посетитель показал мне удостоверение, красные «корочки» с крупными буквами – КГБ СССР. Назвал себя: «Подполковник Дубовинкин».[219] Разговор начался с общих вопросов: сколько вам лет? Откуда вы родом? А затем: «Вы, должно быть, понимаете, по какому я делу? Это касается вашего труда, который напечатал „Новый мир“. Надо полагать, по недосмотру, ведь ни один уважающий себя орган не стал бы печатать такой труд».
Беседа, однако, имела все признаки допроса. Подполковника очень интересовали мои ответы на его, в общем, наивные, а то и просто глупые вопросы. Я отвечал сдержанно, мне совсем не хотелось с ним разговаривать, а тем более спорить. В ходе беседы я понял, что гродненские «органы» ничего обо мне не знают, им нужен первоначальный материал, вот они и принялись собирать его таким примитивным для себя способом. Должно быть, приспичило.
Вечером того же дня, без предварительного звонка, ко мне домой пришел Павел. Был он очень озабочен, подавлен, но ни о чем не спрашивал и ничего не сказал. Однако по его подавленности было видно, что произошло скверное, что дела плохи. Не только мои, его тоже. В скором времени, должно быть, в целях изоляции его от Быкова, Павла перевели на работу в самый отдаленный район Гродненщины – Кореличский. (Не для того, чтобы его оправдать, а истины ради скажу, что мой свояк вреда мне не причинил, за что я ему благодарен.)
В Беларусь приехал болгарский писатель Найден Вылчев. Как это обычно делалось, зарубежных гостей после краткого их пребывания в столице везли в провинцию. Вылчева направили в Новогрудок. Он впервые был в Беларуси и, очевидно, не ожидал такого внимания к себе. В новогрудской гостинице его в первую же ночь ограбили, но он даже не сказал об этом хозяевам. Затем его повезли в Березовку, где должны были на Березовском стекольном заводе пройти выступления Вылчева с участием местных писателей Мы с Карпюком тоже поехали в Березовку. Вечер проходил в переполненном зале, всем интересно было не только послушать стихи, но и посмотреть на поэта из далекой братской страны. На обед, устроенный на живописном неманском берегу, съехалось всё березовское и новогрудское начальство, а также гродненское.[220] Закуски и выпивки привезли целую машину «скорой помощи», расстелили на берегу скатерти. И зазвучали тосты – в честь партии, в честь передовиков производства, за расцвет социализма и дружбу народов. Гость сидел молча, о нем, похоже, забыли, особенно после того, когда выяснилось, что он не пьет. Это немного огорчило белорусов, но ненадолго. К вечеру все бутылки опустели, а над неманскими плёсами далеко разносились «Подмосковные вечера». Найден тихо спросил у меня: «А что, у вас своих песен нет?»
В тех грозных громовых раскатах, которые раздавались по поводу повести Быкова, долго не было слышно грома нашего Союза писателей, и я уже начинал думать, что его руководство на моей стороне. Да где там! Оказалось, что на партсобраниях шло бурное осуждение, некоторые коммунисты требовали принять меры. Особенно негодовал Иван Новиков, с которым мы вместе воевали в Венгрии. Другой Иван, который при встречах улыбался и доброжелательно здоровался, в своих лекциях в университете подвергал жестокой критике отступника от соцреализма. Только молодые были возмущены тем, что происходило вокруг меня. При встрече со мной в Минске молодой, но уже авторитетный и уважаемый критик Виктор Коваленко крепко пожал мне руку и сказал, что хлопцы из Академии – за меня. И не только из Академии.
Алесь Адамович, которой тогда был уволен из Московского университета за отказ подписать осуждающее Синявского и Даниэля письмо университетской профессуры и находился в Минске, не раз звонил мне в Гродно, говорил, чтобы я держался и не впадал в отчаяние, не изверился в людях. Сам он к тому времени успел защитить докторскую диссертацию, кажется, в Киеве, с помощью маститого Леонида Новиченко. Этот же Новиченко, оказавшись проездом в Гродно, наведался ко мне, чтобы высказать добрые слова и поддержать. Жаль, меня не было дома. В отличие от Новиченко, другие украинские писатели, в том числе недавние мои друзья, готовы были устроить мне бойкот. При встрече на московском пленуме СП Олесь Гончар спросил, кто это дал фамилию Сахно прохвосту-смершевцу?[221] Я сказал, что автор. Гончар возмутился: «А мы слышали, что это сделал какой-то жидок из „Нового мира“. От тебя такого не ожидали…» Годы спустя, когда в Киеве зашел разговор об издании этой моей повести в переводе на украинский язык, тот же Гончар сказал: «Только через мой труп!» И я подумал: неужели все дело в ставшей одиозной фамилии? А может еще в чем-то, более глубинном, о чем, однако, не говорят. Стыдятся, что ли? Но благодаря принципиальной позиции моих друзей, прославленных украинских писателей Вл. Яворивского, Д. Павлычки, И. Драча, повесть всё же вышла на украинском языке в переводе нашей милой Тани Кабржицкой.
Вскоре после Найдена Вылчева приехал в Беларусь другой Вылчев – Георгий, ученый, университетский преподаватель. Он оказался очень компанейским человеком, неплохо говорил по-русски. Рыгор Бородулин взял его и минского художника Бориса Заборова с собой в Ушачи, погостить у матери Рыгора. Я побывал там по дороге из Бычков в Минск. Отцовская хата Рыгора стояла под сенью некогда посаженного Гришиным отцом вяза, за хатой был сад. А на крыльце стояла милая женщина Акулина Ивановна – Гришкина мама, типичная ушацкая вдова, потерявшая мужа во время войны, хлебнувшая много горя. Единственным ее утешением в жизни был сынок Гриша. Гениальный национальный поэт, что для матери мало значило. Для нее главным было только то, что он – сынок. И жила она этим огромным, как небо, чувством, выше которого нет ничего.
Помнится, там же, в Ушачах, а может и позже, я поспорил с Борисом Заборовым, который, в отличие от многих из нас, не спешил воздавать хвалу своему коллеге Михаилу Савицкому, стремительно и уверенно всходившему тогда на белорусский художнический олимп. Время, однако, показало, что прав был Заборов, а я ошибался, к большому сожалению.
В Гродно из Минска приехал Василь Буран, который готовился к защите кандидатской диссертации, посвященной творчеству Василя Быкова. Диссертацию тормозили, потому что в ней были не те оценки моего творчества. Василь[222] бился над диссертацией несколько месяцев, что-то переделывал, но все было напрасно. Я сказал ему: «Напиши, что им нужно!» Но Василь, этот славный украинский хлопец, мой ровесник, упрямился. Тогда мы вместе занялись диссертацией, сидели целый вечер, и я помогал Василю формулировать замечания относительно собственных творческих изъянов. Кажется, это помогло: диссертацию он защитил.
Накануне очередного съезда писателей Беларуси мои молодые друзья Геннадий Буравкин и Анатоль Вертинский организовали сбор подписей под письмом в защиту Быкова. Как они об этом потом сами рассказывали, интересно было понаблюдать реакцию многих писателей на предложение подписать письмо. Некоторые сразу отказались, другие обещали подумать (то бишь им нужно было с кем-то посоветоваться). Большинство, однако, не раздумывая, подписали письмо, и меня обрадовало, что среди «подписантов» было немало старых, весьма уважаемых писателей: Михась Лыньков, Иван Мележ, Янка Брыль, Аркадий Кулешов. (Кстати, Кулешов, который состоял в давней дружбе с Александром Твардовским, одним из первых поздравил меня с публикацией в «Новом мире».) Но ни Шамякин, ни Бровка, ни Танк письмо не подписали. Конечно, то письмо мало помогла опальному Быкову (да и не могло помочь), однако шума наделало много. То, что вокруг него происходило, показало партийному руководству, что в бдительно контролируемом писательском коллективе уже нет былого зацементированного единства. Что писатели, как ни странно, не взирая на многолетнее давление и репрессии, способны на протест. Письмо, разумеется, нигде не было напечатано, а организаторов его не раз вызывали на допросы и разбирательства в различные инстанции (в том числе и в КГБ). Но дело было сделано, писатели впервые доказали, что могут не подчиниться грозной партийной воле. А это уже было опасностью, о которой стало известно в Москве и которую следовало пресечь.
Абсолютно неожиданно в Гродно объявился мой переводчик Михаил Горбачев. Рано утром прямо с поезда примчался ко мне на улицу Олега Кошевого, сказал, что приехал[223] инкогнито, по срочному делу. Из-за опубликования моей повести, к которой и он причастен, в ЦК КПСС разгорелся большой скандал, готовится закрытое постановление о повести, и постановление это черт знает к чему может привести. Поэтому, надо опередить ЦК – признать критику и повиниться. Лучше всего сделать это втайне, написать в ЦК покаянное письмо. Я, естественно, не согласился. Мы стали спорить, ругаться и, конечно же, пить. Спорили и пили чуть ли не сутки подряд, но к согласию так и не пришли. Сказано было немало пьяного вздора, но немало и принципиального, что непреодолимой гранью разъединило меня с моим переводчиком. В конце он сказал: «Что ж, отдельной книгой повесть теперь не издадут, будет лежать, как запасной капитал в сейфе. Может, когда-нибудь…»
Разумеется, кроме всего прочего, ему, как переводчику, жаль было своей работы, которая пропадала зря, и он надеялся на «когда-нибудь». К сожалению, эти его надежды не оправдались. Горбачев умер, так и не дождавшись издания одиозного произведения отдельной книгой.
Проводив Горбачева на московский поезд, я засел за свою речь на съезде. Нечасто я выступал на писательских сборищах подобного рода, но тут решился. (Потом некоторые из моих очень уж информированных оппонентов совершенно напрасно сваливали вину за это на ни в чем неповинного Горбачева.) Но если кто и «подстрекал» меня, то это Алесь Адамович, который сказал мне по телефону: «Промолчать ты не имеешь права, особенно, если из-за тебя могут пострадать другие». За день я набросал выступление с изложением моих взглядов и моим несогласием с критикой. Приехав в Минск, дал прочесть текст некоторым московским гостям съезда – Оскоцкому и Лазареву. Они не перечили. Разве что Лазарев, который знал мою манеру выступать, сказал: «Не торопись». Это было правильное замечание.
Обычно я старался прочесть текст выступления как можно быстрее, и это было плохо.
Читал в огромном нервном напряжении, при абсолютной тишине в зале, а когда закончил, зал неожиданно взорвался аплодисментами. Некоторые в задних рядах даже встали.[224] Начальство в президиуме, понятно, сидело с каменными лицами. Но начальство знало то, чего не знали другие – недаром оно готовило съезд долго и тщательно. После перерыва сразу выступил Алесь Савицкий, который недавно окончил аспирантуру Литературного института и спешил делать карьеру. Твердым, размеренным голосом убежденного ортодокса он мигом пригвоздил к позорному столбу ренегата и антисоветчика Быкова за его клевету на Советскую Армию и ее авангард – партию коммунистов. Савицкому тоже аплодировали, а я там же в зале написал ему записку: «Далеко пойдешь, Алесь!» И как в воду глядел. Не прошло и месяца, как мой земляк и ровесник очутился на хлебной и почетной должности в ЦК КПБ. Правду говорили: главная истина века – съел друга, сам толще стал.
Врагов той речью я, конечно же, приобрел немало (все руководство Союза долго старалось не здороваться ее мной), но и друзей стало больше. При встречах в СП и в ресторанном застолье полную солидарность со мной высказывали Рыгор Березкин и его молодые товарищи – Валя Тарас, Наум Кислик, Федор Ефимов. С ними частенько бывал и непьющий Алесь Адамович, тем не менее чуть ли не самый активный инициатор застолий. Пока мы хмелели, он умно и содержательно говорил о тотальном давлении на литературу и о несгибаемости личной воли. В условиях привычной несвободы это было непросто. Но необходимо. Иначе литературное дело превращалось в банальное полицейское доносительство и средство наказания вольнодумцев. Я говорил, что очень важно было бы довести это до сведения руководства нашего СП, на что Адамович только иронически хмыкал – они это знают лучше нас. Потому что непосредственно в этом участвуют. Что ж, как всегда, Саша был прав, потому что был научен собственной скандальной историей в Московском университете.
Текст моего выступления на съезде попал в Москву, оттуда на Запад. Радио «Свобода» передало его в эфир. А в скором времени я получил из Берлина прекрасно изданную книгу «Мертвым не больно» на немецком языке. Директор западноберлинского издательства «Propileen» спрашивал,[225] каким образом он может заплатить мне гонорар? Мы с Алексеем Карпюком долго придумывали ответ и решили оставить этот вопрос нерешенным.
Иначе не оберешься беды. И, должно быть, мы поступили правильно, потому что все зарубежные гонорары поступали тогда через специально созданную государственную структуру, обходить которую было опасно. Еще совсем недавно сообщалось о суде над наследниками Бориса Пастернака – будто бы за нарушение правил валютных операций.
Вскоре после съезда я получил первое письмо от Александра Твардовского. Впоследствии я получил от него немало писем и открыток, но самое первое письмо оказалось для меня самым важным во всех отношениях. В нем Александр Трифонович обосновал собственный взгляд на современную литературу и полностью поддержал мое выступление на съезде. Ему понравилось, что я не оправдывался, не каялся, а, напротив, наступал и обвинял. Похвальное слово мэтра русской литературы перевешивало все злобные нападки на меня «литературоведов в штатском». Еще более уверенно я почувствовал себя, когда однажды под осень получил телеграмму из Ялты от знаменитого автора книги «В окопах Сталинграда», тоже битого критикой (за путевые заметки о Западе), Виктора Некрасова. «Пьем за ваше здоровье, желаем новых книг правды о нашей великой войне», – говорилось в телеграмме…
Еще во время пребывания Найдена Вылчева в Беларуси было договорено, что Болгарский союз писателей пригласит меня в гости. На то имелись все основания. Прежде всего – мою «Третью ракету» и «Альпийскую балладу» перевели на болгарский язык и издали в Пловдиве. Стало быть, я должен был получить там какой-то гонорар. Но у меня не было заграничного паспорта. Когда я обратился в райотдел МВД, там долго молчали, тянули. Шло время, наступила осень. И вдруг звонок: можете приехать за паспортом. Через неделю я уже ехал поездом из Москвы в Софию. Мне не терпелось увидеть страну моей пусть не очень счастливой молодости,[226] взглянуть на знакомые и милые для меня места. Ну и, конечно, хорошо погостить. Всё же я ехал по приглашению официальной организации, а не как бесправное частное лицо.
На пограничной станции Унгены, которую я когда-то отвоевывал у немцев, меня сразу попросили из вагона в здание вокзала. Чемодан, сказали, можно с собой не брать. Я, кстати, ничего с собой не вез, кроме бутылки водки и своих книг. Еще, правда, коробку конфет, которую жена Аркадия Кулешова, Оксана Федоровна, попросила передать ее дочери Вале, – Валя была замужем за болгарином и жила в Софии.
В здании вокзала меня провели на второй этаж, в просторный кабинет, в котором сидел за столом блондинистый мужчина, явно меня ожидавший. Я сразу догадался, кто он такой, хотя он и не назвал себя. Начался разговор: кто вы, откуда едете и куда? В Болгарию? У вас там друзья? Кто они? Какая у вас с ними связь – по переписке или личная? Потом разговор приобрел более эмоциональный тон: «Почему вы так тенденциозно пишете? У нас много военных писателей, но ведь они пишут без искажения правды войны и работы органов. Без хорошо налаженной работы органов не было бы и нашей победы – враги и предатели быстро сдали бы Советский Союз Гитлеру. А так у вас есть возможность съездить в Болгарию, встретиться и выпить с друзьями». Разговор длился уже целый час, если не больше, и я уже стал беспокоиться, что могу отстать от поезда. Сказал об этом своему собеседнику. Он только усмехнулся: «Поезд без вас не уйдет». И правда, наговорившись всласть, до конца, надо полагать, выполнив свою обязанность, он проводил меня до вагона. Когда поезд пересек границу, я открыл свой чемодан и удивился: все в нем было перерыто. Один из соседей по купе потом шепнул мне в коридоре: «Они ваш чемодан куда-то уносили». Что ж, спасибо, что не украли чужие конфеты…
Настроение было испорчено, весь путь через Румынию и до самой Софии был омрачен, я уже не хотел никуда ехать. Но когда София встретила меня знакомым запахом жареной кебабчи, настроение улучшилось. Особенно после доброй чарки подогретой ракии.[227]
Найден устроил меня в отель и предупредил, что на этом официальная встреча гостя Союзом писателей кончается, в дальнейшем мною будут заниматься в частном порядке. В том числе и он, Найден. Так приказала Москва, которая вообще хотела отменить визит, но болгары сочли это бестактным и разрешили приехать. Что ж, в частном порядке они тоже принимали меня неплохо. Прежде всего хорошо угостили на квартире у Вылчева, где я познакомился с его милой Минкой. Пришел и другой Вылчев – Георгий, с ним мы уже были знакомы: меня представили ему, когда он приезжал в Минск и Гродно. Прозаик Ивайло Петров при встрече на улице пригласил в кафе на бокал вина и рассказал острый политический анекдот. В воздушной катастрофе погибли три национальных лидера: Аденауэр, Эйзенхауэр и Хрущев. Вопрос: какой народ больше всех будет горевать? Ответ: болгарский. Почему? Потому что среди них не было Тодора Живкова. Анекдот в аллегорической форме все объяснил. Больше о настроениях и жизни в Болгарии можно было не спрашивать. Хотя жизнь там во всех отношениях была куда лучше, чем в нашей стране. В Софии мне была оказана честь быть приглашенным на некоторые званые обеды, и я помню, что говорил на одном из них о Минске редактор одной болгарской газеты. А говорил он, что, когда он был в Беларуси, ему хотелось плакать, потому что он не увидел на улицах ни одной белорусской вывески, не услышал в Минске ни одного белорусского слова и понял, что ждет Болгарию. Он был недалек от истины…
В Софии я съездил на Пловдивское шоссе, в бывший наш военный городок. Городок находился на своем месте: та же ограда из колючей проволоки, проходная будка и казармы. Но что-то и изменилось. В вилле через дорогу, где когда-то жил болгарский генерал, а потом наш комбриг, теперь была коммуналка, во дворе сушилось на веревке белье, поодаль два болгарина смолили кабана. Совсем как в белорусской деревне. Деревня и здесь пришла в город. Болгарские писатели хотели угостить меня знаменитым болгарским коньяком «Плиска», но нигде его не нашли. Искали по всему городу, побывали в фирменном магазине «Плиска», но и там этого[228] коньяка не оказалось, сказали – весь пошел на экспорт. Я подумал тогда: хорошо, что наш «сучок» не идет на экспорт, по крайней мере есть что выпить.
В начале декабря, как раз в день сталинской конституции, умер отец. Поехал на похороны. До Полоцка ехал поездом, а оттуда – на такси. Не доезжая Кублич, в Штундоровых горках машина забуксовала, пришлось идти пешком. Благо, было недалеко. Отец перед смертью долго болел какой-то лихорадкой, от которой его лечили в Селицкой больнице, но напрасно. Он очень мучился – от болезни и тревоги за сына. Когда я приезжал в последний раз при его жизни, он пристально вглядывался в меня и тяжело вздыхал: «Достается тебе, сынок, лучше бы ты бросил писать». В хлевушке под стрехой давно лежали у него несколько еловых досок, ждали своего часа. Не дождался мой старый батька дня, когда я брошу писать. С тем и ушел в сосонник посреди деревни, где собрались все поколения тамошних жителей. Жили и относились друг к другу по-разному, а тут лежат тесненько в мире и согласии. Должно быть, только на кладбище это и возможно.
Всё за последнее время пережитое, связанное с литературой, не заставило меня, однако, отречься от военной темы. Хотя было порой мучительно, охватывало чувство безнадежности. Но поддержка друзей в Минске и Москве свидетельствовала, что в творческом плане моя позиция плодотворна, что я на правильном пути. Как-то в Москве состоялся у меня хороший, откровенный разговор с Лазарем Лазаревым, который становился едва ли не самым авторитетным исследователем военной литературы и напечатал кое-что в мою поддержку. Как всегда, на всех коллективных мероприятиях в своих горячих выступлениях высоко оценивал мои повести Алесь Адамович. Читатели присылали массу откликов, в большинстве одобрительных. Среди них получил однажды хорошее письмо от мало известного тогда, а в скором времени ставшего одним из самых замечательных писателей России Виктора Астафьева.[229] Отличное письмо в поддержку моего взгляда на войну прислал командующий Закавказским военным округом генерал армии Стученко. Жаль, немногое из этих эпистол сохранилось: часть я сам сжег на даче (не было где прятать), часть разворовали, кое-что отдал в литературный музей.
В ту пору всё свободное время проводил на Немане в компании с Валей Чекиным, музыкантом и поэтом, умницей, который оставался моим другом. Неплохие его стихи иногда печатались в областной газете. С ним можно было откровенно поговорить о жизни и литературе. Он умел слушать, не любил спорить, – так же, как и я. Ну и рыбак был отменный.
Став секретарем областного отделения СП, Алексей Карпюк стремился активизировать работу гродненских писателей, организовывал всяческие вечера и встречи: в школах, на предприятиях, иногда с выездом на район. Обычно для участия в литературных встречах он приглашал Дануту Бичель, Ольгу Ипатову, которая для этого сбегала с уроков и, прибежав в пединститут или в редакцию, бойко читала стихи. Карпюк гордился молодыми и недолюбливал стариков – нескольких слишком активных пенсионеров-отставников. К моей дружбе с Чекиным он относился довольно сдержанно, но я считал, что он ошибается. Это мое убеждение еще больше окрепло после одного случая.
В один из первых летних солнечных дней мы с Чекиным договорились встретиться на Немане, чтобы переоборудовать наши лодочные причалы. Накануне Валентин приволок две толстенных доски, которые раздобыл за бутылку на ближайшей стройке. Придя к лодкам, я долго ждал Валентина, а его всё не было. Наконец он появился, но вид у него был очень чем-то озабоченный. Какое-то время он молчал, а потом тихо рассказал мне, что его вызывали в КГБ. Не на Урицкого, где находилось их управление, а в гостиницу. И хотели завербовать, но он отказался. Это не было для меня большим сюрпризом, но настроение испортило изрядно. Я не знал, что сказать Валентину, как к этому отнестись, тем более, что Чекин сказал о сделанном ему предупреждении о «неразглашении». То, что Валентин отказался работать против меня, делало его в моих глазах еще большим другом.[230] Больше, однако, мы с ним на эту тему никогда не говорили, и я не знал, были у него потом еще какие-то контакты с КГБ или нет. Я никому об этом случае не рассказывал, лишь Карпюку рассказал через много лет. Алексей, выслушав, криво усмехнулся: это же у них такой прием, а ты думал… Я подумал тогда, что если прием, то самый поганый и подлый. Потому что признание друга вызвало у меня самые добрые чувства к нему и полное доверие. Думал, что если человек, несмотря на запрет, признается в том, чего от него хотели, он действительно преданный тебе друг. Оказывается – прием…
Очень быстро, может, в течение месяца, написал маленькую повесть, которую назвал «Проклятая высота». Не давал мне покоя, засел в сознании случай весной 44-го года на фронте. Думалось, в том эпизоде заключено что-то новое, что можно использовать в литературе. Хотя новое – очень относительное понятие, то, что я имел в виду, давно стало банальностью в нашей жизни, вдоль и поперек пронизанной теми самыми «органами». Но, написав, заколебался: стоит ли печатать? Хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но в Гродно таких людей было мало. Карпюка, насколько помнится, в городе тогда не было, куда-то уехал, а мой Валентин не знал белорусского языка. Да и вообще, будучи поэтом, он не очень интересовался моей прозой. Но иногда (обычно в компании с Карпюком) я встречался с преподавателем медицинского института доцентом Клейном. Борис читал будущим медикам историю КПСС, был эрудированный ученый, знал литературу и философию. К нашей действительности относился сдержанно критически, и это придало мне решимости предложить ему прочитать повесть. Взял он рукопись не очень охотно, но прочел ее за одну ночь и, когда мы встретились, расхвалил. Сказал, что такую вещь Твардовский с радостью напечатает. Она того стоит.
Прежде всего я отвез повесть в Минск, отдал Пимену Панченко. Пимен был озабочен: мои повести, похоже, стали угрожать его редакторскому креслу в «Маладосць». Сказал: «Было бы неплохо, если бы поддержал „Новый мир“». Но ведь для «Нового мира» нужно перевести, а переводчика[231] у меня не было. Тогда Пимен говорит: «Сделайте подстрочник, а переводчика они сами найдут. В Москве переводчиков навалом».
Так я и сделал – переписал текст более-менее по-русски. Не шлифуя, не заботясь о стилистике, думая только о смысле. С какой-то оказией отправил рукопись в Москву. Очень скоро позвонил Кондратович – надо приехать.







