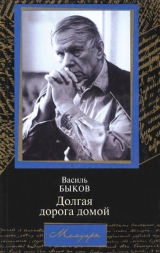
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
II
На станции Грязи началась переформировка. И тут оказалось, что по закону юноши 23-го года призываются, а 24-го – еще нет.
Всех нас, кто родился в 24-м, собрали вместе. Нужно сказать, что таких набралось немного, так как украинцы, не будь дураками, не захотели далеко уходить от родных мест, и[49] очень многие вернулись домой. Ну, а куда мог вернуться я? До Беларуси тысяча километров – не дойдешь. И я остался со своими одногодками. Из нас сформировали команду, каждому выдали по три буханки хлеба и прямо в чем мы были – в грязных изношенных ватниках и пилотках (хоть уже приближалась зима), отправили в тыл, приставив к нам каких-то подполковников, чтобы не разбежались.
Наш путь лежал в Саратовскую область. И опять на подножном корме. В тех краях, которые мы проходили, у многих сыновья, мужья, родичи были на фронте, и люди от души сочувствовали служивым, особенно таким, как мы, желторотым. Хотя, смотря где. На станциях, давно обобранных подчистую, нам не перепадало почти ничего, а вот в селах кое-чем еще подкармливали. Пока пешим порядком дотопали до Саратовщины, все обносились и обезножили. Ботинки мои прохудились, и из них стали вылезать портянки. А тут еще начались холода. Из теплых вещей у меня был только вязаный шерстяной шарфик, подаренный какой-то сердобольной женщиной. Отчаянно мерзли, но всякая дорога когда-нибудь кончается – в конце 41-го мы добрели до станции Салтыковка. Там нашу оголодавшую братию распределили по колхозам. Мы с Лешкой Орловым, моим земляком (он был из Ушачей), попали в колхоз имени Коминтерна.
Село было большое (странно, что забыл, как оно называлось), к югу от Салтыковки, в степи. Мы с Лешкой жили неподалеку друг от друга, но встречались редко: у тамошних хозяев было не принято, чтобы постояльцы приглашали гостей. Я весь день, съездив утром в степь за мерзлыми колючками для печки, сидел дома. Делать было нечего, читать тоже. Хозяйки не только со мной, но и друг с другом почти не разговаривали (невестка враждовала со свекровью), хозяин был на работе. Но была в доме маленькая, лет шести, девочка – милое, ласковое создание. Она не отходила от меня целыми днями, требовала, чтобы я ей что-нибудь рассказывал. Я пересказал ей все сказки, какие знал, рассказал про Беларусь – какие у нас леса, звери, птицы. А девочка требовала новых рассказов.[50] Тогда я одолжил у соседей толстый том академика Тарле – про Наполеона. И стал читать его девочке. Удивительно, но она внимательно слушала!..
В «Коминтерне» мы пробыли чуть ли не всю зиму 1942 года. В колхозе нам давали по килограмму проса на неделю. Это просо нужно было ободрать на тёрке, чтобы получить пшено. Я жил в семье комбайнера, который имел бронь, и престарелая бабуля – светлая ей память! – варила мне кашу. Хозяева, естественно, ели отдельно, а я довольствовался пшенкой, что по тем временам было не так уж плохо. У нас она считалась деликатесом. Помнится, в Витебске тарелка пшенной каши с чайной ложечкой масла сверху стоила 60 копеек. Здесь масла не было. Но хоть каша… А вообще-то жил голодновато, всегда хотелось есть… Молодой же был.
Та зима выдалась затяжной и студеной, а главное – тяготило одиночество, оторванность от всего привычного, от родины, которая оказалась под немцем. Разве что с Лешкой перемолвишься словом. Он жил у соседей, через дорогу. Нашей обязанностью было обеспечивать хозяев топливом. Для этого надо было собирать будыли подсолнухов, оставшиеся под снегом. Для вылазок туда была пара хозяйских бурок на двоих. И вот раза два-три в неделю идешь в степь, волоча за собою санки, одолеваешь заснеженный яр и, наломав мерзлых будылей, везешь их в село. С нагруженными санками взбираться по крутым скатам было непросто – кишки надорвешь. А как вылезешь из яра, весь мокрый от пота, посмотришь на багровый от мороза закат, на запад, туда, где далеко-далеко – родимая сторонка, и слезы сами текут. И не надо удерживаться: здесь, в ледяной степи, их никто не увидит, можно не стыдиться. Одиночество, острое ощущение сиротства – то, чего никогда не приходилось испытывать прежде, до боли бередили душу. В первый и в далеко не последний раз было у меня такое…
Не скажу, что к нам относились не так, как к другим. Однако со временем жить стало невмоготу, и мы с Лешкой решили сбежать. Беларусь была оккупирована, но ведь там действовали партизаны. Да и на фронт хотелось попасть, ужасы его, испытанные в 41-м, стали мало-помалу забываться.[51] Вот мы и рванули. Но ушли совсем недалеко. Нас, наивных беглецов, задержали на первом же железнодорожном мосту и доставили в районный отдел НКВД в Ртищеве. Там повторилось то же, что было в Белгороде. У нас стали выпытывать: кто послал к мосту? с каким заданием? Никто не хотел верить, что мы бежали на фронт, и лишь зло кривились, слыша наши сбивчивые слова. Чекистам, очевидно, нужно было наше признанием: мол, появились в районе моста с какой-то определенной целью.
Трудно сказать, чем бы кончился этот допрос, но тут возникло одно неожиданное обстоятельство. Ночью в отдел привели здоровенного дядьку, явного уголовника. Он тут же, в комнате дежурного, учинил драку… Очень сильный, перевернул всю мебель и кинулся к начальнику. Все, кто был в комнате, набросились на него. А мы с Лешкой, воспользовавшись поднявшейся суматохой, тихонько выскользнули в дверь и подались в степь. Немного позже, как ни в чем не бывало, вернулись к прежним хозяевам, которым что-то не очень складно наврали о своей отлучке. Поверили они нам или нет – не знаю.
Так дожили до весны. А в апреле в колхоз пришла разнарядка: требовалось послать несколько молодых парней на учебу в ФЗО.
Своих, понятно, было жаль, и поэтому послали нас. А нам только это и было нужно. ФЗО находилось поблизости, в Аткарске, и очень скоро мы с Лешкой прибыли туда. Кстати, нелишне сказать: многим из будущих призывников эти самые ФЗО-ФЗУ дали хлеб и пристанище, стали для них, так сказать, профессиональной академией, последним островком мирной жизни. Вскоре затем следовали призыв, фронт и для стольких – конец всему.
Из железнодорожного училища в Аткарске мне предстояло выйти путейцем: ремонт пути, подбивка шпал, разводка… Была первая половина лета 42-го года. Донимала жара, такая, какой в наших краях никогда не бывает, А тут еще непосильные нагрузки: от кувалды и лопаты сразу образовались на ладонях кровавые мозоли.[52] Зато кормили! А это было важнее всего.
Но путейцем стать не довелось. В августе 42-го меня и всех моих одногодков призвали, и мы стали рядовыми запасного полка под Татищевом.
Тысячи солдат жили в землянках, обучение проходили в поле. Дисциплина была железная, командиры – еще ворошиловско-тимошенковской школы – все от сержантов до полковников. Муштра с утра до вечера: шагистика, ползание по-пластунски, окапывание. И постоянные переклички, проверки – все ли на месте, не дезертировал ли кто-либо. А дезертирства случались – вчера стоял солдат в строю, а сегодня его нету. И никто не знает, куда пропал.
Винтовок нам не выдали; в подразделении были только учебные винтовки, затворы которых мы учились разбирать и собирать. Жаловаться на условия запрещалось, на командиров тоже. Политруки следили за дисциплиной, за настроениями и пичкали нас политинформацией о положении на фронтах. А там было худо: немцы прорвали Донской фронт и перли на Сталинград.
В полку было много местных, саратовских, и мы с Лешкой чувствовали себя среди них чужими. Вскоре нас разлучили: меня – в Саратов, Лешку – в Вольск. Больше я его не видел и ничего не слышал о нем. По всей вероятности, он попал в сталинградскую мясорубку…
В начале сентября меня направили в Саратовское пехотное училище.
Там мне досталось так, как до того не доставалось нигде и никогда. Каждый день – десять часов занятий, редко в классах, больше на плацу и в поле – в жару, в дождь и мороз. С полной выкладкой и в шинельках на «рыбьем меху». Кроме того, оборонные работы под городом: немцы уже приближались к Саратову и бомбили его каждую ночь. Целили они в основном в комбайновый завод, который в то время выпускал самолеты, и в нефтеперегонные крекинговые установки. Наша рота по ночам дежурила на бывшем комбайновом, который продолжал работать и под бомбами. Мы должны были ликвидировать пожары, если немцы попадут[53] зажигательными. Едва начинало темнеть, звучал сигнал воздушной тревоги, и очень скоро появлялись немецкие самолеты. Они сбрасывали осветительные бомбы. На земле от них – как от солнца, а в небе – не видать ни зги. Затем с высоты летели уже фугаски и зажигательные. От взрывов земля ходила ходуном. Но мы сидели в щелях и выпрыгивали из них лишь тогда, когда где-нибудь вспыхивал пожар или нужно было срочно выкатывать из цехов самолеты. Конечно, были у нас потери. Но они не шли ни в какое сравнение с теми, что несли курсантские подразделения, дежурившие на крекинговых установках, около которых находились огромные нефтехранилища. Там после бомбежек всё полыхало и ночью, и днем. И хлопцы сгорали заживо – нечего было хоронить. Целые отделения и взводы не возвращались из этого чудовищного пекла. Так продолжалось почти до самой зимы, до тех пор, пока немцев не окружили под Сталинградом.
Однажды осенью 42-го наш курсантский батальон подняли по тревоге и бросили туда. Пешим маршем дошли мы до Камышина. Там, однако, нас рассортировали: половину каждой роты отправили в Сталинград, а другую вернули назад, в Саратов. Среди возвратившихся был и я. А мой друг из Беларуси, Коля Иванов, попал в сталинградскую мясорубку и погиб в ней. После войны я попробовал найти его родных. Но, увы, Ивановых у нас так много. А в Саратове и в дальнейшем было немало случаев, когда нас неожиданно выстраивали и зачитывали списки тех, кто в составе очередной маршевой роты должен был идти на фронт.
Теперь, с высоты военного опыта и прожитых лет, нельзя не удивляться, чему и как нас тогда учили. Главной дисциплиной, как, наверное, издавна повелось в русской армии, была строевая подготовка – плац-парадная военная наука, по степени овладения которой оценивалось всё остальное. Под ее формальные и неумолимые требования подгонялось даже обучение тактике действий в обороне и наступлений. На войне она не потребовалась никому. Наилучших результатов добивались те командиры, которые, отринув устаревшие линейные шаблоны, творчески экспериментировали, широко[54] мыслили, смело проявляли боевую инициативу и самостоятельность. Можно смело сказать, что многими победами, да и просто успешными боевыми действиями, армия обязана дилетантам. Довоенные профессионалы в большинстве своем обанкротились в самом начале войны. Но чтобы понять и оценить это, следовало приобрести дорого доставшийся опыт, а мы тогда были такими зелеными…
Не могу не вспомнить моих училищных командиров. Разными были они, и каждый оставил память по себе. Так, нашей курсантской ротой командовал старший лейтенант Гриб, немолодой уже белорус, откуда-то с Гомельщины. Может, именно благодаря ему я дошел до выпуска, стал офицером. Как-то незаметно опекал он меня, помогал мне. И я старался – учился на «отлично» и на «отлично» окончил училище. Сейчас бы сказали: с «красным дипломом». Но тогда таких дипломов не было, и мое фото лишь поместили на доску лучших выпускников. Еще запомнился мне интеллигентный преподаватель топографии, которому я иногда рисовал картосхемы, – Ромественский, в то время уже инвалид войны. А командиром батальона был майор Антипас, грек. На фронт греков не посылали, использовали в тылу. Этот комбат обладал лучшими качествами старого русского офицера, чего не скажешь о молодых горлодерах, воспитанных в школе Ворошилова и Тимошенко (Бог им судья). Они муштровали нас, восемнадцатилетних, бессмысленно и жестоко, чтобы самим не попасть на передовую, пересидеть войну в тылу. Это, однако, удавалось далеко не всем. Рано или поздно и они оказывались под уничтожающим огнем и пополняли собою счет безвозвратных потерь. Это несколько примиряет меня с памятью о них.
Осенью 43-го года мне и моим товарищам присвоили звание младшего лейтенанта. Нам выдали золотые погоны, к которым каждый из выпускников прикрепил по одной маленькой звездочке. Невольно поглядывая на них, мы дружно пошли фотографироваться. Но получить фотографии не успели – ночью мы уже грузились в теплушки, стоявшие в[55] тупике. К нашей радости, в них хоть были железные печурки, и в пути не пришлось мерзнуть.
Ехали долго, места в теплушках оборудовали сами – на остановках крали доски для нар. Сухой паек, выданный перед отправкой, – по килограмму муки на брата, – сразу пустили в дело: на крышках печурок пекли лепешки и ели их всю дорогу. А золотые погоны на наших плечах оставались до фронта. В дивизии, куда мы в конце концов прибыли, начальник штаба тотчас приказал: «Снять! Здесь вам не парад». Разумеется, сняли. Но не получили полевых. Так и пошли в бой. До глубокой зимы походил-побегал я в шинели, на которой были лишь петлицы, таская золотые погоны в командирской сумке, пока, наконец, старшина роты не снял полевые – зеленого цвета – с убитого артиллериста. Я проносил их, наверное, с полгода.
К тому времени, когда мы вступили в бой, на правом берегу Днепра уже были захвачены плацдармы, и форсировать его нам не пришлось. Зато в Заднепровье попали в жестокую переделку. С ходу овладеть Кривым Рогом не удалось – немцы отбросили наши танки и пехоту километров на шестьдесят. После небольшой перегруппировки наши войска начали наступление на Александрию и Знаменку. С боем приходилось брать каждую высотку, каждую балку…
Я был командиром взвода в обычном стрелковом полку. И своими глазами видел, какие страшные потери несла пехота, какой кровью доставалась каждая пядь. Бывало, днем ведем бой за село (а села на Украине большие), под вечер выбиваем оттуда немцев. Но даже короткий отдых позволить себе нельзя: нужно гнать их, пока не закрепились. Забежишь в какую-нибудь хату, возьмешь кусок хлеба из рук хозяйки да теплую еще свеклу и снова – вперед, вперед. Снова в огонь и дым. С обеих сторон бухают танковые пушки, вокруг рвутся гранаты и мины. Ну и мать-перемать – особенно по телефону, от начальства. Так продолжается до тех пор, пока немцы не остановятся на окраине очередного села. Тогда останавливаемся и мы. Но прямо в поле: атаковать уже нет сил.
Пулеметным огнем выкашивало в степи роту за ротой за несколько часов. Сотни убитых, сотни раненых.[56] Бросаться спасать кого-нибудь нельзя – это дело санинструкторов. Они же доставляли раненых в тыл – тех, кто получил тяжелое ранение, легко раненые выбирались из-под огня сами. Покидать боевой порядок запрещалось, даже если ранило кого-нибудь из твоих друзей и ты мог бы его спасти – такая попытка расценивалась как стремление выйти из боя. Тяжело раненые истекали кровью и умирали в зарослях кукурузы. Тот, кто был ранен легко, но промедлил или не смог сразу выбраться из-под обстрела, получал второе, третье ранение, часто смертельное. Один из моих сержантов, раненный в ногу, перед отправкой в тыл попросил закурить и, пока кто-то из бойцов сворачивал ему самокрутку, получил пулю в живот. Не знаю, довезли ли его живым до санчасти.
Убитых мы не хоронили – где упал боец, там и оставался лежать. Не было у нас времени валандаться с трупами. Старшие командиры орали: «Вперед!» Потом, после боя, убитых хоронили специальные «похоронные команды» Они собирали оружие убитых, снимали с них одежду и сапоги, рыли ямы и сбрасывали в них трупы. Закапывали… В штабе части составлялся список убитых. Но это совсем не значит, что в той или иной братской могиле лежат только те, кто занесен в список. Точнее, именно те. Порой случались ошибки – боец жив, а числится в списке. И, наоборот, – в списке убитых солдата нет, а он лежит в этой могиле…
Не спали сутками. Бессонница и усталость вызывали состояние полного безразличия. Даже под огнем не хотелось окапываться или искать укрытие: убьют, и черт с ним! Только бы поскорей, чтобы не мучиться, не мерзнуть. Лютая стужа была сильнее страха. Особенно ночью, в степи. Мороз не давал сомкнуть глаз, пробирал до костей. Дрожишь всем телом, топаешь ногами. Даже лежа в снегу сучишь ими, как в агонии. До сознания доходили только команды командиров вперемежку с матюками. Или обстрел с близкого расстояния. Почти в упор. Или, когда мины ложились рядом. Тогда на короткое время охватывал страх. А затем опять наваливалась усталость и безразличие ко всему.
Зима на Украине, возможно, не такая лютая, как в России, но мне она запомнилась холодной, с ледяными ветрами,[57] продувающими насквозь, колючей метелью. Одет я был в то, что выдали в училище – шапка, шинелька, кирзачи. В полку выдали трехпалые рукавицы и овчинную безрукавную поддевку, которая меня и спасала: ведь неделями приходилось дневать и ночевать на снегу. А вот каска мне не понадобилась. Однажды надел ее на шапку. Но она плохо держалась и сползала. Увидев это, мой помкомвзвода, опытный сержант, сказал: «Без пользы она! Брось ее, младшой, к чертовой матери!»
Перед этим убило моего самого молодого солдата, когда он лежал в цепи. Пуля попала именно в каску и сделала в ней дырку. Ненадежная защита! Я убедился в этом, когда мы заняли село. Там под вербами валялось несколько убитых немцев. Мой сержант выстрелил каждому в голову, и все каски у них оказались пробитыми. После этого я бросил свою в снег. И не пожалел об этом ни разу. Из солдат моих тоже мало кто носил каску – разве что самые осторожные. Но я никогда не слышал, чтобы она кого-нибудь спасла. Особенно в наступлении.
Люди в пехоте воюют недолго. Но мой друг Коля Перажный, с которым мы в училище были в одном взводе, погиб уже в первом бою. Когда в Онуфриевке, в штабе дивизии, нас распределяли, он всё обижался, что не дали пистолетов – табельного оружия командиров взводов. В ответ было сказано: получите в части. Но Коля так и не дождался своего ТТ – получил пулю в сердце. А мой другой училищный друг, Володя Левчук, дошел до Буга, где на переправе его тяжело ранило. Из госпиталя на фронт он больше не вернулся – на всю жизнь остался инвалидом.
Меня же пока пули и осколки миновали, только как-то холодной ночью потерял я в степи рукавицы и к утру довольно сильно обморозил руки. Но с обморожениями к врачам лучше было не соваться: это считалось членовредительством и пахло трибуналом. Так что пришлось перетерпеть.
Самый первый бой мне, молодому командиру взвода, не очень запомнился. В памяти осталось лишь то, как ротный, какой-то нескладный, совсем по-граждански выглядевший человек в полушубке, гнал солдат и меня вместе с ними[58] через неубранную, заваленную снегом кукурузу, пока не накрыл нас плотный немецкий огонь. Залегли. А потом опять в атаку – короткими перебежками…
Ночь застала нас на марше, в батальонной колонне. А с рассвета и весь день с неба летели бомбы. Мы то разбегались по степи, то вновь собирались на дороге. На околице села, до которого дошли, около пустого хлева ротный объявил короткий привал. Дальше нам предстояло взять кошару, стоявшую неподалеку от дороги. Предполагалось, что в ней закрепились немцы. Но едва я задремал на мерзлой соломе, как послышался пронзительный вой немецких пикировщиков и разрывы бомб. Нужно было быстро выметаться из хлева. Но тут немцы налетели вновь, и ротный, задержавшийся в хлеву, был убит осколком. Из офицеров в роте остался я один, и именно на меня навалился возникший откуда-то заместитель командира полка: «Наступать, твою мать!» Что ж, наступать, так наступать. И по моему приказу остатки роты, рассыпавшись в цепь, двинулись к кошаре. На наше счастье, немцы больше не стреляли, а в развалюхе-кошаре не было ни души. Я тут же послал на КП полка сержанта доложить, что приказ выполнен. Как выяснилось впоследствии, делать этого не следовало, хотя вернувшийся сержант передал мне благодарность командира полка. Тем временем мои ребята залегли прямо в снегу, замерзшие и голодные. И тут помкомвзвода предложил: «Айда в кошару! Немного погреемся…» Я узнал: кто-то из моих раздобыл бутылицу со шнапсом. Аккурат для сугреву.
А вот погреться не удалось. Раздвигая побелевшие кукурузные будыли, показались три бронетранспортера и стали бить из пулеметов. Солдаты тотчас вскочили и, не дожидаясь моей команды, кинулись назад, к дороге. За ними – где ползком, где перебежками – подался и я, их незадачливый командир. В кюветах просидели под обстрелом до ночи. А едва стемнело, опять появился заместитель командира полка и сразу же пообещал расстрелять меня, если до рассвета не займу оставленную кошару. Оказывается, про захват этой злополучной развалюхи уже доложили в штаб дивизии, а там она, быть может, попала в оперативную сводку – поэтому[59] необходимо отбить ее у немцев. Любой ценой. Положение такое, что хуже не придумаешь. Кошару обороняют три бронетранспортера, а у меня всего пятнадцать солдат с винтовками. Как взять?
Однако приказ есть приказ. Ночью, при свете не вовремя показавшейся луны, я повел солдат в новую атаку. Но очень скоро пришлось вернуться: немцы не дали продвинуться и до половины пути к кошаре. Решил ждать рассвета и своего приговора. А тут что-то случилось там, где находился КП полка. Оттуда послышались крики, беспорядочная стрельба. К нам прибежал запыхавшийся автоматчик – на КП напали немецкие разведчики, замкомполка приказывает: «Все на помощь, немедленно». Побежали, конечно. Но опоздали. Немцев, правда, уже не было, а тот, кто обещал меня расстрелять, лежал убитый. Утром два моих солдата выкопали ему могилу. В тот же день нам прислали нового ротного – лейтенанта Миргорода, с которым я провоевал до Рождества. Эпизод этот был частично использован мною в написанном через двадцать лет рассказе «Ранней ранью».
На степной равнине воевать было трудно – нигде не спрячешься от пулеметного огня. Да и от минометного – тоже. Единственным укрытием служили заросли заснеженных кукурузных будылей да одинокие скирды. Но скирды были укрытием предательски обманчивым. Немцы хорошо видели их и стреляли по всем, кто прятался за ними. Так что те, кто считал себя там в относительной безопасности, чаще всего и погибали. На передке, в пехотной цепи, было порою безопасней.
Как бы ни было трудно, пехота с боями занимала большие и малые села и, продолжая наступать, шла дальше. А в это время в селах начинали действовать тыловые службы, полевые военкоматы. Они сразу мобилизовывали всех, кто отсиживался там с 41-го года, – хозяйственных мужичков и примаков, бывших окруженцев. Разговор с ними был короткий. Едва успеют тыловики собрать винтовки, валяющиеся около убитых и раненых, похоронить одних, а других отправить в тыл, как винтовки эти раздают только что мобилизованным дядькам. Обмундирования для них нет,[60] и они в домашней одежде, с «сидорами» за плечами идут в цепь – брать соседнее село. До него доходят немногие. А возьмут – и всё повторяется в том же порядка.
Несмотря на эти поспешные мобилизации, солдат всё равно не хватало – слишком велика была убыль. Да и с командирами дело обстояло не лучше (кадровых еще в начале войны повыбило почти всех). В нашей роте, к примеру, было всего два офицера – ротный и я. На взводы личный состав не делили: зачастую и на один не набиралось. А учет? Хорошо, если писарь успеет записать фамилии новоприбывших, а то часто идут в бой и погибают неучтенными «активными штыками». Потому у нас теперь столько «неизвестных солдат» и «пропавших без вести». Считали пулеметы, орудия, танки. Даже снаряды и патроны. За них могли притянуть к ответу. Не считали только людей, и отвечал за них лишь Господь Бог.
Новый 1944 год встретил я под скирдой в поле, покрытом снежными намётами. Уже с вечера огонь начал постепенно слабеть – немцы, по-видимому, тоже не хотели воевать в новогоднюю ночь. Старшина принес ужин – перловый суп. Он, хоть и был в термосе, но давно остыл. А замерзшую буханку хлеба вообще пришлось разрубать немецким ножевым штыком. Офицерам под Новый год выдали доппаек – по горсти сухого печенья и баночку шпротов на двоих. Жуя печенье, я уснул там, под скирдой, так и не дождавшись прихода нового года.
А на зорьке меня уже подняли: нужно было подготовиться к новому рывку вперед. Из населенного пункта, в котором закрепился противник, в нашу сторону летели разноцветные трассы. Выбить его на этот раз мы не смогли и вынуждены были залечь. До ближнего боя не дошло. Немцы не любили его, предпочитая вести губительный огонь издалека. На сей счет они были мастера, ничего не скажешь. Это у нас учили солдат делать всего шесть-восемь выстрелов в минуту из устаревших винтовок, что было очевидной глупостью. Немцы же секли автоматными очередями без счета, а их пулемет МГ-42 производил в минуту 1000 выстрелов.[61] Немецкие минометчики навешивали в воздухе по 12 мин: первая еще не успевала взорваться, а уже вылетала двенадцатая. Естественно, под таким огнем долго не выживешь. Через день-другой боев или в земотдел, или в здравотдел – невесело шутили фронтовики.
У нас плотность стрелкового огня была совсем иной. Прежде всего не хватало боеприпасов. И не только потому, что подвозили плохо. То, что имел при себе рядовой солдат (в подсумках ли, в магазинах), можно было расстрелять за несколько минут. А куда еще мог он сунуть патроны? Разве что за пазуху, в карманы. У немцев для этого служили сапоги с широкими голенищами, в которые они наталкивали запасные автоматные магазины. Наш же автоматный диск в сапоги не лез. Да и большинство солдат у нас носило ботинки с обмотками. Поэтому в поле, в цепи, пехота стреляла редко – экономила патроны для боя в населенных пунктах. Да и там, считалось, тоже больше нужно действовать штыком, ибо пуля – дура, как учил великий Суворов. Но и немцы сосредоточенным огнем прижимали к земле или снегу нашу атакующую пехоту и не подпускали ее к своей обороне. Поэтому штыковой бой, приемам которого так усердно учили солдат и курсантов в запасных полках и училищах, на войне практически не применялся (также, кстати, не нашли применения и противогазы, которые кое-кто протаскал с собою до самого конца войны). Не слишком часто появлялись на фронте и знаменитые «катюши». Чтобы подвезти для них боезапас, требовалось много автомашин, а с горючим было туго. Нас, пехотинцев, поддерживала в основном артиллерия малого и среднего калибра – сорокапятки и 76-миллиметровые пушки на конной тяге. Но лошади на войне жили, пожалуй, еще меньше, чем люди…
Еще в начале зимы я совершил первую попытку вплотную познакомиться с артиллерией. Произошло это после того, как случайно наткнулся на брошенную сорокапятку. Незадолго перед этим в той стороне раздавались отрывистые выстрелы немецких танковых пушек, и артиллеристы, должно быть, или не выдержали огня, или погибли: невдалеке лежало несколько трупов. А пушка была цела, и снаряды поблескивали в открытом ящике. В Саратове нам показывали, как[62] стрелять из этого орудия. И я решил попробовать в боевой обстановке. Начал стрелять. Но не по танкам – по немецкой пехоте, державшей оборону в ближнем селе. С помощью молодого солдата расстрелял все снаряды. Жаль, сорокапятку эту мы не смогли взять с собой.
Отдохнуть нам дали совсем немного – началась Кировоградская операция. За нее маршал Конев получил орден Ленина, о чем о гордостью написал, полемизируя с автором романа «Мертвым не больно». По его мнению и по мнению Сталина, операция эта прошла весьма успешно. Может быть, если смотреть из Кремля, так оно и было. Но существовал и другой взгляд – взгляд солдата, лежавшего в наскоро вырытом окопе в снежном поле, залитом кровью, исполосованном гусеницами танков, поле, на котором был почти полностью разгромлен наш стрелковый полк. Там погибли командир моей роты лейтенант Миргород, комбат капитан Смирнов, командир полка майор Казарьян, десятки солдат и офицеров.
Нашу дивизию с ходу ввели в прорыв. В дневное время мы вели огневые бои, а по ночам наступали, стараясь вклиниться в разрывы между флангами оборонявшихся. Удавалось это не везде: немцы упорно сопротивлялись. В наступлении не спали порою целыми сутками. Иногда – ни одного часа. Это, между прочим, одно из изобретений советской военной науки – принудить солдата обходиться без сна. Думаю, ничего подобного не было и нет ни в одной армии мира.
Так вот, сонные, топаем по наполовину заметенному шляху, многие спят на ходу, спотыкаются, падают. Хлесткий мат поднимает их, и люди, едва разлепив ресницы, бредут дальше. Один раз я на таком марше чуть было не попал к немцам. Помню: дорога, пронизывающий ветер, страшная, валящая с ног, усталость. И вдруг… Теплый летний день. Вокруг меня качаются и шумят листвою деревья. Широкая аллея упирается в стену какого-то здания, похоже, замка. А в ней чернеют ворота. Вхожу в них – и… и внезапно слышу отчаянное: «Куда прёшь? Ложись!» Мгновенно просыпаюсь. В кювете у дороги – наши разведчики. А впереди маячат[63] голые деревца лесопосадки. Оказывается, там немцы. Если бы не крики разведчиков, я бы наверняка попал в плен. В полку бы сказали: «Перешел к немцам». А кто знал, в каком я был состоянии? Такие случаи, когда кто-то из наших, сам того не желая, заходил или заезжал в немецкие боевые порядки, бывали нередко: обстановка быстро менялась, особенно в наступлении. Так что даже генералы иной раз оказывались в плену.
Очередное происшествие на ночном марше касалось уже не меня одного. Начальник штаба полка завел нас не туда, куда было приказано. Остановились, начали ориентироваться. А попробуй сделать это ночью да еще в степи. Вокруг – полутьма, ни одного ориентира, только неубранная кукуруза и белые от снега подсолнухи шелестят на ветру. А тут, откуда ни возьмись, – генерал на «виллисе». Кто он был, не могу сказать. Может, командир дивизии. Наорал на начштаба, сорвал с него погоны и давай бить. Пока всё это происходило, мы хоть немного полежали на снегу. А потом – опять марш. На рассвете вышли к саду под горою, название его запомнилось мне: Большая Северинка. Наверно, потому, что судьба и здесь пощадила меня, оставив лишь зарубку в памяти. Там, возле крайних хат, я приглядел ямы, из которых летом, очевидно, брали песок. Взвод сразу же занял эти неожиданные укрытия. Когда окончательно рассвело, вдалеке стали видны здания и заводские трубы. То была окраина большого города – Кировограда. Но и немцы увидели нас и начали обстреливать из тяжелых минометов, не давая никому выйти из села. В моем взводе потерь не было. А из тех, кто задержался в Северинке, кое-кого ранило и убило, в том числе несколько офицеров нашего полка.








