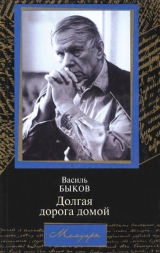
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Да, людей я встретил чудесных. И художники они были хорошие. Некоторые (Морозов, Семенов, Данила Порохня) были виртуозами оформительских работ, прекрасно, с отменным вкусом умели писать шрифты. А в оформительском деле одним из главных элементов были именно шрифты. Я, конечно, так не умел их писать, как умели мои новые друзья, поэтому смотрел и учился. Но дело в том, что редко доводилось смотреть и учиться – работы у художников было мало. Заказов на живопись совсем не было, и художники буквально из-за этого страдали. Правда, терзания эти быстренько заглушались испытанным мужским средством – водкой. Раздобыть денег на хлеб было трудно, иной раз невозможно, однако на водку деньги добывали всегда. По этой части были свои виртуозы, и первым среди них был Виктор Морозов. Благодаря ему мы не знали почти ни одного дня без выпивки. Если случался такой день, мы считали его «черным». Но и в этот «черный день» к вечеру непременно у Морозова появлялись какие-то деньжата. В свой угол на квартиру в Занеманьи я возвращался поздно и навеселе. Для моей хозяйки, Марьи Ивановны, это было не в диковинку, за много лет супружества эта горемычная женщина насмотрелась на своего вечно подвыпившего мужа, тоже демобилизованного военного. И огорчало ее не то, что я приходил домой поздно и «под мухой», а то, что вел себя довольно не этично – несколько месяцев не платил за квартиру. Обещал что ни день, что вот-вот заплачу, да не было чем.
Целый год я проторчал в мастерской, перебиваясь наряду с другими художниками случайными заказами. Однажды вместе со скульптором Андреем Заспицким (будущим лауреатом госпремии) оформил витрину кинотеатра, затем павильоны ярмарки на Скидельском рынке. Это был последний мой заработок в мастерской, которого, однако, хватило лишь на то, чтобы посидеть в ресторане и заплатить, наконец, за квартиру. В питии к тому времени я уже поднаторел настолько, что мог выпить пол-литра за один раз. Друзья говорили, что это нормально, что я достиг всеобщей мужской нормы. Но для меня это было всё же трудновато, да и становилось в[141] тягость, и я стал думать, как быть дальше, что делать? А что я умел делать? В сущности, ничего. Пойти учиться? Не плохо бы, но куда? Да и как поступить на учебу? Никаких документов об образовании у меня не было – всё проглотила война Свидетельство об окончании Саратовского пехотного училища – последний документ, которым я располагал – осталось в моей полевой сумке на заснеженном поле под Северинкой. Написал в Саратов, чтобы мне выслали копию, но получил ответ, что все архивы училища за военные годы отправлены в Бугуруслан. Написал туда, и узнал из ответа, что никаких документов Саратовского военного училища в Бугуруслан не поступало. Съездил домой, на Ушаччину, чтобы раздобыть документы о своей учебе в Кубличской школе, но той моей школы в Кубличах уже не было, не было и никого из знакомых учителей.
В Гродно, как раз неподалеку от мастерской художественного фонда, находилась редакция областной газеты «Гродненская правда». Время от времени мы встречались с журналистами редакции в пивнушке. Там же, в пивнушке, я познакомился с бухгалтером редакции, старым человеком (ему было под семьдесят), бывшим полковником царской армии. За рюмкой он рассказывал немало интересного о своей службе при царе. Однажды, растроганный тем, что я внимательно его слушаю, он сказал мне, что я должен задуматься о своем будущем. «Вы знаете белорусский язык, – сказал старый бухгалтер, – а в редакции часть тиража начинают печатать по-белорусски. Загляните в наш секретариат, может, вы окажетесь нужны». Через несколько дней я наведался в секретариат, где меня встретила Анна Ильинична Цыпина, старая газетчица. Выслушала меня и сказала, чтобы я написал заявление о приеме на работу. И непременно на белорусском языке. Прочитав заявление, она нашла в нем не слишком много грамматических ошибок. И я был зачислен в штат редакции на должность корректора белорусского издания. Но в корректорской я проработал недолго, вскоре меня перевели в секретариат.[142]
Начиналась новая страница моей биографии. Казалось, что я выхожу на новую прямую. Но это только казалось. Впереди меня ожидали очередные выкрутасы судьбы, дьявольские козни всё той же военщины, которая упрямо не хотела выпускать меня из своих железных объятий. Но пока всё было хорошо, спокойно, работа в редакции мне нравилась. Сотрудники почти все были либо приезжие, либо из демобилизованных. Демобилизованные ходили в военном обмундировании, только без погон. Отделами заведовали недавние армейские политработники, за единственным исключением: отделом сельского хозяйства заведовал вчерашний офицер Войска Польского, майор Петр Борейка. (В Войске Польском служили, как известно, граждане СССР, поляки по происхождению.) Командовал он своими литработниками, как солдатами на фронте – энергично и напористо, особенно усердствуя в тот период, когда проводилась сплошная коллективизация на землях Западной Беларуси. Естественно, что с такими кадрами корректорам и стиль-редакторам работы хватало, и наш ревизионный корректор Микола Овчаров постоянно конфликтовал с ними, отстаивая «священные нормы» русской грамматики. Микола был достаточно грамотный и довольно образованный человек, но ужасно невезучий. В начале войны попал в плен, хлебнул горя полной мерой, а когда в самом конце войны освободился из концлагеря, выпил на радостях «не того» спирта и едва не ослеп. В добавок ко всему оказалось, что его жена не стала ждать пропавшего без вести мужа и вышла замуж за полковника-чекиста. А когда ей предъявили фотографию Овчарова, который вернулся из плена и должен был доказать, что он – это он, она заявила, что не знает человека, изображенного на фотографии. Доказывать смершу, что он, Овчаров, действительно Овчаров и никто иной, что его бывшая жена лжет, ему пришлось долго, – я тому свидетель. Обосновавшись в Гродно, он вместе со своей новой женой построил хибару из битого кирпича и старых трухлявых досок среди руин бывшего еврейского гетто. В той хибаре я бывал у него в гостях.
Моим коллегой по секретариату редакции был Георгий Цветницкий, по возрасту он был немного старше меня.[143] Коренной горожанин, Цветницкий отличался от приезжих широким кругозором, настоящей культурой: он был воспитан на русской и польской классике, на русском и польском искусстве, старом, разумеется, досоветском. И хотя высшего образования у него не было, он знал несколько языков и вообще, как мне казалось, знал абсолютно всё. Если у кого-нибудь из газетчиков возникал тот или иной вопрос, на который не было ответа в Большой Советской Энциклопедии, то обращались к Георгию Алексеевичу. Кроме того, он, пожалуй, единственный в редакции разбирался в полиграфии, умело верстал газету, размечал шрифты, – в этом он был незаменим.
Изрядную долю моего рабочего времени отнимал перевод на белорусский язык материалов ТАСС, которые в редакцию передавало по телетайпу Белорусское телеграфное агентство (БелТА). Большинство этих материалов были пространные – разного рода постановления, речи партийных бонз. И всё с пометкой «Срочно! В номер!» Я диктовал их с листа чуть ли не единственной в редакции машинистке, которая хорошо знала белорусский язык – Станиславе Фаддеевне. Время от времени я писал небольшие заметки для отдела информации, а однажды дома, в выходной день, накропал первый свой рассказ – о последнем дне войны. Замредактора А. Соловьев, которому я дал прочесть рассказ, отозвался о нем одобрительно: «Очань значытельна!» Эта похвала вдохнула в меня веру в какие-то свои литературные способности, но следующий рассказ я написал не скоро. Причиной тому были немаловажные обстоятельства.
В те годы, обычно в начале лета, начинались военные сборы солдат и офицеров запаса. Получил повестку и я. Пошел к заместителю редактора: «Что делать?» Тот говорит: «Дадим тебе бумагу с просьбой к военкому, чтоб тебя не забрили. С ней к нему и пойдешь». Пришел я к военкому, сунул ему бумажку от редакции. Тот глянул и стал раздраженно ворчать: «Каждый приходит с бумажкой – освободите!.. А кого я пошлю? Мне 140 человек надо набрать, что мне самому за вас идти?» И сидит над бумажкой, держит над нею ручку, колеблется, какую резолюцию наложить? Я чувствую, что[144] решается моя судьба, и говорю: «Если не освободите, то редактор будет звонить в обком партии». А вот этого-то и не следовало говорить, но воистину, слово не воробей, вылетело – не поймаешь. Полковник швыряет ручку, отбрасывает бумажку и кричит: «Ах, в обком? Плевать мне на ваш обком, у меня – вот он, на столе! – приказ министра обороны. Его я и выполняю. Всё! Иди! Отправишься на сборы!»
Так несколько необдуманных слов определили содержание моей жизни на целый ряд последующих лет.
Назавтра явился на сборы – в палаточный лагерь в лесу, неподалеку от деревни Грандичи, на берегу Немана. Те сборы отняли у меня все три летних месяца. Обычные армейские порядки, занятия по артиллерийскому делу.
В начале осени – экзамены, которые мне «посчастливилось», вернее, угораздило сдать на пятерки. Пожалел об этом очень скоро.
Вернувшись со сборов, получил в редакции краткосрочный отпуск – перевести дух. И вдруг встречаю на улице знакомого офицера, одного из тех, что командовали на сборах. Спрашивает: «Ну что, Быков, гуляешь?» – «Гуляю, а что?» – «Повестку еще не получил?» – «Какую повестку?» – «Какую, какую! Скоро получишь!» Сказал и распрощался. И, действительно, через день вызывают меня в военкомат: «Распишитесь на этом документе!» Смотрю – выписка из приказа министра обороны о зачислении лейтенанта Быкова В. В. в кадры Советской Армии. Явка в часть через три дня. Ну, что тут будешь делать? Пошел к главному редактору – так, мол, и так, помогите. Но тот молча развел руками. Пришлось собирать «кружку, ложку, котелок». Часть, в которую я должен был явиться, находилась в Слониме.
В мире начиналась широкомасштабная «холодная война» с перспективой перерасти в горячую. Советскому Союзу потребовалось больше солдат и офицеров. Слонимская артиллерийская бригада преобразовывалась в дивизию и, конечно же, без артиллериста лейтенанта Быкова никак было не обойтись.
Армию застал почти той же, какую покинул два года назад. Лишь разговоры об угрозе со стороны Запада стали более мрачными,[145] нагнетали обстановку опасности, а так прежние несуразицы, тупая муштра, нехватка всего самого необходимого – от транспорта до шинелей. (Половину зимы ходил в ватнике с наскоро пришитыми погонами на плечах.) Более свирепым стал режим секретности, такого не было даже в годы войны. Засекречены были все наставления, инструкции, приказы. Если для проведения занятий требовалось какое-либо наставление (а оно требовалось каждый день), надо было утром получить его под расписку в секретной части, а вечером сдать. Было немало путаницы, неразберихи, и несколько офицеров на этом погорели. Один из наших комбатов, чтобы каждый день не бегать в штаб за наставлением, кое-что переписал из него в свой блокнотик. И потерял его в поле во время занятий. Правда, блокнотик этот не был зарегистрирован, и комбат особенно не беспокоился. И, бывает же такое, блокнотик нашел какой-то колхозник и сделал доброе, как он думал, дело: отвез блокнотик в Слоним, в штаб дивизии. Там быстро установили, чей это блокнотик, и через месяц с комбата сняли погоны.
Зиму я прослужил в Слонимской дивизии, квартировал в Альбертине у милой старушки. Ежедневно осточертевшие полевые занятия, в мороз, в метельную непогодь, – зима выдалась суровая. Наконец – долгожданная весна, пригрело солнышко, и Быков получает новый приказ: отправиться для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток.
Дальневосточный отрезок моей жизни остался в памяти как что-то уродливое, ирреальное, нелепое.
С одной стороны, обычная солдатчина, казенщина, тупая муштра, с другой – совершенно иной климат, экзотическая природа, совсем не похожая на всё, что видел прежде. И весь уклад тамошней жизни иной, непривычный, резко отграниченный от европейского. Всё это усугубляло тяготы солдатчины, делало ее невыносимой.
После долгого путешествия по железной дороге через Урал и всю Сибирь, после продолжавшегося целый месяц томления в казармах Второй Речки под Владивостоком (в тех[146] самых казармах, где в конце 30-х годов был пересыльный лагерь заключенных, в котором умер русский поэт Осип Мандельштам), после путешествия по Японскому морю в душном твиндеке грузового судна прибыл, наконец, на место своего назначения – в поселок Головнино на южной оконечности острова Кунашир. Прибыл я туда не один – с женой, Надеждой Андреевной, недавней выпускницей Гродненского пединститута, которая вынуждена была отправиться со мной в неведомые дальние края.
С моря поселок Головнино выглядел деревушкой: низенькие избушки, разбросанные по берегу на фоне величественной, поросшей лесом горы с японским названием Тятя-яма. (Любопытно, что яма по-по-японски – гора. Когда-то Тятя-яма была вулканом.) С берега в море врезался деревянный пирс, на котором стояли несколько солдат, встречавших судно. Солдаты сказали мне, где находится штаб полка, куда я должен был явиться.
На этом диком, гористом, заросшим елями и бамбуком острове мне суждено было промучиться целых три года…
Нашим с Надеждой Андреевной жильем была тесная каморка в деревянном, из досок, как все здешние строения, домике. Вместо стульев – деревянные ящики, крышка одного из ящиков была прикреплена к подоконнику и служила столом. Посреди каморки стояла железная печурка с проржавевшей жестяной трубой, выведенной в подстрешье. (Однажды из-за этой ржавой трубы загорелась гонтовая крыша, но, к счастью, это увидел хозяин домика, который шел домой со службы, и пожар сразу был потушен?) Домик стоял на самом берегу океанского залива, волны Великого Тихого океана плескались у подворья. Правда, залив, на берегу которого стоял поселок, был не очень глубокий, полный морских водорослей, которые во время отлива толстым ковром устилали черный прибрежный песок. Иногда море выглядело красивым, особенно в погожие дни, но таких дней было мало, почти постоянно бушевали штормы, в студеную пору мело снегом – поселок заметало по самые железные трубы. Неуютно, недобро выглядел Великий океан, а с противоположного берега Кунашира видны были суровые заснеженные горы японского острова Хоккайдо.[147] За ним тоже было море, а уж за ним Азиатский материк и где-то далеко-далёко – Европа. Беларусь грезилась в невообразимой дали, становилась миражом в необъятной морской пустыне, и от этого чувства непреодолимой отдаленности часто сжималось сердце. И не только у меня. Порой случались самоубийства, особенно среди молодых солдат и молодых офицеров. Многие мои сослуживцы недоумевали: «Почему? В чем причина?» Я знал, почему. Абсолютная оторванность от привычного быта, от родной природы, одиночество, насильственная отрешенность от цивилизованного (европейского) мира были той психологической причиной, которая толкала наиболее ранимые, чуткие натуры на самоубийство. Спасти от этого психологического сиротства могла бы дружба, землячество. Но в Головнино нашелся лишь один мой земляк, солдат Барсукевич, родом из-под Гродно, – с ним мы изредка перебрасывались парой слов на родном языке. Но вскоре судьба разлучила меня с Барсукевичем.
На первых порах там, в Головнино, во мне еще возникали какие-то литературные устремления, пробуждалась уже полузабытая тема войны. Написал несколько рассказов и отправил их в Минск, в редакцию журнала «Полымя», на имя Михася Лынькова, прозу которого любил издавна. Почему-то подумалось, что отзыв Лынькова будет положительный. Довольно быстро (всего лишь через три месяца) получил ответ – подробный разбор моих рассказов на нескольких страницах. Как я теперь припоминаю, рассказы были довольно слабые, и Михасю Тихоновичу потребовалось немало такта, чтобы сказать о них то, чего они стоили, и в то же время не задеть авторское самолюбие. Автор это почувствовал и перестал писать. Надолго.
Заедала рутина службы: занятия, занятия, занятия… Наряды… Досмотр оружия и техники… Особенно угнетала политподготовка – святое дело в Советской Армии. Впрочем, рутинные обязанности службы и даже политзанятия отошли на второй план – почти всё лето 1950 года ушло на перевозку боеприпасов. Огромные океанские сухогрузы чуть ли не каждую неделю появлялись на нашем рейде,[148] и мы на лодках-кунгасах переправляли доставленные сухогрузами ящики с боеприпасами (тысячи ящиков) на берег, затем отвозили их в глубь острова в специальные хранилища. Судя по всему, наше командование готовилось к новому Порт-Артуру.
22 июня 1950 года началась корейская война, и однажды нас подняли по тревоге, вывели на тихоокеанское побережье. Там мы вырыли окопы, а затем стали строить укрепления – блиндажи, бункеры, огневые позиции, НП и КЧ. Со дня на день ждали нападения американцев, которые вмешались в корейскую войну. Начальство требовало усовершенствовать линию обороны, накрывать блиндажи, бункеры и НП бревнами, глубже закапываться в землю. Но где было взять бревна? Леса нам не отпускали, а самовольных порубщиков, которые валили пихты и сосны, лесничество вылавливало и штрафовало. Офицеры матерились, платили штрафы, а начальство знать об этом не хотело и ужесточало требования – всё должно быть построено по всем правилам военной инженерии. И так всё лето, и зиму, и снова лето. И в очередную осень.
Летом была хотя бы связь с материком, приходили пароходы, завозили провизию. А осенью рейсы прекращались – шесть месяцев остров был отрезан от страны. Питались одними консервами, пили 95-градусный спирт, который продавался в рыболовецких кооперативах (его отпускали из железных бочек). К весне кончался и спирт, и тогда опытные выпивохи переходили на одеколоны, лосьоны, всякие технический жидкости вроде антифриза.
Командиры были разные, преимущественно ветераны войны, но появлялись и молодые – выпускники офицерских училищ. Ветераны безропотно тянули привычную армейскую лямку, выслуживали пенсию, а молодежь, оказавшись в дальней глуши империи, порой роптала, служить не хотела. Как мой младший товарищ Лешка Климов. Он всю жизнь готовился стать офицером – окончил Суворовское училище, затем офицерское, а когда мечта его сбылась, понял, что совершил ошибку. Однако начальство этого не понимало и пресекало Лешкино бунтарство жесткими дисциплинарными взысканиями – выговорами и гауптвахтой.[149]
Полком командовал старый служака, герой минувшей войны, человек, в общем, толковый, но малограмотный. Малограмотный даже в военном деле, чем нередко пользовались его молодые подчиненные. Прикажет он сделать то-то и то-то, а ему спокойно говорят: это противоречит уставу. Надо так и так. Полковник с минуту раздумывал, а затем соглашался: пусть будет по уставу. На самом деле устав не требовал ни того ни другого, полковника просто обманывали.
Однажды произошел случай, который показал, кто в полку главный.
Пропал куда-то один мой солдат – не было его на завтраке, не явился и на обед. И никто не знал, где он. Это уже было ЧП, и я пошел докладывать начальству. Когда я вошел в кабинет командира полка, там находились несколько офицеров, в том числе и полковой особист. Я доложил: так, мол, и так. Исчез солдат. Командир полка подумал с минуту и говорит: «Подождем до вечера». И тут вскакивает особист, капитан по званию, и начинает орать на командира полка, старого полковника: «Что значит – подождем?! Немедленно организовать поиск, выделить группу перехвата! Он, может, уже на дороге к японцам, измену Родине замыслил! Уйдет – у всех нас головы с плеч полетят!» Полковник молча выслушал капитана и пожал плечами, что означало: поступайте так, как того требует капитан. А солдат отыскался после обеда – он просто уснул от усталости в траве за артпарком. Однако, следует сказать, что страх особиста не был напрасным, у нас уже были случаи перехода отдельных военнослужащих в Японию. Зимой на японскую территорию по ледяным торосам залива перебежал пограничник. Второй побег, вернее, попытка побега была летом. (Здесь надо заметить, что на острове была не только наземная пограничная служба с ее заставами, но и морская, которая осуществлялась пограничными катерами.) И вот однажды к нашему пирсу причалил пограничный катер, и солдаты, находившиеся на пирсе, увидели, как пограничники волокут с катера на берег какой-то мешок, в котором что-то круглое. Солдаты подумали, что в мешке капуста, и вдруг услышали голос: «Привет, ребята,[150] вот я и дома!» Оказалось, что в том мешке доставили очередного беглеца, который попытался добраться до японского берега вплавь…
Свою чекистскую бдительность капитан-смершевец показывал полку не один раз. И боялись его больше всех. Комполка мог выругать, посадить на гауптвахту, не представить к присвоению очередного звания. А смершевец мог изуродовать человеку жизнь. И уродовал, не взирая на звания и репутации.
Однажды (это было еще в самом начале моей службы на Кунашире) я рано утром отправился на пирс встречать катер из Южного Курильска – катер этот должен был привезти отремонтированную в городе стереотрубу. Оказалось, что трубу не привезли, она все еще в ремонте, и я сошел с пирса на берег. И вижу капитана-особиста, следом за которым идет другой капитан, начальник штаба батальона, почему-то в шинели со споротыми погонами, то есть без погон, с маленьким чемоданчиком в руке. За ним идет солдат с автоматом ППШ на изготове. Все трое быстро спустились по сходням к катеру и скрылись в рубке. Это было странно, потому что начальника штаба я не далее, чем вчера, видел на полковом совещании офицеров. Что могло случиться за ночь? Прошло несколько дней и на очередном совещании комполка объявил, что капитан Аверьянов арестован за антисоветские высказывания. А вскоре стало известно, что это были за высказывания. Оказывается, капитан недавно проспал развод на занятия (будильник подвел, не зазвонил), и начштаба, матюкнувшись, помянул недобрым словом «стахановское производство». Облаял он «стахановщину» громко, и его слова услышал через фанерную стенку сосед, начальник артиллерии батальона. И, конечно же, «стукнул». Капитану влепили 5 лет лагерей…
СМЕРШ у нас лютовал как нигде. Спецуполномоченных этой службы в полку было целое подразделение, и все они даром хлеб не ели, шуровали во всю. Их «хитрый домик» находился аккурат между казармой и солдатским сортиром – в целях удобства и экономии времени. Оконца в том домике светились до поздней ночи…[151]
Поначалу я был назначен командиром взвода управления огнем, оборудовал наблюдательный пункт, вел дежурство и наблюдение за определенным сектором океана. На том же НП находился и командир батареи, молодой, но бывалый майор-фронтовик с пятью орденами на груди. Был он одинок. Жена его бросила, уехала на материк, и стал майор соломенным вдовцом. Выпивал с тоски, но не слишком. В остальном был дисциплинирован и слушался начальства. И вот однажды, во время моего дежурства по полку, в курилке во дворе штаба ко мне подсел капитан-смершевец. До этого я с ним один на один не встречался ни разу. Ну, подсел, закурил, и спрашивает, какие у меня отношения с моим комбатом? Говорю, нормальные. А смершевец, помолчав, говорит: «А вы знаете, что он был в плену, а потом служил в полиции?» Это меня поразило – я знал, что майор всю войну был на фронте, в противотанковых частях, то есть в самом пекле. Но ему везло – ни разу не был ранен. Но если то, что говорит смершевец, правда, почему майор до сих пор не арестован, почему он командует батарей? Так я подумал, но не проронил ни слова, – разве можно сомневаться в правдивости смершевцев? Они ведь знают о каждом абсолютно все, сквозь землю видят наше прошлое. И даже наше будущее.
Как раз в это время во всех частях дальневосточного военного округа (а может, во всей Советской Армии) шла проверка офицерских кадров. То и дело на полковых совещаниях зачитывали приказы командования о разоблаченных злоумышленниках. Запомнился один из приказов, в котором говорилось об одном сержанте, выдавшем себя за командира полка, – тот сержант был его ординарцем. Комполка был убит в бою, ординарец ранен. Он взял документы убитого, а в госпитале сказал, что это его собственные документы, что он и есть комполка. После излечения он получил в командование полк и командовал им до самого Дня Победы. И, должно быть, неплохо командовал, если заслужил на этой своей должности три ордена. Да и полк был награжден. На суде у самозванца спросили: «Как же вы, не имея военного образования, смогли командовать полком, да еще во время сражения?» Сержант-полковник ответил: «Очень просто: комбаты[152] у меня были герои! Вызову, накручу им хвосты, да так, что они бегут в атаку, как угорелые».
Офицеры на совещании, выслушав этот приказ, реагировали по-разному. Старослужащие возмущались: «Наглец!» Молодые ехидничали: «А что? Главное, чтобы были под рукой хвостатые герои!»
Однако настал и мой черед на проверку. Как-то после занятий вызывает меня помначштаба по учету кадров и молча дает прочитать секретную бумагу. Написано в ней, примерно, следующее: «Согласно учету личного состава такой-то армии, лейтенант Быков В. В. числится убитым 7.01.44-го года и похороненным в братской могиле возле деревни Большая Северинка Кировоградской области. Потребовать от лейтенанта Быкова В. В. объяснений данного факта. Материалы дознания выслать не позже 17 сентября сего года…»
Помначштаба улыбается: «Ну, пиши, как ты выбрался из братской могилы». Но шутки шутками, а писать пришлось. И не один раз. Затем потребовали, чтобы я назвал свидетелей своего ранения под Северинкой, чтобы представил документы из госпиталя. Однажды вызвал меня к себе смершевец – для него тоже написал объяснение. Но смершевца интересовало лишь одно: был ли у меня контакт с противником после моего ранения, когда я валялся на поле боя? Что ж, был у меня контакт – целую ночь пролежал я рядом с трупом немецкого офицера. Но я не счел нужным рассказывать об этом смершевцу.
Знаменательно отношение к этому казусу о моей якобы гибели со стороны политорганов полка. Если раньше полковой парторг несколько раз заводил со мной разговор о том, что негоже мне быть беспартийным, то после проверок моей персоны он оставил меня в покое. Даже не заикался на сей счет. Чему я был рад, потому что беспартийность открывала для меня определенные перспективы. А вступи я в партию – полный тупик. Я всё же мечтал вырваться на волю…
Как во все времена, божьим наказанием в армии были ЧП (чрезвычайные происшествия). Особенно для младших[153] офицеров. То какой-нибудь солдат утонет, другой свалится в пропасть вместе с грузовиком, кто-то сам себя убьет наповал во время чистки оружия (гибель по неосторожности). Кто-то напьется вусмерть. А отвечать за всё командирам.
У меня один солдат ранил другого. Неплохой солдат, старательный. Стоял на посту возле орудия. Стемнело, и двое бойцов понесли ему на пост ужин. Приблизились, а часовой, как положено по уставу, крикнул: «Стой! Пропуск!» Те в ответ: «Перловка, Хакимов! Перловую кашу тебе несем!» А тот опять: «Пропуск! Стрелять буду!» И бабахнул, хотя и в полной темени, без промаха, прострелил сослуживцу ляжку. К ответственности его не привлечешь – действовал по уставу.
Уставы! Устав караульной службы, например, требовал, чтобы у командира, который проверяет посты, часовые требовали удостоверение личности. А на кой ляд его требовать, если этого командира солдаты знают целых два года, видят его каждый день. Но – так положено!.. Один из командиров полка нашей дивизии находил садистское удовольствие в издевательствах над дежурными на КПП (контрольно-пропускной пункт): по несколько раз входил в ворота. Войдет, выйдет и снова войдет. И горе тому солдату, который не проверит у него документы. Обычно к вечеру переставали проверять, на этом и попадались. В лучшем случае получали выговор. Любопытно, что кадровые офицеры не считали эту бессмысленную проверку документов глупостью. Спросишь: а зачем это? Ответ заученный раз и навсегда: так положено. А по здравому смыслу? Молчат. Так положено – и всё, дальше этого никаких мыслей. Что до здравого смысла, то он, как говорил один знакомый комбат, в армии никогда не ночевал.
Самым положительным качеством командира считалась строгость, обязательная для всех, начиная с ефрейтора и кончая полковником. Строгость и требовательность. Многие только на ней и держались, а то и делали карьеру – на демонстративной строгости и неукоснительном следовании уставам. Порой это граничило с жестокостью, принимало бесчеловечные формы.[154]
У моего комбата испортились отношения с начальством, прежде всего из-за того, что он «закладывал». И он решил восстановить репутацию. Однако сделал это, опять же, «под градусом». Выпив, явился на батарею и объявил сбор в землянке НП. Солдаты артиллерийских расчетов спросили, брать ли противогазы? Комбат сказал: «Как хотите», хотя по уставу солдат в боевой обстановке обязан был быть при всем своем снаряжении – навьюченным, как ишак. А кому хочется быть ишаком? Некоторые солдаты явились на НП с противогазами и прочим, некоторые только с винтовками. Комбат запер всех в землянке и объявил газовую атаку. Для ее имитации зажег дымовую шашку.
Та шашка и погубила всю его не только репутацию, но и карьеру.
Шашка оказалась новой модификации, разработанной учеными мужами ВПК (военно-промышленного комплекса), – она не проста дымила, но и поражала органы дыхания. Солдаты, не взявшие с собой противогазы, потеряли сознание, почти бездыханными их потом вытаскивали из земляники. Разразился скандал. Политорганы стали на уши. И, разумеется, за расследование инцидента взялся СМЕРШ. Вскоре комбата вызвали в политотдел, якобы для доклада, и в полк он больше не вернулся…
Примерно в то же время, когда всё это случилось, ко мне на мой НП, откуда я наблюдал за морем (не покажется ли американский десант), зашел молоденький лейтенант К., командир взвода. Его, как и меня когда-то, недавно избрали комсоргом. Что и стало причиной его личной трагедии. Лейтенант, еще не будучи комсоргом, женился на девушке, отец которой, опять же недавно, был репрессирован «компетентными органами», а дочь отказалась от него отречься. И теперь от комсорга требовали: либо разведись, либо сдай партбилет. Лейтенант был подавлен, мучился, не зная, как быть. От меня он пошел в поселок, купил там спирта, выпил, уже дома, лег на постель и застрелился. Хоронили его ночью, тайком, на старом японском кладбище,[155] где уже стояли несколько фанерных пирамидок с красными звездочками, – это были могилки наших солдатиков, которым суждено было лечь в чужую землю…








