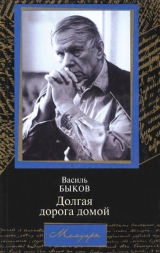
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
К вечеру минометный обстрел прекратился. Командир батальона капитан Смирнов приказал всем нам построиться в колонну и повел по одному ему известному маршруту. После того, как мы перестали слышать выстрелы и разрывы, почувствовали себя свободнее, да и на душе стало поспокойней. И вот, идем по большаку, петляющему между снежными сугробами.[64] Довольно светло, хотя луны еще не видно. Я шагаю вместе со вторым взводным, который недавно прибыл в роту. Он – старший лейтенант, артиллерист, из окруженцев. Поэтому и послали в пехоту – на перевоспитание. Впереди – комбат, чуть поодаль – разведка, а мы – в середине колонны. Можно расслабиться. Бой глухо гремит где-то, в стороне, а вокруг нас вроде тихо. Вдруг смотрю – рядом, в невысоких зарослях, замелькали какие-то фигуры. Я еще не успел толком их разглядеть, как одна за другой полоснули автоматные очереди – трассирующими по всей колонне. Кинжальный огонь. Тут черт знает, что началось… По приказу комбата в случае нападения наша рота должна была разворачиваться слева от дороги, а другие – справа. Но как действовать в такой неразберихе? Я поначалу тоже вместе со всеми упал на снег. Сжимая автомат, пожалел, что у меня лишь один диск. Почему остался с одним – это целая история.
Перед наступлением наша рота получила ручной пулемет и небольшое пополнение из солдат, набранных в тыловых подразделениях. Прибывший с пополнением батальонный писарь был вооружен автоматом. Правда, без патронов…
Но сначала несколько слов о пулемете. Когда мы начали строиться в колонну, его никто не захотел брать. Особенно новоприбывшие, те, что из Средней Азии. Бормочут: «Моя ни бельмеса… моя ни бельмеса…» И ни в какую, сколько ни кричи. Да и другие отказываются: мол, в армии до войны не служили, не знаем, как из него стрелять. Ну, заставил взять пулемет плечистого дядьку, чтоб хоть нес: не оставлять же. А тут писарь стоит, гугнявит: дескать, что мне у вас делать, патронов нет, буду только путаться под ногами. Хитрован! Хотел, наверно, чтоб его назад в штаб отослали. Комроты всё понял. «Быков, – говорит мне, – отдай ему запасной диск. Чтоб не ныл!» Ну я и отдал. Сам остался с тем, что был в моей ППШ. А в роте у нас больше ни одного автоматчика – все с винтарями. На лишний диск рассчитывать не приходилось. Словом, отдавать не следовало. Это было моей ошибкой.
А может, и спасением, как оказалось позже.[65]
Итак, лежу в снегу и вижу: дела наши – швах. В зарослях – танки. Сколько их там, в полутьме не разберешь – может четыре или пять. Может, еще больше. Вот уже, рыча моторами и строча из пулеметов, они движутся на нас. А между ними – автоматчики, кричат на бегу: «Рус, сдавайся!» Так они всегда кричали, когда загоняли нас в какую-нибудь ловушку. Ну, а я по ним из своего ППШ – короткими и длинными. Задал жару. Патронов только хватило ненадолго. Оглянулся – наши далеко. Рядом лишь те, что уже не двигаются. Лихорадочно решаю: лежать или вскочить? Пролежу еще хоть минуту – возьмут живым. Вскочу – сразу укокошат. Что выбрать?
Но мне снова повезло. Немцы начали стрелять по тем, кто успел отбежать дальше, поблизости от себя целей они уже, должно быть, не видели. Я отрываюсь от ледяного наста, стремительно делаю три – пять шагов и падаю ничком. И снова отрываюсь, и – рывком вперед… Немцы вроде остались позади. К тому же я научился узнавать, когда они стреляют по мне. Если трассы замелькают вокруг, – ложись. Если отклонились в сторону, – вскакивай и беги. Но именно тогда, когда я бежал, мне показалось, что кто-то с размаху ударил палкой по моей ноге. Я повалился на снег. В сапоге сразу стало горячо, это полилась кровь. Первая мысль: перебило ногу. Если так, значит, всё, кончился ты, Быков… Но нет, нужно проверить. Через несколько секунд тяжело поднимаюсь и со страхам жду: не подломится ли нога. Похоже, не подламывается. Только очень болит, и в сапоге уже что-то хлюпает. Еле стою. Кроме автомата с пустым диском, на мне еще полевая сумка и две гранаты. Одна из них противотанковая, кумулятивная, – штуковина, прямо скажем, несуразная. Во-первых, велика и тяжела, далеко не бросишь, во-вторых, с вывертами: нужно, чтоб она обязательно упала на броню своим донцем – иначе не проломит. Достичь этого помогает вложенный в рукоятку ленточный стабилизатор. В общем, бросать такую гранату очень неудобно. Испытал на себе, когда танк подкатил совсем близко. То ли я не попал в него, то ли не добросил гранату и она не взорвалась, – сказать не могу. Но из танка меня заметили, и он решительно повернул[66] в мою сторону. О том, что произошло дальше, рассказывать можно долго, но там счет шел на секунды… Ужом закрутился я на снегу и еле успел уберечь ноги от надвинувшейся танковой гусеницы. Она всё-таки придавила полу шинели и обдала снежней пылью. А вдруг повернется и… Я уже распрощался было с жизнью. Но вижу: недалеко от танка, который едва не раздавил меня, кто-то поднимается во весь рост с гранатой в руке и размахивается так, что аж в воздух взлетает полевая сумка. Такая сумка была только у ротного, лейтенанта Миргорода. Он! Раздался взрыв. Танк остановился, густо зачадил и через мгновенье был объят огнем.
Надо мной засвистели пули. Это, должно быть, наши стали стрелять по выпрыгнувшим из люка танкистам. А я, пользуясь внезапно возникшей дымовой завесой (танк продолжал гореть) то боком, то по-пластунски пополз вслед за своими. Тут подбегает ко мне ротный санинструктор, говорит, что видел, как меня ранило, и хватает за плечи: не ползи, мол, куда подались все наши – немцы туда и целят, бери вправо, к лощинке. С его помощью выбрался я на тропку и сполз в лощинку. Санинструктор стянул с моей ноги сапог и достал из сумки бинт. Рана оказалась сквозной, пуля пробила голень и, как потом сказали врачи, отломила кусочек кости. Ногу совсем не перебило, поэтому в первый момент я еще мог встать, но боль была нестерпимая. Недаром из-за этой раны провалялся в госпитале с января по март – около трех месяцев. Никак не заживала…
Забыл еще сказать, что, когда я убегал от надвигающихся танков, передо мною разорвался снаряд, выпущенный одним из них, и меня что-то сильно ударило в живот. Вгорячах показалось: осколок. Ранение в живот – что может быть страшнее? А тут еще весь живот мокрый: не поймешь – от пота ли, от крови… Только чуть позже разобрался: не осколком шарахнуло – волной ударной. А санинструктор сделал перевязку и оставил меня в лощинке. Помочь мне выбраться оттуда и доставить в тыл было некому: в нашей армии бойцам запрещалось покидать поле боя для сопровождения раненых. А сам наш полевой медик кинулся туда, где у горящих скирд шел бой. В том бою, как мне рассказывали, и его,[67] склонившегося над солдатом-бедолагой, скосила пулеметная очередь… Многих не досчиталась тогда наша рота, в том числе и своего командира, лейтенанта Миргорода. А меня подобрали случайно. Просто поблизости проезжала санитарная повозка с ранеными. Хоть она была не нашей части, но у девушки-санитарки оказалось доброй сердце, и через минуту я уже лежал рядом со стонущими солдатами в окровавленных бинтах. На этой повозке и въехал в большое село с возвышавшейся посередине церковью. Здесь девушка у кого-то спросила, где санчасть, куда везти раненых? (Что было дальше, описано в повести «Мертвым не больно».)
В хате, где разместили раненых, оказался среди них мой однокашник по училищу. Мы договорились утром выбираться отсюда вместе. Ухаживала за ранеными молодая санинструкторша, боевитая деваха вроде моей Кати. Ночью мы даже выпили немного: нашлось у кого-то. Нашлась и закуска – хлопцы обнаружили в подпечке кроликов и стали их резать. Хоть и раненые, а есть хочется. Ближе к ночи у меня разболелась нога, и я прилег на лавке, так что кроликов без меня резали. Только уснул – кто-то меня будит, – открыл глаза и вижу, что это наш комбат капитан Смирнов. Спрашивает: «Ты ранен? Ходить можешь?» Говорю: «Нет». Хотя кое-как шкандыбать мог. Он вздохнул: «Вот, собираю батальон…» Закурил, погрелся немного и ушел. Я опять задремал и проснулся от того, что всё ходуном ходит, страшный обстрел. По селу бьют минометы, слышно, что и танковые орудия тоже стреляют, – звук отрывистый, короткий. Я испугался: прикрытия у нас никакого, мы же в своем тылу. Выходит, прорвались немцы!.. Раненые встревожились, стали по одному выползать на улицу. А там мчатся повозки, кони несутся вскачь, ржут – обозчики удирают. Мой однокашник, младший лейтенант, говорит: «Давай к церкви поедем, за ней – через поле – наши».
Как-то выбрались мы с ним из хаты, но до церкви не дошли, нас сразу же обстреляли. Я говорю: «Там мы не пройдем».[68] И вернулся в хату, младшой пошел один. А минут через пять дверь открывается, и однокашник мой появляется на пороге. Кровавая пена изо рта, на горле – две раны. Хрипит, что-то хочет мне сказать – и падает. Через минуту умер у меня на руках.
Прошел, наверно, час, и в хате остались только те, кто не мог ходить, остальные поразбегались. Я понял, что немецкие танки вошли в село, что мне тут не отсидеться. А нога распухла и болит еще больше, чем прежде. Не ступить. Что делать? Что ж, пополз. Выполз во двор, а во дворе погреб был, и, вижу, какой-то пожилой боец подает мне из погреба, в котором прятался, пачку автоматных патронов и комулятивную гранату, такую же, какую я недавно бросил в танк, за что он меня чуть не раздавил. Патроны я не взял, в пистолете у меня была полная обойма и одна в запасе. А гранату взял. Проверил, есть ли в ней взрыватель? Есть… Подумал, что эта граната вряд ли меня спасет, что мне конец… И выполз на улицу. А там – никого. Должно быть, наши оставили село. Но танки на другом конце села всё стреляют и стреляют. И вдруг появляется на улице пароконная повозка с пятью солдатами. Мчится во весь опор. Оперся на левую руку, приподнялся, правой размахиваю гранатой, кричу, чтобы остановились. Если не остановятся, думаю, швырну в них гранату!.. Черта с два они остановились – пронеслись мимо. А бросить в них гранату я не решился. Но внезапно повозка всё же остановилась – метрах в пятидесяти от меня. Нашлась среди тех пятерых солдат добрая душа. Боец в полушубке спрыгнул с повозки, побежал ко мне, подбежав, схватил под мышки и потащил к повозке. И вот я в ней. И понеслись кони!..
Из-под носа у танков вырвались мы из села в поле. Но танки и не спешили нас догонять, – стреляют из пушек по тем, кто драпал далеко впереди. Танковые снаряды шуршали над нашими головами. Я обеими руками держался за борт повозки и смотрел назад, на село. Церковь… Наша санчасть неподалеку от нее… Один из танков вдруг останавливается и с улицы бьет по мазанке санчасти из пушки. Дважды бабахает пушка. И мазанка исчезает в облаке дыма и пыли. Очевидно, те, кто оставался в санчасти, обстреляли танк или[69] бросили в него гранату. Вот он с ними и расправился. По всей видимости, эту картину наблюдал откуда-то мой комбат Смирнов, который ночью приходил в санчасть в поисках тех раненых, которые могут вернуться в строй. Должно быть, комбат решил, что я погиб в той мазанке, ведь ночью я сказал ему, что не могу ходить. И на меня оформили «похоронку». Тем более, что в тот полк, в свой батальон я не вернулся.
Есть у меня еще одна версия происхождения «похоронки». Дело в том, что на то поле разгромленный наш полк не возвратился, ушел по приказу командования в другом направлении. Тела убитых остались в степи, их замело снегом. Весной, когда снег стал таять, крестьяне Большой Северинки подобрали и свезли трупы в село, чтобы похоронить в братской могиле. И, очевидно, возле одного из трупов была найдена моя полевая сумка с документами. Вот и решили, что «подснежник», возле которого валялась сумка, – Василий Быков.
Позже на братской могиле в Северинке поставили обелиск, начертали на нем ряд фамилий убитых, тех, при ком нашлись документы. В том ряду была и моя фамилия.
В моей военной жизни было еще несколько случаев, в чем-то похожих на этот. О них я рассказал в повести «Мертвым не больно». Это не единственная у меня автобиографическая повесть, в которой ничего не выдумано – всё правда. Но именно потому, что – правда, повести мои подвергались ожесточенным нападкам со стороны приверженцев соцреализма. Могу с полным основанием утверждать: правда была главным врагом этого печально-известного метода. Ее старательно отслеживал и стремился вытравить весь государственно-партийный институт издателей, редакторов, рецензентов и критиков. В то время, как партийные идеологи провокационно агитировали: «Пишите правду!» – сами они и их прислужники яростно боролись с нею. Сколько авторов испытали это на себе! Писатели, искренне откликавшиеся на партийные призывы, – «горели», а лакировщики и откровенные лжецы – преуспевали.
Возвращаюсь к своему рассказу. Выручили меня наши танкисты, погрузили на броню и повезли неведомо куда. Была[70] светлая зимняя ночь, и в небе не замедлили появиться немецкие пикировщики. Как только они заходили на бомбежку, водители нажимали на тормоза, и выпрыгнувшие наружу экипажи прятались под своими машинами, чтобы успеть отбежать, в случае если те загорятся. А я не мог даже слезть с брони, лишь крепче держался за какую-то решетку – могло сбросить ударной волной. Но во время одной особенно сильной атаки с неба, когда разом вспыхнули и сгорели две тридцатьчетверки, не выдержал и скатился на мерзлую землю. А снова взобраться на танк уже не сумел. На то, что я исчез, никто не обратил внимания. Танкисты влезли в свои машины и продолжали путь. А я заполз в мазанку, что белела у самой дороги. В темноте чьи-то руки помогли мне влезть на низкую кровать. Я нащупал на стоявшем рядом столе чугунок, а в нем – свеклу и впился в нее зубами. Немного утолив голод, ощупью же обнаружил, что на кровати я не один: пальцы попали во что-то теплое и мокрое. Но выяснять, кто лежит рядом, не было сил. И я тотчас провалился в сон. На рассвете смотрю: да это же немец, оберлейтенант. Мертвый, холодный уже. Одеревенел даже. А ведь ночью был вроде еще живой…
Утром, когда взошло солнце, опять загрохотало всё кругом. Выстрелы, разрывы, крики. А у меня, видно, поднялась температура. То ли от боли, то ли от недосыпа я не очень хорошо понимал, что происходит, тем более, что голова буквально раскалывалась от захлебывающихся очередей. Как тут определишь, кто в селе – наши или немцы. Стрельба слышалась сначала в одном конце, потом в другом. И вдруг всё стихло. Тишина на войне всегда пугает. Думаю: ждать нечего, надо выдвигаться. Ну и выдвинулся – дополз до сеней. Около двери – огороженный досками закром с мелкой картошкой, скорее всего кормовой. Я прилег на нее и вынул пистолет из кобуры. Слышу: кто-то бегает по улице, по дворам. Но говорят не по-нашему. Всё ясно!.. Дверь закрыта. Но, если ее открыть, то я тут же, за нею. Может, чуть сбоку. Не успел подумать: она – настежь. Немец! Одной рукой за скобу держится, в другой – автомат. Глаза наши встретились. Уложить его из пистолета – секундное дело. А ему, чтобы дать[71] очередь, нужно перебросить автомат в правую руку. Мгновения… Я не нажал на спусковой крючок, а он не перебросил свой «шмайсер», отпустил дверную скобу – и опрометью на улицу…
На картошке я пролежал, наверно, не меньше часа. За это время немцы из села, как видно, ушли, потому что послышалась наша речь и зашумели наши машины. Но откуда и куда они едут, – кто скажет? Я снова сделал вылазку и попытался остановить какую-нибудь полуторку или ЗИСа. Напрасно! Глядь, бензозаправщик тянется. Поднимаю руку. Куда там! Прет без остановки. Только далеко не укатил. У развилки его немцы трассами перекрестили. Вспыхнул, как факел.
Добрая душа нашлась и здесь. Меня в конце концов подобрали и довезли до железнодорожного переезда. Там повстречались мне стрелки и группа разведчиков. Несмотря на отчаянную боль в ноге, решил шкандыбать с ними. Перед тем, как идти, затянули в будку, вернее, в железнодорожную казарму, в которой, по-видимому, жили путевые рабочие. А там – страх один: лежат человек пятнадцать наших убитых… Оказывается, танкисты вчера свезли сюда своих раненых, а по «железке» ходил немецкий бронепоезд – это же еще был их тыл (в ходе боев всё сместилось и перемешалось – слоеный пирог). Так вот, на рассвете в казарму зашли немцы из бронепоезда и всех раненых расстреляли. «А вы, хлопчики, мотайте отсюда, – сказал нам оставшийся в живых путевой рабочий. – Эти черти могут вернуться». А куда идти? Позади – «железка» с бронепоездом, слева, за оврагом, – немцы, похоже, окопались, чуть поодаль – шоссе, по которому одна за другой едут крытые немецкие машины, видно, драпают из Кировограда. А перед нами – минное поле. Указатели предупреждают: «Minen». В спешке не успели снять. У нас одна дорога – через него. Старший лейтенант, командир разведчиков, и говорит: «А ну, вперед! Кто первый?» Своих, что в белых маскхалатах, посылать не хочет. Послал раненого в голову пехотинца. Тот сделал несколько шагов и – подорвался. Следующим был тоже парень из пехоты. Но на этот раз подорвался не он, а солдат в маскхалате, из команды старшого.[72] Он шел, кажется, четвертым. След в след. И вот – на тебе… А я, сильно кульгая, брел пятым… Судьба!
Пройдя, наконец, минное поле, мы добрались до высоких заснеженных скирд. Закопались в солому, сидим, наблюдаем. Действительно, через некоторое время слышим: идет бронепоезд. Он останавливается на переезде, из него выходят автоматчики и направляются в нашу сторону. В поле, которое мы только что прошли, я еще раньше заметил две брошенные машины, думал: они подорвались на минах. Но, видимо, ошибся. Автоматчики подошли к ним и стали что-то делать (может, заминировали), а потом возвратились в свои бронированные вагоны.
Вдалеке гремит бой – сполохи до самого горизонта. Там всё горит и рвется. Здесь же, около скирд, тихо и, кроме нас, – никого. И вдруг, совсем неподалеку на подмерзший и накатанный большак приземляется, вынырнувшая из низких облаков, «рама». Из самолета вылезает немец и, подняв капот, начинает копаться в одном из двигателей – верно, хочет устранить какую-то неисправность. Один из разведчиков говорит старшему лейтенанту: «Давайте захватим „раму“. Я авиамеханик. Смогу взлететь». Предложение, прямо скажем, рискованное. Но решили рискнуть. Знали: до ночи в скирде досидеть не удастся. На захват отправились трое в белых маскхалатах: по ним ведь не сразу определишь, чьи солдаты. Не дошли они до «рамы» шагов, может, пятьдесят, как те, что стояли около нее, насторожились, что-то крикнули. Наши ребята стали нерешительно топтаться на месте, один из них вскинул автомат. В этот момент на самолете разворачивается пулеметная турель, и как полоснут оттуда крупнокалиберными… Словом, потеряли этих троих. А «рама», рыча моторами, покатила по большаку и поднялась в небо.
Так дотянули мы до ночи и лишь тогда вышли на поиски. Светила полная луна, и на снегу было заметно каждое движение. Натерпелись страху. На этот раз старший лейтенант первым послал меня, и я закульгал, опираясь на чью-то винтовку. Мы пересекли шоссе, которое уже было пустынным, и через несколько километров добрались до села, где были наши части.[73]
…Хата, занятая санчастью, вздрагивает от близких разрывов. «Юнкерсы» пикируют и здесь. Все ждут, чтобы поскорее вывезли в тыл. Хозяйничает в санчасти девушка в медицинских погонах: она выписывает «карточки переднего края» и руководит погрузкой. Но машин мало, люди нервничают, стонут. А когда очередь доходит до меня и выясняется, что я из другой дивизии, девушка строго заявляет: «Карточки не дам!» Но ведь без нее в госпиталь не примут. Что делать? Я в растерянности. Однако новый налет всё меняет. Бомбы рвутся рядом, в хате вылетают окна, и строгая медичка, стряхивая с себя осыпавшуюся штукатурку, поспешно выписывает нужную мне бумагу. Теперь можно и в госпиталь. Но на чем? Транспорта не предвидится. Вместе с сержантом, раненным в руку, вываливаемся на улицу. Там пусто. Но вот к нам приближается «виллис», и мой напарник громко и радостно кричит: «Коля!» За рулем – его знакомый. Какая удача! К вечеру я был уже в армейском госпитале в Александрии.
В сравнении с передовой любой госпиталь может показаться курортом. Не был исключением и тот, в который я попал. Он размещался в центре города, в здании школы. Меня помыли в бане, прожарили в вошебойке мое обмундирование, кишевшее вшами, дали чистое белье. Госпиталь был переполнен. Мест для раненых, как всегда, не хватало. На двух офицеров – одна койка. Помню, соседом моим был лейтенант-танкист со знаменитой фамилией Ворошилов «С Ворошиловым лежал», – не без иронии рассказывал я позже. Госпиталь этот принадлежал 5-й танковой армии, и потому в нем преобладали танкисты – раненые, обгоревшие, разные. На обгоревших смотреть было невозможна. Особенно на их лица. Ожоги очень болят и долго заживают. Люди мучаются, выходят из себя, ругаются по всякому поводу с соседями, сестрами, начальством. А начальство – доктора – почти сплошь женщины. Пожилые и молодые. Мужчины – в основном политруки. Они каждый день талдычут одно и то же – ведут свою навязшую в зубах пропаганду. Разжигают[74] ненависть к немецко-фашистским захватчикам. Этой ненависти у нас и самих сверх всякой меры. И не только к фашистам. Некоторые раненые, не сдерживаясь, матерят больших и малых командиров, и тогда в палате нередко возникает крутой и откровенный разговор. А вечером или ночью в ней появляется офицер из СМЕРШа, и чересчур откровенного раненого куда-то забирают. Несмотря на пропаганду да и наши собственные чувства, на передовую никто не рвется: всё-таки в госпитале тепло, тихо и безопасно. Голодновато, конечно, на тыловом пайке. Но к голоду в нашей жизни все мы были уже привычны.
Раненые, еще жившие недавними боями, часто говорили о них, вспоминали подробности, гибель товарищей. В палате я услышал немало горьких слов насчет «порядка в танковых войсках», узнал о качестве и боевых возможностях наших танков и противотанковых средств. Так про сорокапятку мои соседи говорили, презрительно ухмыляясь, для них это было не средство борьбы с танками, а просто «хлопушка». А вот о немецких «тиграх» и «фердинандах», которые с дальних дистанций успешно прошибали нашу броню, рассказывали серьезно и даже завистливо. Установленная на тридцатьчетверке 76-миллиметровая пушка их не брала, а они из своей 88-миллиметровой навылет пробивали болванками наши машины. А мы-то, дураки, наслушавшиеся политбесед, считали, что советская тридцатьчетверка – лучший танк в мире. Послушали бы поклонники и пропагандисты этой боевой машины, что говорят те, кто горел в ней, кто, обожженный и раненый, выползал из расколотой и рвущейся брони! А ведь лучшими считались не только советские танки, но и устаревшие винтовки образца прошлого века, и ППШ – автомат, скопированный с финского, который выпускался там еще в 1934 году, и, разумеется, наша суконная шинелка на «рыбьем меху». Что уж говорить про фронтовые госпиталя, о которых с болью и гневом писал впоследствии Виктор Астафьев! Главным лекарством в них была ихтиолка – черная вонючая мазь, с помощью которой лечили почти все раны. Хорошо, если рана чистая. А если в ней земля, остатки грязного обмундирования?… О пенициллине ведь тогда мы даже не слышали.[75] Одна надежда была на хирургов. Резали они беспощадно, и тем спасли немало жизней. Кормежка в госпиталях немногим отличалась от фронтовой, разве что еду давали горячей, – каша перловая, реже – пшенная, суп с перловкой или вермишелью, хлеб и традиционный чай. (На фронте мы удивлялись, что немцы пьют кофе – напиток, который дома никто из нас даже не пробовал, он казался противным и напоминал разведенную сажу.)
Офицеров, попадавших в госпиталя, старались разместить хоть в каких-то зданиях, палатами для солдат нередко служили бывшие конюшни, коровники и свинарники. Их очищали от навоза, настилали солому, а поверх нее набрасывали плащ-палатки. Раненые лежали не раздеваясь, собственные шинели и ватники заменяли им одеяла. Отопление налаживали из подручных средств. На проходах обыкновенно ставили печку, сделанную из бочки из-под солярки или бензина, и топили ее круглые сутки. Кое-как отогревшись, отоспавшись и немного придя в себя, люди начинали знакомиться друг с другом, искать, кому выложить то, что накипело на душе, даже в карты играть. А кое-кто и запел. При мигающем свете коптилки не раз приходилось слышать под тихий перебор струн то какую-нибудь знакомую довоенную песенку, то солдатский фольклор, горький и бесстрашный. Особенно популярной здесь была переделка известной песни, памятная всем фронтовикам: «Первая болванка попала в бензобак, выскочил из танка сам не знаю как… А наутро рано ведут в особотдел: „Почему ты с танком вместе не сгорел?“ Очень виноватый, я им говорю: „В завтрашней атаке обязательно сгорю!..“ Любо, братцы, любо, любо, братцы жить, – в танковой бригаде не приходится тужить!»
Как только немного зажила рана на ноге, я начал выходить в город. Неподалеку от госпиталя было что-то вроде небольшого базара, где продавали махорку, семечки, молоко, горячую картошку. Но вот купить я ничего не мог. У меня не оказалось ни денежного аттестата, ни вкладной книжки, а, значит, и денег выдать мне никто не имел права. На передовой они мне были не нужны, но здесь… Недолго думая, я[76] загнал свою овчинную безрукавку и на вырученные деньги прежде всего купил бутылку самогона. Чуть позднее на этот же базар отнес теплые ватные брюки – близилась весна, холода отступили. Я уже надеялся вот-вот распрощаться с госпитальной койкой, но рана моя то заживала, то открывалась вновь. И всё-таки срок выписки был уже недалек, и я стал тревожно думать о том, как и где найду свою дивизию. В госпиталь из нее никто не поступал. Это и неудивительно: он же был другой армии. Да и обстановка на фронте всё время менялась. Я внимательно следил за тем, что там происходило. Этому помогали рассказы раненых, которых с каждым днем привозили всё больше. Особенный наплыв был после того, как наши форсировали Буг и в сводках появились сообщения о широком наступлении на юге. В эти дни госпиталь переместился под Знаменку. И снова: солдат – в бывший колхозный хлев, офицеров – в здание сельской школы. Там впервые получил легкий душистый табак и начал курить. Мне шел двадцатый год, а я до этого еще ни разу не свернул самокрутку, не задымил папиросой. «Позор для советского офицера!» – посмеивались надо мною прокуренные вояки. И я решил использовать табак по назначению, а не для обмена, как раньше.
Наконец, накануне очередного переезда госпитальные врачи распрощались со мной. Мне и еще одному выздоровевшему офицеру-танкисту – младшему лейтенанту Товакину – вручили предписания: прибыть в отдел кадров 5-й танковой армии. Добираться до него пришлось на своих двоих, с трудом догонял наступающий фронт. Шли от села к селу, ночуя там, где заставала темнота. Там и кормились, если удавалось.
Тогдашние украинские села, ограбленные дважды, коллективизацией и войной, жили не богаче белорусских. Их, пожалуй, только меньше разрушили немцы: в тех краях не было партизан. Обычно, когда мы появлялись на пороге, хозяйка начинала причитать: «Ай, што ж я вам дам исты, в мене тильки фасоля ды бараболя!» Нам, проголодавшимся, было всё равно: лишь бы поскорее что-нибудь поесть. Кое-где, правда, подносили и стаканчик пахучей и мутной самогонки,[77] выгнанной из свеклы, – мы были рады и ей. Повсюду – на дорогах и в селах – мы с Товакиным искали свои части. И вот однажды мой напарник случайно напал на след своего танкового корпуса. Дальше мне с ним было не по пути: я же не танкист. И потому продолжал поиски уже в одиночку. А ранняя весна брала свое – снег на Украине в том году сошел еще в феврале. Большаки и проселки превратились в сплошное грязное месиво, в котором тонули и машины, и сапоги. Вязкий украинский чернозем отрывал подошвы, и мои кирзачи, что называется, оскалили зубы. А раненая нога, промокнув, всё чаще напоминала о себе. Шел через силу. А на дорогах, куда ни глянь, – войска, войска войска… Одни колонны двигаются на север, другие – на запад, третьи – на юг. Сразу не разберешь, кто куда. Где тут моя дивизия, мой полк?
Долго идти без отдыха я не мог и поэтому делал в пути короткие привалы. Во время одного из таких привалов я сидел на неразмытой кочке у дороги и смотрел, как, выдираясь из грязи, тяжело топает пехота. За нею показались передки с пушками. И тут на одном из передков я увидел усатое лицо. Оно показалось мне знакомым. Пригляделся: так и есть, старший лейтенант, взводный, с которым я расстался в ту ночь, когда был ранен. Я к нему: куда и откуда? Как оказался здесь? Тот смотрит с удивлением: «А чего особенного? Вместе со всеми. Я ведь никуда не выбывал. Только вот перешел в батарею…» Но где, спрашиваю, наша дивизия? «А вот она, – говорит и показывает на тонущую в грязи пехоту. – Перебрасывают на другой участок фронта». Ка-ак? Передо мной прошел мой полк, и я не смог его узнать – ни одного знакомого лица. «Да, почти никого не осталось, – со вздохом сказал старший лейтенант, посочувствовав мне. – А вообще-то зачем тебе возвращаться в нашу дивизию? Очень она невезучая. Ее всегда бьют. Поищи другую…» (Наивный человек! Он, очевидно, полагал, что где-то есть «везучие» дивизии.) Но тогда и я еще верил в такую возможность и последовал его совету.
Через день в уцелевшей от обстрелов и бомбежек усадьбе я нашел штаб 4-й гвардейской армии, предъявил там свои[78] документы и, заполнив неизбежные анкеты, получил предписание убыть в 252 сд. Вышел из штаба в отличном настроении. Вокруг не было слышно выстрелов, шла передислокация, только в одной стороне подозрительно громыхало, словно тяжелым пестом непрерывно толкли что-то в большой ступе. Я спросил у встречного офицера, где искать 252-ю стрелковую? Тот внимательно взглянул на меня и показал рукою именно в ту сторону, откуда доносился перекатывающийся орудийный гром. И я немного пожалел, что не пошел со своей «невезучей» дивизией, которая передислоцировалась еще в тылу. Но было уже поздно.
В тот же день в штабе 252 сд меня назначили командиром взвода 45-миллиметровых пушек стрелкового полка.
Через день я уже попал в одну из безжалостных огневых сшибок, от которых отвык за госпитальные месяцы. Заново привыкать было нелегко. Но обстоятельства заставили делать это в ускоренном темпе. Сначала на нас навалились немецкие танки, а когда мы поспешно меняли позицию, – налетели «юнкерсы» и разбомбили батарею.
Произошло это так. Мы отстали от ушедшей вперед пехоты. Надо было догонять ее боевые порядки. Прицепили к передкам наши пушки и двинулись. Дорогу нам преградил виноградник. Огибая его, выехали на большак. В этот момент они и спикировали. Бомба с первого «юнкерса» изломала у одной сорокапятки станины с сошниками, разнесла передок, ранила коня, который всё еще судорожно пытался подняться. Два других пикировщика обрушились на уцелевшую пушку, которую ездовые изо всех сил тащили по краю виноградника. Немецкие летчики сначала обстреляли их из пулеметов, убили коней, а теперь охотились за орудием. Один заход, другой – и сорокапятки как не бывало. Солдаты, спрятавшиеся в лозе, погибли, двух ранило, снаряды с передков раскидало по всему винограднику. А мы с капитаном, командиром батареи, лишь надорвали глотки от крика, а сделать ничего не смогли. Через каких-нибудь пять минут всё было кончено.[79] От батареи остались двенадцать солдат, комбат и я. Солдат отправили в стрелковые батальоны – на пополнение. Капитан и я задержались на командном пункте, ожидая приказаний. Настроение у меня – хуже не придумаешь: только пришел в «везучую» дивизию, и на тебе – снова разгром. Зато мой комбат не грустит: он получил новое назначение – начальником артиллерии соседнего полка. А начарт – это не командир батареи, поднимай выше. И риск минимальный – жив будешь.








